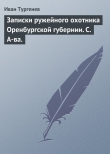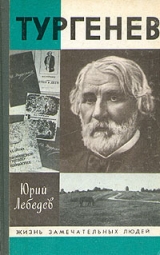
Текст книги "Тургенев"
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 46 страниц)
Заграничные скитания. Вести из России
В Париже Тургенев сразу же направился в пансион госпожи Аран, где училась его дочь Полина. Прошло около шести лет с тех пор, как восьмилетней девочкой он посадил ее на пароход и отправил на чужбину. Из переписки с Виардо он знал, что девочка выросла способной и делала успехи в музыке. «Ты не представляешь, как я буду рад услышать сонату Бетховена в твоём исполнении», – писал Тургенев Полине в Париж. Писал он ей часто и, как подобает отцу, испещрял свои письма советами и наставлениями. Но эти письма не могли заменить дочери живого общения, не могли восполнить отсутствие матери и отца.
– Полина, – спрашивал Тургенев, – неужели ты ни слова русского не помнишь? Ну, как по-русски вода?
– Не помню.
– А хлеб?
– Не знаю...
Это было горько и противоестественно, тем более что, теша избалованную французскую публику, другая Полина – Виардо-Гарсиа – пела на сцене по-русски алябьевского «Соловья». Фет вспоминал: «Окружающие нас французы громко аплодировали, что же касается до меня, то это неожиданное мастерское, русское пение возбудило во мне такой восторг, что я вынужден был сдерживаться от какой-либо безумной выходки».
Осень Тургенев вместе с дочерью провел в Куртавнеле, за исключением недельной отлучки в Лондон для свидания с Герценом.
Шесть лет прошло с тех пор, как они расстались в тревожные послереволюционные дни 1850 года. Вспоминали революционный Париж, сожалели о том, как он изменился теперь. Тургенев рассказал Герцену, что в 1851 году парижский муниципалитет, имея в виду анти-бонапартистские, республиканские взгляды Луи Виардо, распорядился воздвигнуть на улице Дуэ колоссальную статую Наполеона в виде Прометея работы скульптора М. Мёнье. Этот псевдоантичный герой с мускулистым торсом и увенчанной лавровым венком огромной головой незрячими глазами уставился прямо в окна их дома. Тургенев испытывал какой-то мистический ужас и отвращение при виде этих пустых глаз. И только крылья ветряных мельниц на холме, приходившиеся при взгляде снизу как раз над головой истукана, как-то смягчали общее безрадостное впечатление.
Герцен говорил о духе мещанства и буржуазности, охватившем Францию, да и всю Европу. Великие идеалы «свободы, равенства и братства» преданы поруганию. «Вы любите европейские идеи, и я люблю их. Это идеи всей истории. Россия с ними и только с ними может быть введена во владение той большой доли наследства, которая ей достаётся. Но жизнь современнойЕвропы несообразна этим идеям. И наивно думать, что идеи Европы, не находящие осуществления дома, уже нигде не осуществятся. Нет! Пример Америки, усвоившей англо-саксонский идеал, наглядно это опровергает. А как перешло наследство Египта и Индии – Греции и Риму? Я прожил здесь шесть лет не зря, они меня убедили, что творческая способность западных народов истощилась... Вне Европы, которая остановилась и гниет, есть лишь два деятельных края: Америка и Россия – и может быть Австралия. Остальное всё спит или бьется в судорогах».
Тургеневу показалось, что его друг слишком сгущает краски: в его отрицательном воззрении на Западную Европу много односторонности, такой взгляд потрясает верования, еще необходимые для России; западное просвещение, наука, свободные общественные учреждения, демократия, – всё это для России не реальность, а идеалы будущего. А во взгляде на крестьянский быт Герцен сделал еще более решительные шаги в сторону славянофилов.
«У славян, – говорил он, – есть верное сознание живой души в народе, есть чаяние будущего века». Правда, их учение о крестьянской общине слишком консервативно. «Попадись этим господам в руки власть, они заткнут за пояс третье отделение». Но зерно их учения – верно и даст свои всходы в будущем. В основе нашей народной жизни лежит сельский «мир» – с разделением полей, с коммунистическим владением землею, с выборным управлением... Все это находится в состоянии подавленном, искаженном, но все это живо и пережило худшую эпоху. Александр II уничтожил аракчеевские поселения, эпоха военного деспотизма проходит. Сердиться на прошедшее – дело праздное; живой взгляд нужен вперед. Военные поселения проходят, но села остаются: «общинное владение землею, мир и выборы составляют почву, на которой может возрости новая общественная жизнь, которой, как нашего чернозема, нет в Европе».
Тургенев и Герцен остались каждый при своем мнении, и разговор перешел к политике Александра II. Начало его царствования внушало смутные и противоречивые чувства. В августе 1855 года вновь назначенный министр внутренних дел, граф С. С. Ланской, издал странный циркуляр. Бывший масон и член «Союза Благоденствия» писал в нем, что государь повелел ему «ненарушимо охранять права, венценосными его предками дарованные дворянству». Крепостники возликовали – либералы повесили головы. Однако в манифесте 19 марта 1856 года, изданном по случаю заключения невыгодного и унизительного для России Парижского мира, появились слова, дающие либералам некоторую надежду. Все обратили внимание на следующую фразу: «каждый под сению законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодом трудов своих». И когда Александр II приехал в Москву в августе 1856 года, граф Закревский, трепещущий крепостник, попросил государя выступить перед московскими дворянами и успокоить их относительно вызванных манифестом «опасных слухов». Александр согласился и произнес импровизированную речь:
«Слухи носятся, – сказал государь, – что я хочу объявить освобождение крепостного состояния. Это несправедливо, а от этого было несколько случаев неповиновения помещикам. Вы можете сказать это все направо и налево. Я не скажу вам, чтобы я был совершенно против этого; мы живем в таком веке, что со временем это должно случиться. Я думаю, что и вы одного мнения со мною; следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу».
Такая речь оказалась неожиданной и для Ланского, но на недоуменный вопрос его Александр II ответил: «Да, говорил точно то и не сожалею о том!» В день коронации 26 августа 1856 года новый манифест был отмечен целым рядом либеральных послаблений: на три года прекращены рекрутские наборы, отменены все казенные недоимки, амнистированы политические преступники – ссыльные декабристы получили, наконец, возможность вернуться в Европейскую Россию. Ходили слухи о том, что намечается учреждение секретного комитета по проведению крестьянской реформы.
В этих условиях было не до споров, не до разногласий. Герцен тепло отозвался о тургеневском романе «Рудин». Пора избавиться от несчастной русской страсти к словам, на которых любят с самодовольством останавливаться: как будто достаточно решиться что-нибудь сделать, чтоб дело и было сделано. Пришло время действовать, поддерживая каждый шаг правительства вперед.
Итоги дружеской встречи Герцен подвел в очередном выпуске «Полярной звезды» в статье «Ещё вариации на старую тему», обращенной к «любезному другу»: «Не станем спорить о путях, цель у нас одна, будемте же делать все усилия, чтобы уничтожить все заборы, мешающие у нас свободному развитию народных сил... На работу, на труд, – на труд в пользу русского народа, который довольно, в свою очередь, поработал на нас!»
Именно этот призыв к единству, к сплочению всех антикрепостнических сил казался Тургеневу наиболее отвечающим сути и задачам того исторического момента, который переживала Россия. В Лондоне, куда приехал только что и друг Герцена Н. П. Огарев, обсуждался вопрос об издании революционной газеты «Колокол». Тургенев согласился быть постоянным и тайным её корреспондентом. Перед «Колоколом», первый номер которого вышел в 1857 году, ставилась задача обличения высшей правительственной бюрократии, неосуществимая в России под контролем цензуры. Тургенев, знакомый со многими высшими сановниками, имевший доступ в придворные и дипломатические круги, был для Герцена и Огарева незаменимым помощником.
Осенний Куртавнель живо напомнил Тургеневу уединенные дни, проведенные здесь в творческой работе над «Записками охотника». С тревогой замечал он, как за семь лет изменилась Полина, как постарел его друг Луи. Да и Тургенева парижские друзья встретили невольными возгласами удивления: побелела голова, холодные серебряные нити матовым блеском светились в его бороде.
«Мне здесь очень хорошо, – писал Тургенев Толстому, – я с людьми, которых люблю душевно и которые меня любят». Разыгрывались домашние спектакли, отцовское сердце радовалось успехам дочери, принимавшей в, них самое живое участие. По вечерам за круглым столом играли в «портреты»: Тургенев или Полина Виардо рисовали профили разных людей, а потом все участники игры пытались давать им развернутые характеристики, физиогномические описания. Игра была настолько увлекательной и так обостряла профессиональное искусство Тургенева-писателя, что многие характеристики он сберегал, используя потом в своих романах. С наслаждением и самозабвением погружался Тургенев в стихию музыки. Словом, ему было хорошо, как форели «в светлом пруде, когда солнце ударяет по нём и проникает в воду».
Фет посетил Тургенева в Куртавнеле именно в этот наиболее счастливый момент его жизни. Приятеля не было дома: он охотился с Луи Виардо в окрестностях Куртавнеля. Полина пригласила Фета в ожидании охотников прогуляться вокруг старого замка.
«День был прекрасный. Острые вершины тополей дремали в пригревающих лучах сентябрьского солнца, падалица пестрела вокруг толстых стволов яблонь, образующих старую аллею проселка, которою замок соединен с шоссе. Из-под скошенного жнивья начинал, зеленея, выступать пушистый клевер; невдалеке, в лощине около канавы, усаженной вербами, паслись мериносы; на пригорке два плуга, запряженные парами дюжих и сытых лошадей, медленно двигались друг за другом, оставляя за собою свежие, темно-бурые полосы. Когда мы обошли по полям и небольшим лескам вокруг замка, солнце уже опустилось к вершинам леса, разордевшись ярким осенним румянцем...
Версты за полторы раздались выстрелы.
– А! Это наши охотники возвращаются. Пойдемте домой через сад...
Мы подошли к лощине, около которой паслось стадо мериносов.
– Babette! Babette! – закричала одна из девочек, шедшая с англичанкой.
На голос малютки из стада выбежала белая коза и доверчиво подошла к своей пятилетней госпоже. Около оранжерей вся дамская компания рассеялась вдоль шпалер искать спелых персиков к обеду. Опять раздались выстрелы, но на этот раз ближе к дому...»
Желая сколько-нибудь оправдать в глазах хозяев свой приезд, Фет громко спросил при встрече:
– Тургенев! неужели вы ни словом не предупредили хозяйку о моем приезде?
На что мадам Виардо шутя воскликнула:
– О, он дикарь!
Вечером за столом велась неторопливая беседа, политическая и литературная. Луи Виардо говорил о последних стихотворениях Гюго и, восхищаясь их поэтической силой, читал на память. Тургенев тайком подмигивал Фету из своего угла: Гюго он не жаловал, но в споры с Виардо по этому поводу, очевидно, не вступал.
Потом из-за стола все отправились в гостиную, хозяйка села за рояль, и долго чудные звуки Моцарта и Бетховена раздавались в умолкшей, потемневшей комнате. Запомнились Фету серебряные голоски девушек, читавших вслух роли из Мольера, приготовляемого к домашнему спектаклю. Тургенев довольно улыбался, вслушиваясь в звонкий голос четырнадцатилетней девочки, весьма мило читавшей стихи и очень похожей на Ивана Сергеевича.
Фету не могло не броситься в глаза, что во взаимоотношениях совершенно седого Виардо и сильно поседевшего Тургенева, несмотря на их дружбу, ясно выражалась приветливость полноправного хозяина, с одной стороны, и благовоспитанная предупредительность гостя, с другой.
Оставшись с другом наедине, Тургенев начал разговор о дочери. Очевидно, её судьба очень тревожила его.
– Заметили ли вы, – спросил он, – что дочь моя, русская девочка, до того превратилась во француженку, что не помнит даже слова «хлеб», хотя вывезена во Францию уже семи лет? Я понимаю, что это противоестественно, но что делать... В её двусмысленном положении внебрачной дочери в Россию лучше не возвращаться.
Но еще хуже другое. Начальница пансиона, госпожа Аран, жаловалась мне: «И наказать её нельзя, и на ласку не поддается». Упрямится, дичится; из всех своих сверстниц сошлась только с одной – некрасивой, загнанной и бедной девочкой. Остальные барышни, большей частью из хороших фамилий, не любят её, язвят и колют как только могут. Да и в семье мадам Виардо она смотрит дичком и, что для меня особенно невыносимо, кажется, не любит свою благодетельницу. Иногда я просто не знаю, что мне делать с Полиной, как быть? На днях вдруг она начала уверять меня, что я стал к ней холоднее прежнего, что она одного меня любит. И при этом расплакалась... А когда взяла себя в руки, заявила, что она очень дурная: плохо играет на фортепиано, не умеет рисовать, – что у неё вообще нет никаких способностей: такая у нее «деревянная голова».
То вдруг начала приставать с вопросами: «Скажите, что я должна читать? Скажите, что я должна делать?» Поинтересовался, в чем причина, а она мне ответила: «Я все буду делать, что вы мне скажете, только не заставляйте меня одного: целовать руки мадам Виардо». Кажется, что она с ревностью смотрит на мои отношения с Виардо, и всякие знаки внимания и любви вызывают в ее душе неприятные чувства. Она в эту минуту становится дерзкой, ведет себя вызывающе, грубо отвечает на вопросы Виардо, не подчиняется ее требованиям. Я ожидал встретить свою дочь счастливой в милой для меня семье. А что получается на деле? Что я увидел? Дочерям госпожи Виардо Полина кажется чудачкой, они называют ее «мальчиком в юбке», «сумасшедшей», «злой»... А Полина, в свою очередь, призналась мне, что не любит этих «дурочек и кукол»!
– Иван Сергеевич, – возразил Фет, – поймите одно: эти девочки не умеют да и вообще не смогут пощадить уязвленную гордость вашей дочери. Напротив, в любой подходящий момент они будут давать ей почувствовать всю разницу между ней и ими. Иначе и быть не может – в любой семье. У вас один выход – изолировать девочку, взять ее из чужого семейства, найти ей преданного друга, хорошую наставницу-гувернантку, а Вам – проявить максимум внимания к несчастному существу, насильственно вырванному из родной почвы. И, наконец, Вы должны, просто обязаны вернуть дочери свою фамилию, послушайте человека, который до сих пор под всеми деловыми бумагами ставит подпись: «К сему иностранец Фет руку приложил»!
Тургенев прислушался к советам друга, и в 1857 году написал дочери следующее письмо:
«Моё дорогое дитя,
прошу тебя впредь подписываться «П. Тургенева» и передать госпоже Аран, чтобы это имя писалось всюду, где речь идет о тебе».
А. А. Фет за границей чувствовал себя плохо, тосковал о России. В Куртавнеле с Тургеневым он отводил душу: читали стихи Кольцова, обсуждали литературные новости. Но когда речь зашла об ожидающих страну переменах, мнения их резко разошлись. Тургенева рассердил консерватизм Фета: начался спор на таких повышенных тонах, что перепугались французы-хозяева. «Впоследствии мы узнали, – рассказывал Фет, – что дамы в Куртавнеле, поневоле слыша наш оглушительный гам на непонятном и гортанном языке, наперерыв восклицали: «Боже мой! они убьют друг друга!» И когда Тургенев, воздевши руки и внезапно воскликнув: «Батюшка! Хри-ста-ради, не говорите этого!» – повалился мне в ноги и вдруг наступило взаимное молчание, дамы воскликнули: «Вот, они убили друг друга!»
Ироничный и проницательный Фет по отдельным штрихам подметил, что Тургенев не очень уютно чувствовал себя в кругу этой полуфранцузской, полуиспанской семьи. Так оно на сей раз и было: отношения с Полиной Виардо складывались драматично. Годы разлуки сделали свое дело: они отдалили Полину от русского друга, «несносного дикаря и чудака», благоговейного обожателя её таланта, её певческой славы. Двусмысленное положение Тургенева в ее доме вызывало ненужные толки в парижских салонах. Но главная причина охлаждения Полины была, конечно, в другом: она увлеклась тогда немецким дирижером Юлиусом Рицем...
Идиллическая осень завершилась ударом в самое сердце. Отголоски его слышатся в «Дворянском гнезде», в описании душевного состояния Лаврецкого после разрыва с неверной женой Варварой Павловной:
«Лаврецкий взял карету и велел везти себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками: он то безумствовал, то ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяб и зашел в дрянной загородный трактир, спросил комнату и сел на стул перед окном. Судорожная зевота напала на него. Он едва держался на ногах, тело его изнемогало, а он и не чувствовал усталости, – зато усталость брала свое: он сидел, глядел и ничего не понимал; не понимал, что с ним такое случилось, от чего он очутился один, с одеревенелыми членами, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой незнакомой комнате...»
Драматические ноты глубокого разочарования в жизни зазвучали в письмах к друзьям: «О себе говорить не стану: обанкрутился человек – и полно; толковать нечего. Я постоянно чувствую себя сором, который забыли вымести». «Да, любезнейший Павел Васильевич, – тяжелую я провел зиму, такую тяжелую, что, кажется, в мои лета уж и не след бы...» «Темный покров упал на меня и обвил меня; не стряхнуть мне его с плеч долой».
Проведя зиму в одинокой, холодной парижской квартире, потрясенный, выбитый из колеи Тургенев нажил мучительную болезнь, еще более усугубившую переживаемую им духовную драму. О возвращении в Россию нельзя было и мечтать: он нуждался в срочном лечении. Летом Тургенев отправился в курортный немецкий городок Зинциг, уничтожив все записи, все планы задуманных произведений. К физическим недугам прибавилось изнуряющее чувство пустоты, творческого кризиса, полной человеческой беспомощности. Он искал уединения...
Городок ему понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн. Он любил бродить по городу теплыми июльскими вечерами, смотреть на величавую реку и размышлять о своих отношениях с Виардо, с дочерью, просиживая долгие часы на каменной скамье под одиноким ясенем.
Однажды после вечерней прогулки он шел домой, уже ни о чем не размышляя, но со странной тяжестью на сердце, «как вдруг его поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах». Тургенев остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил ему родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Ему захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь в чужой стороне между чужими?» – подумал он, и мертвенная тяжесть, которую он ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волненье».
Это было начало повести «Ася», наиболее полно передающей тургеневские раздумья о судьбе дочери, о своей несчастной любви, о потерянной, как ему казалось, жизни.
«Обнимаю тебя за повесть и за то, что она прелесть как хороша, – писал Некрасов. – От неё веет душевной молодостью, вся она – чистое золото поэзии. Без натяжки пришлась эта прекрасная обстановка к поэтическому сюжету, и вышло что-то небывалое у нас по красоте и чистоте. Даже Чернышевский в искреннем восторге от этой повести». Некрасову вторил Панаев: «Повесть твоя – прелесть. Спасибо за нее: это, по-моему, самая удачная из повестей твоих. Я читал ее вместе с Григоровичем, и он просил написать тебе, что внутри у тебя цветет фиалка».
Последняя фраза заставила Тургенева горько улыбнуться. Знали бы они, далекие друзья, какая «фиалка» цвела тогда в горемычной его душе. Вспомнились стихи Некрасова, которые тот написал перед отъездом Тургенева за границу и посвятил ему:
Ты счастлив. Ты воскреснешь вновь;
В твоей душе проснется живо
Все, чем терзает прихотливо
И награждает нас любовь —
Пора наград, улыбок ясных,
Простых, как молодость, речей,
Ночей таинственных и страстных
И полных сладкой лени дней!
Счастливец! из доступных миру
Ты наслаждений взять умел
Все, чем прекрасен наш удел:
Бог дал тебе свободу, лиру
И женской любящей душой
Благословил твой путь земной...
Помнится, при расставании эти стихи польстили сердцу Тургенева. Теперь же воспоминание о них наполняло душу горькой иронией.
И в то же время Тургенев чувствовал, как личная драма всё теснее и теснее прижимала его к России. Вспомнилось, как летом 1856 года, перед отъездом за границу, на редакционном обеде, Некрасов предложил заключить писателям литературного кружка «Современника» «обязательное соглашение», по которому все они обещали печатать свои новые вещи только в этом журнале, получая в награду часть доходов с подписки. А потом все отправились в фотографию Левицкого: так появился групповой портрет участников нового литературного предприятия – Толстой, Тургенев, Гончаров, Григорович, Островский, Дружинин... Некрасов с трудом сдерживал радость, предвкушая успех «Современника», и возбужденно потирал руки.
Осень и зиму 1856 года Некрасов провел в Риме вместе с А. Я. Панаевой в надежде поправить совсем расстроенное здоровье. С Тургеневым он поддерживал постоянную дружескую переписку. Искренне радовался Тургенев «громадному, неслыханному успеху «Стихотворений» Некрасова. 1400 экземпляров разлетелись в две недели; этого не бывало со времен Пушкина». Из Рима Некрасов прислал Тургеневу на суд отрывки из поэмы «Несчастные», над которой упорно работал, вдохновляясь одобрительными отзывами друга.
В феврале 1857 года Некрасов приезжал в Париж в большой тревоге: Чернышевский, оставленный за редактора, перепечатал в ноябрьском номере «Современника» три стихотворения из только что вышедшего сборника Некрасова – «Поэт и гражданин», «Забытая деревня» и «Отрывки из путевых записок графа Гаранского». Незамеченные в книге, они бросились всем в глаза в журнале, вызвали возмущение в высших сферах, обратили на себя внимание Александра II. Начался переполох в цензурных инстанциях, цензора «Современника» Бекетова уволили от должности. И. И. Панаева вызвал к себе министр просвещения и объявил строжайший выговор за «неуместное и неприличное перепечатывание стихотворений г. Некрасова». Дело принимало опасный оборот.
Неосторожный поступок Чернышевского мог погубить журнал.
Тургенев, как мог, пытался успокоить Некрасова, показывал ему город, водил «по гульбищам и ресторанам». «Я теперь живу с Некрасовым, – сообщал Тургенев в Россию. – Здоровье его, кажется, поправилось – хотя он хандрит и киснет сильно. Он кое-что сделал, но слухи, до него дошедшие об участи его стихотворений, несколько приостановили его деятельность. Впрочем, он успокаивается понемногу». Тургенев видел, что римские и парижские впечатления действуют на Некрасова подавляюще: «Одно верно, – говорил он, – что, кроме природы, всё остальное производит на меня скорее тяжелое, нежели отрадное впечатление... Я думаю так, что Рим есть единственная школа, куда бы должно посылать людей в первой молодости, – в ком есть что-нибудь непошлое, в том оно разовьется здесь самым благодатным образом... Но мне, но людям, подобным мне, я думаю, лучше вовсе не ездить сюда. Смотришь на отличное небо – и злишься, что столько лет кис в болоте, – и так далее до бесконечности. Возврат к впечатлениям моего детства стал здесь моим кошмаром, – верю теперь, что на чужбине живее видишь родину, только от этого не слаще и злости не меньше. Всё дико устроилось в русской жизни, даже манера уезжать за границу, износивши душу и тело... Зачем я сюда приехал!»
Мучило Некрасова и «огаревское дело», в которое он оказался впутанным по милости А. Я. Панаевой. Подруга Авдотьи Яковлевны, жена Огарева Марья Львовна, уезжая за границу, поручила Панаевой и Н. С. Шаншиеву взыскание денег по векселям, выданным ей Огаревым. Панаева и Шаншиев обязались выполнить её поручение к маю 1853 года. Но Марья Львовна внезапно умерла. Огарев потребовал с Панаевой и Шаншиева выплаты денег. Они выразили полную готовность сделать это; шло время – деньги не возвращались. Тогда поверенный Огарева передал требование о взыскании в суд.
К этой неприятной истории Некрасов причастен не был, но его личные отношения с Панаевой дали повод Огареву и Герцену заподозрить Некрасова: «Одна из лучших новостей та, что Некрасов и Панаев, которые вели процесс... украли всю сумму». Герцен, как говорил позднее Н. Г. Чернышевский, «имел неосторожность высказать свое мнение, не ознакомившись с фактами». Так на доброе имя Некрасова была брошена черная тень, что сильно осложняло и без того сложные отношения Некрасова с Панаевой. Подобно Тургеневу, он попал в странную зависимость от волевой и сильной женщины. Обстоятельства требовали разрыва с нею, а Некрасов не находил в себе сил, чтобы решиться на этот шаг.
Тургенев платил Некрасову откровенностью за откровенность и вновь оценил чуткую к чужой беде душу поэта. Некрасов отлично понимал «безумную» связь Тургенева с Полиной Виардо и советовал воспользоваться размолвкой, чтобы расстаться. Но Тургенев отвечал с грустной улыбкой: «Я и теперь, через 15 лет, так люблю эту женщину, что готов по её приказанию плясать на крыше, нагишом, выкрашенный желтой краской!»
Весною 1857 года, когда Тургенев был в Лондоне, Некрасов приезжал к нему с надеждой вывести Герцена из заблуждения. «Мне просто больно, – говорил Некрасов, – что человек, которого я столько уважаю... приветствовавший добрым словом мои стихи... что этот человек нехорошо обо мне думает... Ты лучше других можешь знать, что я тут столько же виноват и причастен, как ты, например».
Тургенев долго убеждал Герцена встретиться с Некрасовым, но тот был неумолим. Так и пришлось Некрасову возвращаться с Тургеневым в Париж с чувством незаслуженного оскорбления. В конце июня Некрасов и Панаева уезжали в Россию. Тургенев провожал их до Берлина и с трудом сдерживал чувство сильной неприязни к подруге поэта, изливая его только в письмах к друзьям: «Он очень несчастный человек: он всё еще влюблен в эту грубую и гадкую бабу – и она непременно сведет его с ума». Она «владеет им как своим крепостным человеком. И хоть бы он был ослеплен на этот счет! А то – нет. Но ведь – известное дело: это все тайна – или, говоря правильнее, – чепуха. Тут никто ничего не разберет, а кто попался – отдувайся, да еще. чего доброго, не кряхти».
Прощаясь с Тургеневым в Берлине, Некрасов очень просил друга возвращаться в Россию как можно скорее и взять в свои руки журнал «Современник». Тургенев отвечал на это, как всегда, уклончиво: «Не знаю, право, насколько мне удастся помочь Вам. Выдохся я или еще не выдохся – но очень туго закупорился – что на одно и то же сбивается». Но в письме к П. В. Анненкову в конце июня 1857 года Тургенев писал о Некрасове: «Здоровье его, однако, немножко поправилось, хотя он и не лечился нисколько. Я постараюсь, вернувшись к октябрю в Петербург, отправить его опять на зиму в более теплый климат».
И теперь, уже из России, Некрасов предупреждал: «Я продолжаю бояться, что ты застрянешь в Париже. Не советую, милый человек; не шути с своими нервами и действуй решительно, пока они в порядке; если развинтишь их до такой степени, как они были развинчены прошлой зимой, – так опять не уедешь».
В эти трудные времена Тургенева спасало и поддерживало общение с русскими друзьями. А. В. Дружинин писал ему из Петербурга: «Милейший и дорогой наш патриарх, целую Вас тысячекратно и благодарю Вас за все милые сведения и добрые слова, находящиеся в письме Вашем... Вы только приблизительно знаете о том, как Вы нам дороги, оно всегда сказывается в отсутствии лучше, чем в присутствии. Последнее Ваше письмо имело какой-то грустный оттенок... Хандрите ли Вы, пузырь ли у Вас болит, или, что вернее, бродячая жизнь с ее треволнениями Вам уже не по сердцу? В таком случае приезжайте скорее. Трудно рассказать, как здесь будете Вы полезны и сколько отличной деятельности себе найдете. Несмотря на некоторую цензурную реакцию, общее сочувствие к литературе принимает огромные размеры, поминутно в наш круг набиваются разные сильные и преполезные лица, а мы, по занятиям и крутости нрава, большей частию от них отворачиваемся. Возьмем, например, дело о Литературном фонде, которое должно связать весь наш артистический круг, дать ему целостное значение и соприкосновение со всеми сторонами света – теперь оно спит, по моей суровости и тугости на знакомства. Как бы Вы могли популяризировать и отлично повести это важное предприятие! Со всех сторон много ласковости, готовности, сочувствия, но нет у нас отличного по добродушию, всеми любимого и немного праздношатающегосялитератора, который бы двинул его своими хлопотами и своим любезным словом».
Тургенев заверял друзей, что собирается вернуться. Некрасову, в ответ на его предостережения, он писал: «Во всяком случае, если я буду жив... никакиесилы меня не удержат здесь долее...
Полно, перестань;
Ты заплатил безумству дань.
Мне жалко, что о себе ты даешь известия плохие; скверные наши годы, скверное наше положение (во многом, как ты знаешь, сходное); но должно крепиться, не для достижения каких-нибудь целей, а просто чтоб не лопнуть».
На свадьбе Фета с сестрой В. П. Боткина в Париже Тургенев был шафером. Он искренне радовался счастью своего приятеля, был весел, искрометен, шутлив. Но к концу свадебного торжества с грустной улыбкой заявил: «Я сейчас сяду на пол и буду плакать».
«Солон пришелся» Тургеневу Париж. Иван Аксаков, встретившийся с ним в апреле 1857 года, писал своему «отесеньке»: «Тургенев хандрит, совсем размяк, тоскует». В минуту предельной откровенности Тургенев сказал Фету о Полине Виардо: «Она давно и навсегда заслонила от меня всё остальное, и так мне и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мое лицо носом в грязь. Боже мой! – воскликнул он, заламывая руки над головою и шагая по комнате, – какое счастье для женщины быть безобразной!»
Лев Толстой, навестивший Тургенева в Париже в феврале 1857 года, застал его вдвоем с Некрасовым: «Оба они блуждают в каком-то мраке, грустят и жалуются на жизнь». На другой день Некрасов внезапно уехал в Рим к А. Я. Панаевой, а Тургенев, по обычаю, как парижский старожил, водил Толстого по улицам и площадям города, ходил с ним в прославленные на весь мир музеи и с удовлетворением замечал, как его строптивый приятель глядит на всё, «помалчивая и расширяя глаза». «Я радуюсь, глядя на него, – сообщал Тургенев друзьям, – это, говоря по совести, единственная надежда нашей литературы».