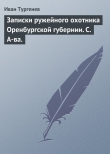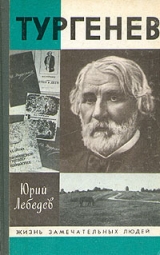
Текст книги "Тургенев"
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц)
Тургеневская ночь не только жутка и таинственна, она еще и царственно прекрасна своим «темным и чистым небом», которое «торжественно и необъятно высоко» стоит над людьми, «томительными запахами», звучными всплесками больших рыб в реке. Она духовно раскрепощает человека, очищает его душу от мелких повседневных забот, тревожит его воображение бесконечными загадками мироздания. «Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь... Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли».
Совершающейся во мраке ночной своей жизнью природа наталкивает ребятишек у костра на красивые, фантастические сюжеты легенд, диктует их смену, предлагает детям одну загадку за другой и сама же нередко подсказывает возможность их разрешения. Рассказ о русалке, например, предваряется шуршанием камышей и загадочными всплесками на реке, а также полетом падающей звезды – души человеческой по крестьянским поверьям. Образ мифической русалки удивительно чист и как бы соткан из самых разных природных стихий. Она светленькая и беленькая, как облачко, серебряная, как свет месяца или блеск рыбки в воде. И «голосок у ней такой тоненький и жалобный», как голос того загадочного зверка, который «слабо и жалобно пискнул среди камней». Фантазия ребят не бесплотна, не удалена от земли, в ней присутствует стихийный и здоровый материализм, столь свойственный народному миросозерцанию: домовой у них кашляет от сырости в старой рольне, тоненький голосок русалки сравнивается с писком жабы, а волосы её с густой зеленью конопли. На смех и плач поэтичной крестьянской русалки незамедлительно откликается в рассказе ночная природа: «Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук (отзвук плача русалки и неизбывной грусти Гаврилы. – Ю. Л.) Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке».
И уже не русалка плачет, а мать утонувшего Васи, крестьянка Феклиста – «плачет, плачет, горько богу жалится». И не русалка смеется, а обманутая полюбовником, сошедшая с ума Акулина – «она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, только изредка судорожно хохочет». Мифические существа «Бежина луга» не обособлены от мира несчастий и бед реальной крепостной России, точно так же, как не обособлены они и от того возвышенного и поэтического, чем не менее щедро наполнена крестьянская жизнь. Болезненный крик ночной птицы напоминает о стонах утопленного в омуте Акима-лесника: так душа его «жалобится», а может быть, это просто «лягушки махонькие» жалобно кричат. Белый голубь, внезапно налетевший на трепетный свет костра, – то ли праведная душа, улетающая на небо, то ли птица, случайно отбившаяся от дома. И даже Тришка, лукавый человек, сродни знакомому всем в околотке бочару Вавиле.
Объясняя таинственные явления природы, сознание крестьянских ребят питается живыми впечатлениями окружающего мира. Самые фантастические существа тысячами нитей связаны с поэзией жизни земной: их драмы – своеобразное продолжение людских драм, их красота – отражение земной красоты. Да и сюжет «Бежина луга» движется от легендарного и фантастического к земному и реалистическому.
Это движение совершается не только внутри каждой из рассказанных ребятишками историй, но и в последовательной связи их между собою: от мифических существ, русалок, домовых, оборотней в начале рассказа воображение ребят обращается к судьбам человеческим, к несчастной Акулине, к Акиму-леснику, к утонувшему мальчику Васе и матери его Феклисте, к Ивашке Федосееву и бабке Ульяне и, наконец, к легендам о Тришке-избавителе и обетованной земле, – о теплых странах, где зимы не бывает, где живет человек в довольстве и справедливости.
Тургенев писал и печатал «Бежин луг», когда цензура бдительнее, чем когда-либо, следила за литературой. В тексте первой публикации рассказа во втором номере «Современника» за 1851 год цензура исключила весь рассказ Кости о Тришке-антихристе, заменив последующие упоминания о нем словом «леший».
Много лет спустя, после реформы 1861 года, земляк Тургенева, писатель-демократ П. И. Якушкин опубликовал в путевых письмах легенды орловских крестьян о Тришке-сибиряке, с юношеских лет знакомые Тургеневу. Варвара Петровна еще в 1839 году сообщала сыну в Берлин: «Тришка у нас проявился вроде Пугачева, – то есть он в Смоленске, а мы трусим в Болхове». Спустя некоторое время она же писала: «Тришку поймали, и слухов о нем больше нет».
Главной заслугой Тришки, по крестьянским легендам, было заступничество за бедных крестьян, причем бескровное: Тришка ни одной христианской души не загубил, добивался своего удалыми шутками. Узнал как-то Тришка-сибиряк, что в Смоленской губернии живет барин, который всех мужиков «в разор разорил». Посылает барину письмо: «Ты, барин, может, и имеешь душу, да анафемскую, а я, Тришка, пришел к тебе повернуть твою душу на путь – на истину. Ты своих мужиков в разор разорил, а я думаю теперь, как тех мужиков поправить. Думал я думал и вот что выдумал: ты виноват, ты и в ответе будь. Ты обижал мужиков, ты их и вознагради; а потому прошу тебя честью: выдай мужикам на каждый двор по пятидесяти рублёв, честию тебя прошу, не введи ты меня, барин, во грех – рассчитайся по божий».
В конце XVIII – начале XIX века Орловский край действительно славился на всю Россию многочисленными шайками разбойников: «Орел да Кромы – старинные воры, Ливны – всем ворам дивны, Елец – всем ворам отец, да и Карачев на поддачу!» На усиление крепостнического произвола русский мужик плодородного подстепья отвечал неповиновением властям, бегством от крепостной неволи. Бежин луг неспроста «славился в наших околотках»: он служил приютом для беглецов, спасавшихся в глухих местах от помещичьего произвола.
В первом отдельном издании «Записок охотника» 1852 года Тургенев восстановил изъятый цензурой текст о Тришке. И хотя в авторской интерпретации социальный пафос легенды оставался приглушенным, современники чувствовали его. Рецензент демократического «Журнала для детей» в 1856 году писал: «Да тут светится и серьезная мысль: люди наделали зла, осквернили свет злобой, ложью и неправдой, так их и придет казнить Тришка; а все остальные создания божий – невинны, им и бояться нечего». Судя по рассказам Павлуши, Тришку со страхом ждут именно виновники народных бед: барин, староста со старостихой и Дорофеич, богатый мужик-мироед, по всей вероятности.
Мирный сон крестьянских детей под звездами овеян в финале рассказа и другой доброй легендой о далекой земле, где зимы не бывает. Она хранит детские сердца от разрушительных воздействий нужды и забот, которыми полна повседневная жизнь крестьянина:
«– Что это? – спросил вдруг Костя, приподняв голову.
Павел прислушался.
– Это кулички летят, посвистывают.
– Куда ж они летят?
– А туда, где, говорят, зимы не бывает.
– А разве есть такая земля?
– Есть.
– Далеко?
– Далеко, далеко, за теплыми морями.
Костя вздохнул и закрыл глаза».
Поэзия народных легенд и верований, широко разлившаяся в «Бежином луге» среди таинственных звуков и шорохов летней ночи, постепенно обретает социально активный характер и готовит появление в книге Касьяна, героя с подвижническим отношением к истине, странника и правдоискателя. Поэтому рассказ «Касьян с Красивой Мечи» Тургенев помещает вслед за «Бежиным лугом». В устах Касьяна получает окончательное оформление легенда о далеких землях, мечта народа о братстве и социальной гармонии: «А то за Курском пойдут степи <...> И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости».
Так вслед за кратковременными страхами летняя ночь приносит охотнику и крестьянским ребятишкам проблески надежд, а затем мирный сон и успокоение. Всесильная и всевластная по отношению к человеку, ночь сама по себе лишь миг в живом дыхании космических сил природы, восстанавливающих в мире свет и гармонию. «Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось <...> Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня <...> сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света <...> Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун».
Восходом могучего светила и открывается и закрывается «Бежин луг» – один из лучших рассказов о русской природе и детях ее. В «Записках охотника» Тургенев создавал единый образ живой поэтической России, увенчивала который жизнеутверждающая солнечная природа. В крестьянских детях, живущих в союзе с нею, он прозревал «зародыш будущих великих дел, великого народного развития».
От рассказа к рассказу в книге Тургенева растет и крепнет русское единство. Групповые образы в ней динамичны. В переходах от одного героя к другому – от Калиныча к Касьяну, от Касьяна к Якову – те или иные качества группового портрета не просто повторяются: происходит духовное обогащение, лучшее цементируется и крепнет, слабое отсеивается и отпадает.
С широкой, общенациональной точки зрения смотрит Тургенев на крепостное иго, мучительное для мужика, но опасное и для барина. Презрение к оголтелым крепостникам не снимает у него сочувствия к тем дворянам, которые сами оказываются жертвами крепостничества. Образ России живой в «Записках охотника» в социальном отношении не однороден. В книге есть целая группа дворян, наделенных национально-русскими чертами характера. Таковы, например, мелкопоместные дворяне типа Петра Петровича Каратаева или однодворцы, среди которых выделяется Овсяников. Живые силы нации Тургенев находит и в кругу образованного дворянства. Василий Васильевич, которого охотник называет Гамлетом Щигровского уезда, мучительно переживает свою беспочвенность, свой отрыв от России, от народа. Он с горечью говорит о том, как полученное им философское образование превращает его в умную ненужность. Живые силы нации Тургенев находит и в дворянской и в крестьянской среде. Он убежден, что с общенациональным врагом, каким является в его книге крепостничество, должна бороться вся Россия, не только крестьянская, но и дворянская.
В «Записках охотника» Тургенев впервые ощутил Россию как единство, как живое художественное целое. По отношению к этому универсальному образному миру с его внутренней гармонией будет оцениваться жизнеспособность лучших героев в романах Тургенева, да и в творчестве других русских писателей. В ряду тургеневских преемников упоминают в этом случае Николая и Глеба Успенских, Левитова, Решетникова, Слепцова, Эр-теля, Засодимского. Далее традицию ведут к Чехову, Короленко и от них к Горькому с его циклом «По Руси». Но значение «Записок охотника» этим не ограничивается. Книга Тургенева открывает 60-е годы в истории русской литературы, предвосхищает их. Прямые дороги от «Записок охотника» идут не только к романам Тургенева, но и к эпосу «Войны и мира» Толстого.
Годы скитаний
«У нас – русских – две родины: наша Русь и Европа, – утверждал Достоевский. – Многое, очень многое из того, что мы взяли из Европы и пересадили к себе, мы не скопировали только, как рабы у господ, <...> а привили к нашему организму, в нашу плоть и кровь; иное же пережили и даже выстрадали самостоятельно, точь-в-точь как те, там – на Западе, для которых всё это было своё родное. <...> Я утверждаю и повторяю, что всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира, наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России <...> Это русское отношение к всемирной литературе есть явление, почти не повторявшееся в других народах в такой степени, во всю всемирную историю, и если это свойство есть действительно наша национальная русская особенность – то какой обидчивый патриотизм, какой шовинизм был бы вправе сказать что-либо против этого явления и не захотеть, напротив, заметить в нем прежде всего самого широко обещающего и самого пророческого факта в гаданиях о нашем будущем».
И, пожалуй, никто из русских писателей XIX века с такой последовательностью не выразил эту коренную особенность русской души и русской судьбы, как Иван Сергеевич Тургенев.
В январе 1847 года он вновь очутился в Берлине, где на сцене Королевской оперы пела Полина Виардо. Ревниво всматривался Тургенев в облик города, где прошли лучшие годы его студенческой юности. Наружность Берлина мало изменилась с сорокового года, но произошли большие внутренние перемены. О них Тургенев писал в редакцию «Современника»: «Начнем, например, с университета. Помните ли восторженные описания лекций Вердера, ночной серенады под окнами, его речей, студенческих слез и криков?.. Все эти невинные проделки давным-давно позабыты. Участие, некогда возбуждаемое в юных и старых сердцах чисто спекулятивной философией, исчезло совершенно – по крайней мере в юных сердцах. В сороковом году с волнением ожидали Шеллинга, <...> воодушевлялись при одном имени Вердера, воспламенялись от Беттины». А теперь Шеллинг умолк, Беттина перестала красить свои волосы... И только Вердер («с одним собою знакомый»!) «с прежним жаром комментировал логику Гегеля, не упуская случая приводить стихи из 2-й части «Фауста»; но увы! – перед тремя слушателями... Отшумели и сошли со сцены левогегельянцы, с которыми был дружен Мишель Бакунин. Говорили, что Бруно Бауэр живет в Берлине, но никто его не видит и не слышит. На концерте Тургенев встретил «прилизанного и печально смиренного»... Макса Штирнера. Того самого недавнего бунтаря, отрицавшего все – и государство, и право, и семью – и провозглашавшего эгоизм альфой и омегой современности. Как много, торжественно и громко говорил о нем Бакунин в последнюю встречу 1842 года! Пять-шесть лет всего прошло, а как изменилась духовная жизнь Германии, России, да и всей Европы! Река времени ускоряла свое течение, и Тургенев вновь и вновь переживал ощущение непрочности и хрупкости жизненных явлений, вчера рожденных, а сегодня обреченных на смерть. Он всматривался в себя, мысленно восстанавливал духовный путь, пройденный им за последние годы. И недавнее прошлое казалось далеким, какой-то роковой чертой отрезанным от настоящего, и сам себе казался он убеленным сединами стариком: сколько отшумело и умерло в нём навсегда за последнее десятилетие.
Но вместе с тем жизнь шла вперед, и то новое, молодое, что шло на смену старому, обнадеживало и вселяло уверенность. Забыли Шеллинга, Гегеля, Бауэра... И понятно, почему их забыли: Фейербах не забыт, напротив! И хорошо, что кончилась «теоретическая, философская, фантастическая эпоха германской жизни». Грустно оттого, что ты сам был её частицей; погребают эпоху – и... одновременно частицу тебя самого.
Берлинский театр живо напомнил Тургеневу время студенческих увлечений: особенный восторг тогда вызывал Зейдельман, отличившийся в роли Мефистофеля. Какие ухватки, свидетельствующие о дьявольском происхождении своего героя, он выдумывал! Ходил неровно, большими шагами, как будто копытцам его неловко было в узких башмаках. Беспрестанно выправлялся: казалось, что испанская куртка помяла ему крылья. А с какой духовной силой господствовал он над Фаустом! Но и Берлинский театр был другой, перестроенный после пожара 1843 года. Над сценой находились портреты четырех главных немецких композиторов: Бетховена, Моцарта, Вебера и Глюка... Тургенев с грустью думал, что первые два жили и умерли в бедности, а Вебер и Глюк нашли приют в чужой земле... В чужой... Вот и он, Тургенев, бежал из родного гнезда, покинул милый его сердцу орловский край. Вставали в памяти поля и перелески далекой родины. Орел, Курск, Жиздра так и ходили около... Но открывался занавес – и снова слушал он волшебный голос Виардо...
Когда весной 1848 года он жил в Париже, из Петербурга до берегов Сены донеслась весть, в которую невозможно, трудно было поверить: 26 мая скончался Виссарион Григорьевич Белинский. В душе образовалась пустота, которую могли заполнить лишь воспоминания. Но и они не смягчали боль утраты, а обжигали запоздалым чувством вины, обиды на себя.
Тургенев вспомнил, что Белинский ещё перед отъездом за границу написал ему письмо: «Ах, если бы и с Вами свидеться! Где Вы будете в это время? Не в Берлине ли, которого мне не миновать по пути... Или не в Дрездене ли, откуда Вам ничего не будет стоить приехать повидаться со мною? Да одного этого достаточно для выздоровления, кроме приятной поездки, отдыха, целебного воздуха, прекрасной природы и минеральных вод».
Белинский собирался за границу впервые и на эту поездку возлагал последние надежды поправить совсем расстроенное здоровье. Он был беспомощным на чужбине без знания иностранного языка, и Тургенев с радостью согласился быть его «нянькой» и «опекуном».
Но что-то не заладилось с первой минуты. Письмо запоздало, и Тургенев не знал о точном дне прибытия друга. Пока Белинский нашел его квартиру, он пережил немало хлопот и «комических несчастий». Комических для других, но не для него, впервые оказавшегося в совершенно чужом иноязычном городе.
Зачем он повез Белинского в Дрезден? Ведь он же знал, что его друг не жалует Виардо и увлечение ею считает то ли блажью, то ли умопомрачением. Зачем он потащил полуживого Белинского в оперу, где вместе с восторженной немецкой публикой кричал: «Браво! Браво! Вернитесь к нам скорей!» – а его друг сидел сгорбленный и погруженный в какие-то свои, нерадостные думы.
Тургенев постоянно ловил себя на мысли, что он вел себя как юноша, как эгоист. Конечно, у него была надежда: вдруг Белинский оценит и поймет его любовь; ему нужно было сочувствие человека, которому он верил больше, чем себе. И втайне он досадовал, сердился, а временами спорил с Белинским по поводу оценок некоторых людей и упрекал его в идеализме, в неумении разбираться в людях.
В Зальцбрунне им тоже не везло. Стояла ужасная, редчайшая для этих мест погода: день и ночь шли нескончаемые дожди, а в комнатах висела промозглая сырость, и было холодно, как осенью. Белинский находился в тяжелом состоянии духа: он пережил жестокое разочарование в Гоголе. С какой страстностью, до полного нервного истощения, переживал Белинский факт публикации «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя и писал знаменитое, обращенное к автору «Мертвых душ» письмо: «Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своей страною, может любить её надежду, честь, славу, одного из великих вождей её на пути сознания, развития, прогресса. <...> Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть <...> И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самое как будто в зеркале, – является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами!..<...>
Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною...»
Укрывшись пледом, сидя в кресле, Белинский поеживался и нервно вздрагивал, слушая только что написанный Тургеневым рассказ «Бурмистр». Когда кончилось чтение, он встал, с благодарностью взглянул на Тургенева и с чувством досады и презрения сказал: «Что за мерзавец с тонкими вкусами!» Он понимал, что в характере культурного крепостника остро схвачено Тургеневым социальное явление, далеко выходящее за провинциальные пределы. «Пеночкины» потенциально присутствовали даже в самых культурных и образованных людях России.
Когда в Зальцбрунн приехал П. В. Анненков, он с трудом узнал Белинского... Перед ним стоял старик, который по временам, словно заставая себя врасплох, быстро выпрямлялся и поправлялся, стараясь придать своей наружности тот вид, какой, по его соображениям, ей следовало иметь. Усилия длились недолго и никого обмануть не могли. Белинский таял буквально на глазах.
Тургенев вспоминал, как наступил момент, когда стремление быть рядом с Виардо прорвалось в нем с неудержимой силой, как он забыл о данных другу обещаниях, оставил его на попечение Анненкова и бежал в Берлин, чтобы сопровождать супругов Виардо в Англию, где намечались новые гастроли Полины. И стыдно было вспоминать свои мальчишеские объяснения с Белинским и обещания встретиться в Париже.
Они там встретились в июле. Белинский изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию: «Уж очень он был русский человек и вне России замирал, как рыба на воздухе». Тургенев вспоминал, как в Париже Белинский впервые увидел площадь Согласия:
– Не правда ли? Ведь это одна из красивейших площадей мира? – спросил он с какой-то странной интонацией в голосе. И на удовлетворительный ответ воскликнул:
– Ну и отлично; так уж я и буду знать, – и в сторону, и баста! – и заговорил о Гоголе.
– На этой самой площади стояла гильотина, здесь отрубили голову Людовику XVI! – заметил Тургенев.
Белинский посмотрел вокруг, сказал: «А!» – и вспомнил сцену Остаповой казни в «Тарасе Бульбе».
Не чувствовал ли он тогда, что ему оставалось жить всего несколько месяцев? Не с этим ли была связана его отрешенность?
Тургенев в августе показался в Париже еще раз и пробыл с Белинским очень недолго. Прощаясь с другом, Тургенев обещал приехать к нему на проводы. Глубокой грустью, упреком, но и тихим прощением светились голубые глаза Белинского, которые стали еще больше и прекраснее на похудавшем, бледном его лице.
Тургенев не знал, что видит дорогого человека в последний раз. Он не приехал провожать его из Парижа в Россию и лишь послал короткое письмо:
«Вы едете в Россию, любезный Белинский; я не могу лично проститься с Вами – но мне не хочется отпустить Вас, не сказавши Вам прощального слова... Анненков мне ничего не написал об Вашем здоровье... Надеюсь, что доктор Тира Вам помог: прошу Вас написать мне об этом. Мне нечего Вас уверять, что всякое хорошее известие об Вас меня обрадует; я хотя и мальчишка – как Вы говорите – и вообще человек легкомысленный, но любить людей хороших умею и надолго к ним привязываюсь...»
Легковесные были сказаны слова, да ничего не вернешь и ничего не поправишь! А. И. Герцен, провожавший Белинского из Парижа, рассказал: «Страшно ясно видел я, что для Белинского всё кончено, что я ему в последний раз жал руку. Сильный, страстный боец сжег себя... Он был в злейшей чахотке, а все еще полон святой энергии и святого негодования, всё еще полон своей мучительной, «злой» любви к России».
Так на всю жизнь от этой горестной утраты и осталась в душе Тургенева незаживающая боль. Много лет спустя, когда пришли к Тургеневу воспоминания, образ Белинского в них потеснил многих. В спасском доме, в кабинете, над письменным столом, за которым были созданы лучшие тургеневские романы, неизменно висел портрет Белинского. Перед смертью Тургенев завещал похоронить себя на Волковом кладбище, рядом с его могилой...
Куртавнель... С сорок пятого года стал он болью тургеневской и радостью. С замиранием сердца подъезжал всякий раз к пепельно-серому замку с большими окнами, со старой, мохом поросшей кровлей. Густая стена тополей и каштанов его окружала; под окнами стояли тропические деревья из оранжерей; подъемный мост был перекинут через каменный ров, переходящий в широкую канаву, кольцом окаймлявшую усадьбу; глубокая тишина и покой царили под сводами деревьев старого парка, и только лягушки порой мягко плюхались в канавы и бесшумно двигались по зеленой поверхности пригретой солнцем стоячей воды, да слышался иногда шорох и легкий стук – падали яблоки в глубине сада. А за садом бежало вверх по холмам широкое хлебное поле, и кромка дальнего леса мерцала в мареве знойного июльского полдня. Напоминал Куртавнель природу родного Спасского, хоть и не мог её заменить. Но в замке жили люди, свободные от предрассудков, во многом близкие по духу. В уединенной комнате огромного дома, так похожего на старый спасский, легко и радостно работалось под приглушенные звуки музыки, доносившиеся снизу, под таинственное шептание летней ночи, когда работа увлекала до утра.
Он проводил в Куртавнеле счастливые дни своей жизни и писательского труда. Воображение уносило его вдаль, на охотничьи просторы орловского края; оживали Ермолаи, Калинычи, Касьяны, вспоминались их лица, разговоры; одна сцена сменяла другую, вились нити охотничьих странствий и сюжетов; целый пестрый мир возникал перед глазами, люди, звери, птицы, поля и перелески проступали в душе, как частицы одного одухотворенного и живого существа по имени Россия. Населенный родными образами и видениями, преображался и Куртавнель, сжималось огромное пространство, отделявшее его от Орла да Мценска, и Россия сближалась с Европой, не меняя своей индивидуальности, своего неповторимого лица. С полным правом называл потом Тургенев Куртавнель «колыбелью своей литературной славы». Частью здесь, а частью в Париже он создал «Записки охотника», написал цикл оригинальных драм.
Зиму 1847 года Тургенев провел в Париже. Ему хорошо работалось, и он «смиренно молил своего ангела-хранителя (говорят, у каждого есть свой ангел) быть к нему благосклонным». «Что за прекрасная вещь – работа!» – восклицал он. Перед обедом Тургенев гулял по саду при дворце Тюильри – излюбленному месту детских игр парижан. «Их детски-важная приветливость, их розовые щечки, пощипываемые первыми зимними холодами, спокойный и добрый вид нянек, чудесное красное солнце из-за высоких каштанов, статуи, дремлющие воды, величественный темно-серый цвет Тюильри», – все это успокаивало и освежало его после утренней работы.
В минуты отдыха он усиленно изучал испанский язык, читая Кальдерона, этого «величайшего католического драматического поэта, какой когда-либо существовал». «Его «Поклонение кресту» – шедевр. Эта непоколебимая, победоносная вера, без тени какого-либо сомнения или даже размышления, подавляет вас своею мощью и своим величием, невзирая на всё, что есть отталкивающего и жестокого в этом учении. Это уничтожение всего, что составляет достоинство человека, перед божественною волею, безразличие, с каким благодатьснисходит на своего избранника, ко всему, что мы называем добродетелью или пороком, – ведь это еще новое торжество для человеческого разума, потому что существо, столь отважно провозглашающее своё собственное ничтожество, тем самым возвышается до равенства с этим фантастическим божеством, игралищем которого человек признает себя. А это божество – оно само создание его рук». Тем не менее Тургенев «предпочитает Прометея, предпочитает Сатану, тип возмущения и индивидуальности. Какой бы я ни был атом, я сам себе владыка; я хочу истины, а не спасения; я чаю его от своего ума, а не от благодати».
Но в то же время Тургенев видит, как измельчал предоставленный самому себе современный человек. Читая прекрасные произведения Кальдерона, писатель чувствует, «что они выросли естественно на плодоносной и могучей почве; их вкус, их благоухание просты; литературные объедки здесь не дают себя чувствовать. <...> Между тем в то критическое и переходное время, которое мы переживаем, все художественные или литературные произведения представляют, самое большее лишь индивидуальные мнения и чувства, лишь смутные и противоречивые размышления, лишь эклектизм их авторов; жизнь распылилась; теперь уже нет крупного общего движения, за исключением, может быть, движения промышленности, которая, если ее рассматривать с точки зрения нарастающего подчинения сил природы человеческому гению, может быть, сделается освободительницей обновленного человеческого рода». А потому, на его взгляд, «величайшие современные поэты – американцы, которые собираются прорыть Панамский перешеек и толкуют об устройстве электрического телеграфа через океан. Как только социальная революция совершится – да здравствует новая литература!»
Примечательна у автора «Записок охотника» эта неудовлетворенность как элементарным патриархальным общежитием, в котором личность поглощена авторитарными представлениями о всесилии божественной воли, так и современным состоянием личности, отпавшей от целого, предавшейся эгоистическим формам буржуазного обособления. Как русский писатель, Тургенев чувствует ограниченность того и другого и ищет третьего пути, снимающего противоречие между бессознательной общностью и современным раздроблением. В «Записках охотника» это противоречие художественно разрешается: личность автора в них, сохраняя неповторимую индивидуальность, выражает общенародные мнения, общенациональные интересы.
В декабре 1847 года Тургенев закончил комедию «Где тонко, там и рвется», в январе 1848 года работал над «Нахлебником», предназначенным для московского друга М. С. Щепкина, а потом написал «Безденежье», «Холостяк» и «Завтрак у предводителя». Эти драмы ожидала несчастливая судьба: «Нахлебник» запретила театральная цензура под предлогом оскорбления дворянского достоинства, «Завтрак у предводителя» не разрешили печатать. Завершенную в 1850 году лирическую комедию «Месяц в деревне» удалось опубликовать с цензурными поправками лишь в 1855 году. В обстановке общественного оживления 1860-х годов драмы Тургенева увидели свет и были частично поставлены на сцене, но прочного успеха не имели. Только на рубеже XIX–XX веков обрели они новую сценическую жизнь. Оказалось, что Тургенев прокладывал пути к «новой драме» чеховского типа: ослабление сюжетного действия, тщательная разработка психологической стороны интриги, отказ от внешних сценических эффектов. «Тонкие любовные кружева, которые так мастерски плетет Тургенев, потребовали от актеров особой игры, которая позволяла бы зрителю любоваться причудливыми узорами психологии любящих, страдающих и ревнующих сердец», – писал К. С. Станиславский.
Годы жизни во Франции обогатили политический опыт Тургенева. Уже в первые месяцы пребывания в Париже чуткое ухо писателя уловило скрытое брожение; город жил как на вулкане, готовящемся к извержению, глухо доносился грозовой подземный гул. Когда в июле 1847 года в Париж из Зальцбрунна приехали Анненков и Белинский, на Avenue Marigny, где жил А. И. Герцен, собрались старые друзья: Белинский, Бакунин, Анненков, Герцен. Из Куртавнеля частенько наезжал к ним Тургенев. Сначала разговоры и споры велись вокруг России. Бакунин возмущался, что привезенные Герценом, Тургеневым и Анненковым новости касались университетского и литературного мира. Он ждал рассказов «о партиях, о министерских кризисах, об оппозициях». Герцен же говорил «о кафедре, о публичных лекциях Грановского». И только главная новость – споры западников и славянофилов – вызвала у Мишеля живой интерес.