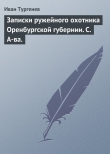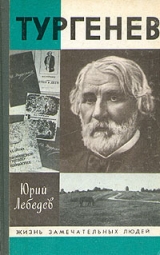
Текст книги "Тургенев"
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 46 страниц)
Однажды Герцена с Тургеневым остановили на улице подгулявшие прихвостни Наполеона. Один из них сказал другому:
– Эти негодяи не будут кричать «да здравствует император», потому что они республиканцы, – и обращаясь к Герцену и Тургеневу, грубо потребовал здравицы в честь новоявленного императора.
– Я русский! – гордо отвечал Герцен. – Но даже если бы я был француз, то слова бы не обронил в защиту такого пошляка и подлеца, каким является Луи Наполеон!
Крикуны оторопели от неожиданной смелости, что и позволило друзьям спастись от пьяной ватаги, которая, опомнившись, бросилась за ними в погоню...
События 1848 года вели Тургенева к грустному итогу. Он убедился, что революцией управляла злая сила в лице богатых буржуа и финансистов, несчастный же народ служил игрушкой в политической борьбе. Возникли серьезные сомнения в том, что народ вообще является творцом истории. Казались вполне справедливыми суждения «человека в серых очках»:
– Народ, – говорил он, – то же, что земля. Хочу, пашу ее... и она меня кормит; хочу, оставляю ее под паром. Она меня носит – а я ее попираю. Правда, иногда она вдруг возьмет да встряхнется, как мокрый пудель, и повалит все, что мы на ней настроили, – все наши карточные домики. Да ведь это, в сущности, редко случается – эти землетрясения-то.
Трагический опыт революции 1848 года все более склонял Тургенева к мысли, что творческой силой истории является интеллигенция, тот верхний слой общества, который создает науку и культуру, который является проводником цивилизации в народную среду. И только тот может надеяться на успех, кто не спеша, упорно и последовательно занят этой культурнической работой. Пережитое во Франции уводило Тургенева в сторону от того писательского пути, который был намечен им в «Записках охотника». Внимание его все более и более привлекала историческая судьба русской интеллигенции.
Из России приходили тоже неутешительные вести. Февральская революция 1848 года отозвалась там политическим процессом по делу кружка Петрашевского, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость Достоевский. В стране наступила жестокая реакция, вошедшая в историю под названием «мрачного семилетия». Страх перед распространением свободолюбивых идей заставил Николая I ужесточить требования к печати. Цензура свирепствовала беспощадно и доходила до запретов анекдотических. В поваренных книгах вычеркивалось словосочетание «вольный дух», а цензор Н. С. Ахматов остановил печатание арифметического задачника, сочтя подозрительными многоточия между цифрами.
Говорили, что на русских людей, возвращавшихся на родину из революционной Франции, правительство смотрело косо. Незадолго до отъезда П. В. Анненкова Герцен высказал сомнение, стоит ли уезжать:
– Жутко вам будет в России.
– Что делать? Мне ехать необходимо... Ведь и здесь теперь не бог знает как хорошо; как бы вам не пришлось раскаяться, что остаетесь.
– Нет, – ответил Герцен, – для меня выбора не существует. Я должен остаться и если раскаюсь, то скорее в том, что не взял ружье, когда мне его подавал работник за баррикадой. Невзначай сраженный пулей, я унес бы в могилу еще два, три верования.
Потрясенный июньскими днями, расстрелами рабочих, Тургенев покидает Париж. Он бежит на юг Франции с одним желанием – забыться, уйти куда глаза глядят. Писатель проезжает Лион, Баланс, Авиньон, Ним, Арль, Марсель, Тулон и прибывает в Иер. Но и в пути его преследует тень парижских событий. Один из спутников вызывает тошноту рассказами о расправах с «бунтовщиками»:
– О, это было недолго! Им кричали: «На колени, негодяи!» Они вырывались, но – бац! – удар прикладом по затылку, пуф – пуля прямо в упор между бровей и... дрыг, дрыг... они корчились на мостовой.
В Иере Тургенев снял комнату в гостинице. Лили дожди. Все покрыто было тусклым, серым туманом...
Осень и зиму он провел в Париже, а весной 1849 года с ним случилось то, чего он более всего боялся всю жизнь. Город охватила эпидемия холеры, Париж покрылся трупами. И однажды утром Тургенев почувствовал первые симптомы страшной болезни. Он действительно заразился холерой и чуть не умер. Спас его Герцен. Друг перевез Тургенева к себе на квартиру и десять дней, рискуя собственной жизнью, самоотверженно выхаживал его, отправив жену с детьми в деревеньку под Парижем и оставшись с больным вдвоем.
А между тем Варвара Петровна давно вызывала блудного сына домой, от души проклиная коварную «цыганку». Летом 1849 года она прислала 600 рублей на дорогу, но их едва хватило на погашение долгов. Старшему Николаю матушка тоже подала слабую надежду на возможность прощения.
С мая в Спасском шли приготовления: заново отделывался флигель, обновлялись цветники перед домом, померанцевые деревья в зеленых кадках расставлялись вокруг балкона, из грунтовых сараев переносились испанские вишни и сливы.
– Пусть они здесь, около дома, стоят. Ваничка ужасно всякие фрукты любит, а я из окна буду любоваться, как он их кушает.
На доме развевался флаг с тургеневским гербом, с одной стороны, и с лутовиновским, с другой – знак того, что госпожа в хорошем настроении и ждет гостей. У большой дороги водрузили столб, на котором дворовый живописец нарисовал руку с протянутым перстом и сделал надпись: «Они вернутся!!!»
Но они не вернулись...
Николай прислал письмо, умоляя мать простить его и благословить уже состоявшийся брак с Анной Яковлевной Шварц. А Иван просил денег на дорогу.
Старшему сыну был дан ответ: Варвара Петровна соглашалась навестить его семью в Тургеневе, отслужить обедню в сельской церкви, познакомиться с внуком и объявить сыну свое решение. Радости Николая не было конца. С раннего утра тургеневские мужики стояли у околицы в ожидании высокой гостьи. А когда карета подъехала, выпрягли лошадей и подвезли госпожу на руках прямо к церковной паперти. Отслужили обедню, зашла Варвара Петровна в дом, на внука взглянула, но от угощения отказалась, дав приказ отправляться в Спасское. Николай, усаживая матушку в карету, робко намекнул на обещанное. Она достала из ридикюля свернутую в трубку гербовую бумагу с печатью и сказала: «Тут изложена моя воля, дано мое решение». Сын рассыпался в благодарностях, карета тронулась...
Дрожащими от волнения руками снял Николай сургучную печать, освободил шнурки и развернул оставленный Варварой Петровной документ. Это был совершенно чистый лист бумаги...
Ивану же ответа вообще не последовало, высылка денег полностью прекратилась. Но однажды Тургеневу пришла из России нефранкированная посылка тяжести необыкновенной. За ее пересылку он отдал последние гроши, распечатал... Матушка набила посылку кирпичами.
В Куртавнеле летом 1849 года Тургенев жил на унизительном положении нахлебника. Виардо гастролировала в Англии, а он пребывал в печальном одиночестве, отвлекаясь тем, что отыскивал в окрестностях деревья, которые имели бы физиономию, и давал им имена; ходил удить линей и любовался утренними восходами солнца; чистил куртавнельские канавы от густых зарослей («мы работали как негры в продолжение двух дней»); поливал цветы и полол сорную траву в оранжерее.
Сложный, трудный период в жизни он переживал. И конечно, не безденежье было главным источником его драмы. «Уже до 1848–49 гг., – писал академик Тарле, – Николай предстал перед Францией, как смертельный неутомимый и неутолимый враг свободы и прав гражданина не только в раздавленной Польше, но и в России, во имя якобы «величия» которой работали Нессельроде и Паскевичи. Общественное мнение было вполне подготовлено к тому, что самодержавие всегда вмешивается всюду, где возможно будет поддержать чужое рабство... Во время общеевропейского кризиса 1848–49 гг., особенно же с весны 1849 года, когда Николай стал обнаруживать явные намерения вмешаться в европейские дела и послать армию в Венгрию, – грозное значение для Европы русского самодержавия ярко предстало перед общественным сознанием. Достаточно посмотреть такие умеренные и отчасти реакционные газеты как «Temps» и «Journal des Débats» за первые месяцы 1849 года, чтобы оценить то раздражение, смешанное с животным беспокойством, которое внушал Николай... Венгерская же кампания 1849 года только усилила эти чувства».
На русских Запад смотрел косо и требовал от них забыть, что они русские варвары. Этот гнет предубеждений, особенно в республиканской семье Виардо, постоянно преследовал Тургенева. Даже Герцен, если верить полицейским донесениям, иногда скрывал, что он русский, и выдавал себя за пруссака. Тургеневу приходилось выдерживать немалую борьбу, чтобы отстоять свое право на признание в нем русского, свободного человека, представителя не официальной, а живой, свободной России.
Летом в Куртавнеле Тургенева одолевали далеко не веселые мысли:
«Честный человек в конце концов не будет знать, где ему жить: молодые нации еще варвары, как мои дорогие соотечественники, – делится он своими сомнениями с Полиной Виардо, – а старые нации умирают и смердят... Но довольно! А потом, кто сказал, что человеку предназначено быть свободным? История нам доказывает противное. Гёте, конечно, не из желания быть придворным льстецом написал свой знаменитый стих: «Der Mencsh ist nicht geboren frei zu sein!» Это просто-напросто факт, истина, которую он высказал в качестве наблюдателя природы, каким он был...»
«Да, «человек не рожден быть свободным», и не только применительно к обществу эта формула Гёте верна. Человек не свободен и в ином, природно-космическом смысле: он игрушка в руках жестокой и грубо-равнодушной природы. Да, она такова, она равнодушна; душа есть только в нас и, может быть, немного вокруг нас... это слабое сияние, которое древняя ночь вечно стремится поглотить. Парадокс, – но это не мешает природе быть восхитительно прекрасной, и соловей может доставлять нам чудесные восторги, в то время как какое-нибудь несчастное насекомое мучительно умирает у него в зобу».
Мысль о тщете человеческих дерзаний, о слепой власти над личностью стихийных сил общества и природы не дает Тургеневу покоя ни днем, ни ночью.
«Ночь прекрасная, звезд невероятное количество. Крупные звезды светятся голубым светом и как будто мигают... Нет ничего зауряднее представления, будто они внушают религиозные чувства, хотя именно об этом толкуют все воспитательные книжки. Вовсе не такое представление производят эти звезды на того, кто смотрит на них просто, без предвзятой мысли. Тысячи миров разбросаны по самым отдаленным глубинам пространства... Бесконечное распространение жизни, которая находится везде, проникает всюду, заставляет целый мир растений и насекомых без цели и без надобности зарождаться в каждой капле воды. Это произведение непреодолимого, невольного, бессознательного движения, которое не может поступать иначе; это необдуманное творчество. Но что же такое – эта жизнь? Я ничего об этом не знаю, но знаю, что в данную минуту она всё, она в полном расцвете, в полной силе; не знаю, долго ли это будет продолжаться, но, во всяком случае, в данную минуту это так: она заставляет кровь обращаться в моих жилах без всякого моего участия, и она же заставляет звезды появляться на небе, как прыщи на коже, и это ей одинаково ничего не стоит, и нет ей в том большой заслуги. Эта штука равнодушная, повелительная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая – это жизнь, природа или Бог; называй ее как хочешь, но не поклоняйся ей... Впрочем, когда она прекрасна или когда она добра (а это не всегда случается) – поклоняйся ей за красоту, за доброту, но не поклоняйся ей никогда ни за ее величие, ни за ее славу! Ибо, во-первых, для нее не существует ничего великого или малого; во-вторых, в акте творения заключается не больше славы, чем есть славы в падающем камне, в текущей воде, в переваривающем желудке; все это не может поступать иначе, как следовать Закону своего существования, а это и есть жизнь».
Отрицание разумности бытия и мироздания приводит Тургенева к атеистическим выводам, но одновременно – и он чувствует это – к отрицанию прочных оснований для истины, добра и красоты. Духовные ценности, включенные в стихийную игру природы, теряют свою безусловность и глубокий творческий, созидательный смысл. Мысль заходит в тупик и останавливается в скептическом сомнении.
Но Тургенев не был бы большим художником, если бы в его душе не возникал сопротивляющийся этим безнадежным мыслям ход:
«Довольно крупный зайчонок третьего дня утонул во рвах. Как и почему? Покончил ли он с собой? Но ведь в его возрасте еще верится в счастье. Впрочем, говорят, что наблюдались примеры самоубийства у животных».
Значит есть в живом существе нечто такое, что сопротивляется равнодушной работе природы! Факт самоубийства – факт восстания духовных сил против слепой стихии, которая равнодушна к неповторимому живому существу, факт духовного вызова ей.
А любовь?
«Оказывается, даже куропатки отлично разыгрывают представления. Они очень хорошо умеют притворяться, будто ранены, будто они насилу летают, они кричат, они пищат, и все это, чтобы заманить за собою собаку и отвлечь ее от места, где находятся их птенцы. Материнская любовь третьего дня чуть не обошлась очень дорого одной из них: она так превосходно сыграла свою роль, что Султан схватил ее. Но так как он совершенный джентльмен, то он только смочил ее своей слюной и вырвал у нее несколько перьев; я возвратил свободу этой отважной матери и слишком хорошей актрисе...»
Много передумал Тургенев в куртавнельском одиночестве, подводя итоги пережитых дней. Философский фон его романов чувствуется в этих размышлениях и мечтах, похожих как две капли воды на будущие «Стихотворения в прозе». Грусть усугубляло, конечно, и шаткое положение Тургенева; в помощи матери ему теперь отказано, жить литературой невозможно: шли более или менее свободно только «Записки охотника», драмы натыкались одна за другой на цензурный запрет. Двусмысленным было существование Тургенева в чужом семействе. В письмах к Полине он делал часто приписки по-немецки, помня, что Луи Виардо этого языка совсем не знал. Кроме обычных восхищений «любимейшим и благороднейшим существом во всем мире», попадались и тревожные вопросы: «Что случилось с Виардо? Может быть, ему неприятно, что я здесь живу?»
Госпожа Сичес, тетка Полины Виардо, уезжая из Куртавнеля, оставляет Тургеневу 30 франков; 26 он немедленно тратит на поездку в Париж, чтобы прочитать в английских журналах все, что пишут о гастролях Виардо. «Впрочем, я живу здесь, как в очарованном замке, – сообщает он хозяевам Куртавнеля, – меня кормят, меня обстирывают; чего больше нужно одинокому человеку?» Мысленно он видит себя в Англии: «Одиннадцать часов... Только что кончился четвертый акт и вас вызывают, я тоже аплодирую: браво, браво, смелее! Полночь.Я аплодирую что есть силы и бросаю букет цветов... Не правда ли, все было прекрасно? Да благословит вас бог! А теперь вы можете отправляться спать. Я тоже пойду спать. Покойной ночи, спите крепко на ваших лаврах».
В одиночестве воображение иногда до того разыгрывается, что дело доходит до галлюцинаций: «Вам, вероятно, неизвестно, что я никогда не ложусь спать после полуночи. И вот вчера, я только что собрался уйти из гостиной, как вдруг услышал два глубоких, совершенно ясных вздоха, раздавшиеся, или, вернее, пронесшиеся, как дуновение, в двух шагах от меня. Это вызвало во мне легкую дрожь. Проходя по коридору, я подумал о том, что бы я сделал, если б почувствовал, как чья-то рука внезапно схватила меня за руку: и я должен был себе признаться, что испустил бы пронзительный крик». Так вызревают зерна для будущих «таинственных повестей».
Куртавнель в какой-то мере исцелил Тургенева от драматических впечатлений 1848 года, явился для него тем уединенным островом, на котором он мечтал поселиться с «Одиссеей» Гомера. В Куртавнеле Тургенев изучил испанский язык, читал в подлиннике Сервантеса, Кальдерона, штудировал труды Паскаля, работы по истории христианства. Здесь он предавался игре свободных дум, усладам творческого вдохновения и... думал о далекой Родине, напоминавшей ему издалека мифологического Сфинкса, загадки которого он призван разгадать.
Зиму 1849–50 годов Тургенев провел в Париже. Здесь он установил довольно прочные связи с французскими литераторами, подружился с Жорж Санд, познакомился с Мериме, выступал в качестве посредника-миссионера, пропагандиста русской литературы в Западной Европе. Благодаря Тургеневу, Мериме прочел Пушкина и Гоголя, с помощью Тургенева переводы русских классиков вышли в Париже на французском языке.
5 октября 1849 года умер Шопен. Отпевание и похороны великого польского композитора состоялись 18 октября. Согласно завещанию, на его заупокойной мессе был исполнен реквием Моцарта в инструментовке Ребера. Сольные партии в парижской церкви святой Мадлены исполняли Виардо, Кастеллан и Лаблаш. В короткой записочке Эмме Гервег Тургенев написал: «Вот Вам билет на отпевание Шопена. Как Вы поживаете? Я по-прежнему очень плохо».
Весной 1850 года Варвара Петровна выслала сыну необходимую сумму денег на дорогу в Россию при условии безотлагательного возвращения: она была тяжело больна.
В Париже перед отъездом Тургенев хотел повстречаться с Герценом, но уже не застал его: «Я приехал из деревни, любезный Александр, час спустя после твоего отъезда; ты можешь представить, как мне было это досадно; я бы так был рад еще раз с тобой повидаться перед возвращением в Россию. Да, брат, я возвращаюсь; все вещи мои уложены, и послезавтра я покидаю Париж... Ты можешь быть уверен, что все твои письма и бумаги будут мною доставлены в целости».
В книге «С того берега», прощаясь с Родиной, Герцен повторил те мысли, которыми он поделился с Тургеневым весною 1850 года:
«Непреодолимое отвращение и сильный внутренний голос, что-то пророчащий, не позволяют мне переступить границу России, особенно теперь, когда самодержавие, озлобленное и испуганное всем, что делается в Европе, душит с удвоенным ожесточением всякое умственное движение <...> Свобода лица – величайшее дело; на ней, и только на ней, может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь – мое право, мой долг; это – единственный протест, который у нас может сделать личность, эту жертву она должна принести своему человеческому достоинству».
«Эмиграция, – напоминает Герцен, – первый признак приближающегося переворота». А потому на Западе он найдет для себя важное дело: «Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего <...> Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бою, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в 60 миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский призыв образоваться – ответил через сто лет громадным явлением Пушкина...»
Тургенев и Герцен не надеялись на скорую встречу. Они условились о секретном способе сообщения друг с другом:
«Бог знает, – сказал Тургенев, – когда мне придется тебе писать в другой раз; Бог знает, что меня ждет в России... В случае какого-нибудь важного обстоятельства, ты можешь известить меня помещением в объявлениях ««Journal des Débat», que m-r Lois Morisset de Caen» («Журнал дэ Деба», что господин Луи Мориссе из Кана. – Ю. Л.) и т. д. Я буду читать этот журнал и пойму, что ты захочешь мне сказать».
Семейная ссора. Смерть матери
В июне 1850 года Тургенев сел на пароход, отправлявшийся из Штеттина в Петербург. Три года, проведенные за границей, составили целую эпоху в его жизни. Пережито и перечувствовано за это время было слишком много. Да и возвращался он в Россию известным литератором, прославленным автором «Записок охотника». В Петербурге сразу же возникли некоторые затруднения, связанные с его пребыванием в революционном Париже, но помощь друзей и влиятельных знакомых отвела, но не развеяла собиравшуюся над ним грозу.
В середине июля он явился в дом на Остоженке долгожданным, провинившимся гостем. Слезы радости на глазах у матери, расспросы, рассказы Ивана Сергеевича, добрые воспоминания. Собирались поехать в Спасское: наступало время летних охот по тетеревиным выводкам. Оставался нерешенным один вопрос. Безраздельная зависимость от матери доставляла сыновьям немало огорчений и лишений. Даже здесь, в Москве, Иван Сергеевич занимал порою деньги у Порфирия, чтобы заплатить извозчику. Но особенно тяжелым было положение у Николая. Мать благословила наконец его брак с Анной Яковлевной, предложила бросить службу и купила отдельный дом. Сын покорно согласился, вышел в отставку и перевез семью в Москву. Но на этом все и кончилось. По-прежнему он не получал от матери никакой материальной помощи, и семья его терпела страшную нужду.
Предварительно посовещавшись, братья попросили мать определить им небольшой доход, чтобы знать заранее, сколько они могут тратить. Варвара Петровна выслушала сыновей со вниманием, без гнева, согласилась с ними и обещала подумать и все решить. Проходили дни, минула неделя – никаких распоряжений, полное молчание.
Разговор возобновил Иван Сергеевич.
– Я не столько прошу за себя, как за брата... Я как-нибудь проживу сочинениями и переводами, А у него ничего нет, ему скоро есть будет нечего.
– Все, все сделаю, – отвечала Варвара Петровна, – оба вы будете мною довольны.
Наконец настал торжественный день объявления господского решения. Сыновья были приглашены в большую залу дома на Остоженке.
– Позвать сюда Леона Ивановича, – приказала мать вошедшему слуге.
Через несколько минут Леон Иванович принес на серебряном подносе два пакета и подал их своей госпоже. Варвара Петровна проверила надписи и один из них торжественно вручила Николаю, а другой Ивану.
– Прочтите же!
Сыновья повиновались. На простой бумаге, не скрепленной никакими официальными подписями и печатями, объявлялось о том, что Николаю даруется Сычево, а Ивану Кадное.
– Довольны ли вы теперь мною?
Николай Сергеевич подавленно молчал, а Иван ответил:
– Конечно, маман, будем довольны и будем благодарить тебя, если ты все сделаешь и оформишь дарственные.
– То есть как «оформишь»?!
– Не мне объяснять тебе, маман, ты сама прекрасно знаешь.
Могли ли они предполагать, что над ними будет разыграна очередная комедия.
Слуга Леон Иванович сказал им позже на ухо, что старостам Сычева и Кадного по почте послан был приказ: немедленно продать в «дареных» имениях весь хлеб, имеющийся на гумнах и на корню, а деньги от продажи выслать в Москву на имя самой Варвары Петровны.
На другой день утром барыня приступила к Ивану Сергеевичу с вопросами:
– Скажи мне, Иван, отчего вчера ты даже не поблагодарил меня? Неужели ты опять мною недоволен?
– Послушай, маман, оставим этот разговор... Не делай для нас ничего, оставь, и будем жить, как жили.
– Нет, не так! У вас теперь свои имения!
– Никаких имений нет, ничего ты нам не дала и ничего не дашь, – отвечал выведенный из терпения Иван Сергеевич. – Твои дарственные, как ты их называешь, не имеют силы. Завтра же ты можешь отнять у нас все, что «подарила» сегодня. Да и к чему! Имения твои, и все твое. Скажи нам просто: «Не хочу ничего вам дать!» К чему вся эта комедия?
– Ты с ума сошел! – закричала Варвара Петровна. – Ты забываешь, с кем ты говоришь!!!
– Мне брата жаль. За что ты его сгубила? Ты позволила ему жениться, заставила его бросить службу, переехать сюда с семьей. Ведь он жил своими трудами, у тебя ничего не просил... А теперь со дня его переезда ты на муку его обрекла, ты постоянно его мучаешь, не тем, так другим.
– Чем? Скажи, чем?! – повышала голос Варвара Петровна.
– Всем! – уже с отчаянием и не сдерживаясь, воскликнул Иван Сергеевич. – Да кого ты не мучаешь? Кого? Всех! Кто возле тебя свободно дышит?!
– Нет у меня детей! – вдруг закричала Варвара Петровна. – Вон! Ступай! – И, хлопнув дверью, удалилась из комнаты.
В господском кабинете с сердцем брошен был об пол портрет Ивана Сергеевича; стекло разбилось вдребезги, а картон с изображением отлетел далеко к стене. Сбежались слуги. Начались обмороки и истерика...
Так и валялся дорогой образ сына Ванички поруганным вплоть до возвращения Варвары Петровны из Спасского в первых числах сентября.
Когда припадок самовластия прошел, направила госпожа за сыновьями посыльного, но те уже уехали из Москвы в Тургеневе, единственную им принадлежащую деревушку, которая досталась по наследству от покойного отца.
Врачующие сельские просторы милой Родины. Им, только им обязан был Тургенев исцелением от невзгод безрадостного детства, трудной юности и бесприютной, скитальческой молодости. Все лето он провел в охотничьих странствиях, встречаясь с мужиками и крестьянскими детьми. Случалось, настигала ночь заплутавшего охотника, и небо с ясными, мерцающими звездами являлось для него надежным кровом при слабом свете догорающего костра. Тогда он написал два поэтических рассказа из «Записок охотника» – «Певцы» и «Бежин луг».
Неподалеку от Тургенева, в невзрачном кабачке, который получил в народе прозвище Притынного, присутствовал Иван Сергеевич при состязании двух певцов. Потрясенный услышанным, возвращался Тургенев домой по широкой равнине. «Затопленная иглистыми волнами
вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. «Он» сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика: «Антропка! Антропка-а-а!..»
Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз по крайней мере прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, пронесся едва слышный ответ:
«Чего-о-о-о?»
«Как велики силы русской жизни и как они подавлены, – думал Тургенев. – Сколько скрытых возможностей таится в русском, самом странном и самом удивительном народе, какой только есть на свете».
Возгласы мальчика, «более и более редкие и слабые, долетали еще до его слуха, когда стало уже совсем темно и он огибал край леса», окружающего Тургеневе.
«Антропка-а-а!» – все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи». Казалось, сама русская природа, сам степной и лесной ее простор взывали к человеку...
Часто Тургенев ловил себя на мысли, что думает о матери. Обида улеглась, и было жаль ее, жаль несчастной и по-своему незаурядной женщины с изломанной, трагической судьбой. Два раза подъезжал он к Спасскому, справлялся о здоровье матери, тайком забирался в потаенные уголки родного сада. «Горлинки немолчно ворковали, изредка свистала иволга, зяблик выделывал свое милое коленце, дрозды сердились и трещали, кукушка отзывалась вдали». Воспоминания детства набегали на него: «Куда ни шел, на что ни взглядывал, они возникали отовсюду, ясные до мельчайших подробностей, ясные в своей отчетливой определенности». Дядюшка Николай Николаевич сообщил ему под большим секретом, что Варвара Петровна оформила наконец своим сыновьям дарственные. И этот шаг был столь мучительным для ее неуступчивого характера, что матушка тяжело занемогла.
Тургенев знал, что мать раскаивается в своем поступке, что причиненная сыновьям жестокая обида и в материнском сердце отзывается теперь тяжелой болью. С годами становилась Варвара Петровна жертвой собственного своеволия. Дворовые шептали: «Изменилась барыня, ни крика, ни приказов, ни капризов. Как будто жить устала и устала властвовать». По-видимому, так оно и было; здоровье барыни с каждым днем таяло, одолевали роковые недуги.
С камнем на сердце возвращался Иван Сергеевич после таких воровских визитов в Тургенево. К осени испортилась погода, пошли дожди, и поневоле приходилось коротать одинокие часы в необжитом домишке под соломенной крышей. И вспоминался Куртавнель, дыхание легкого осеннего ветерка, который шептал в яблонях над головами. Куда ушло это прекрасное время? И где они теперь, далекие друзья? По-видимому, вернулись в Куртавнель. Что делают они в эту минуту? Сидят за столом, им весело, они шумно болтают? Возможно, вспоминают иногда и о Тургеневе? А он сидит один в маленькой комнатке, на дворе холод и слякоть, и северный ветер несет по земле желтые листья.
Однажды встречавшийся со спасскими дворовыми людьми слуга сообщил Тургеневу, что Варвара Петровна отбыла в Москву в тяжелом состоянии. На другой день Иван Сергеевич с ружьем и собакой отправился на охоту, и какая-то властная сила привела его в Спасское. Поздно вечером, в И часов, он постучал в стекло балконной двери родного дома. Служанка испугалась, но Варенька узнала Тургенева и отворила двери. И вот он стоял на пороге, весь промокший, с ружьем и охотничьей сумкой за плечами.
– Как маменька? Что ее здоровье? – были первые слова. – Я слышал, она очень больна? Опасна она?
Варенька его успокоила: «Страха за очень быстрый исход Порфирий Тимофеевич не высказывал».
Иван Сергеевич вошел в залу, где горела единственная сальная свеча: расчетливый Михаил Филиппович находил, что этого достаточно. И на душе было темно и нерадостно: в родительском доме Тургенев чувствовал себя в положении незваного гостя.
Из Спасского он взял с собою в Петербург восьмилетнюю дочь, Пелагею, которая жила в семействе Лобановых. Когда он увидел эту девочку, тащившую утром ведро воды с Варнавицкого колодца, жгучее чувство стыда и нежной отцовской жалости впервые горячей волной ударило в грудь, краской бросилось в лицо. Ведь он в своих заграничных скитаниях совсем забыл о ее существовании. Чем виноват несчастный ребенок перед миром, за что он мучается?
Тургенев написал супругам Виардо во Францию об истории рождения Пелагеи и о том несчастном положении, в котором оказалась его дочь. Он полагал, что в условиях России девочку ждут унижения и обиды. По закону она не может даже называть себя дочерью Тургенева, не имеет права наследовать его состояние, учиться в привилегированных учебных заведениях. В России в лучшем случае ей уготована судьба мещанки, занимающейся каким-нибудь расхожим ремеслом.