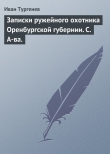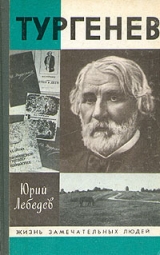
Текст книги "Тургенев"
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц)
С некоторых пор Тургенев стал внимательно и пристально вглядываться в личность Некрасова, перечитывать его поэтические произведения. Они казались ему грубоватыми по сравнению с Пушкиным и даже Лермонтовым, но в них чувствовалась энергическая сила в отрицании темных сторон крепостнического быта, прозаическая с виду суровость, в которой тем не менее были своя правда и своя красота. Некрасовскую «Родину», например, Тургенев непроизвольно выучил наизусть. Нынешней весною, подъезжая к Спасскому, он твердил про себя «суровые и неуклюжие», тяжело бьющие в одну точку строки:
И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть...
Тургенев так увлекся, что не заметил, как дрожки подкатили к воротам Спасского. И вдруг раздался крик целого хора людских голосов: «Ура! Иван Тургенев!» Он поднял голову и увидел следующую картину: всех дворовых Варвара Петровна вывела на улицу и выстроила мужчин у подъезда, а женщин на балконе мезонина. На веранде, в ожидании сына, она стояла, бесконечно довольная своей барской затеей. Выбитый из колеи, раздраженный Тургенев приказал поворачивать лошадей обратно. И только посланный вдогонку Николай Николаевич сумел кое-как уговорить племянника вернуться назад.
Трудно было понять Варваре Петровне причину гнева её сына: ей казалось, что такое изъявление всеобщей любви придется молодому барину по вкусу. Отношения с матерью оставались натянутыми до отъезда. Иван Сергеевич, сославшись на расстроенное здоровье, объявил ей, что уезжает за границу. Рассерженная Варвара Петровна, проклиная проклятую цыганку, ссудила на сей раз такую мизерную сумму денег, что с ними впору было только добраться до Парижа. Но решение уехать из России было твердым и бесповоротным, никакие увещевания и угрозы удержать Тургенева уже не могли. В конце января 1847 года он был в Берлине.
Россия живая и мертвая в «Записках охотника»
В январе 1847 года в культурной жизни России и в творческой судьбе Тургенева произошло знаменательное событие. В обновленном журнале «Современник», который не без помощи Тургенева перешел в руки Некрасова, Панаева и Белинского, в отделе «Смесь» был опубликован очерк из народного быта «Хорь и Калиныч». Предполагают, что и сам автор, и некоторые члены редакции не надеялись на тот шумный успех, который выпал на его долю. Даже место, ему отведенное, оставляло желать лучшего: набранный мелким шрифтом, помещенный среди заметок на агрономические, хозяйственные и прочие темы, «Хорь и Калиныч» на первый взгляд должен был затеряться в них.
Однако читатели не только заметили очерк Тургенева, но и предпочли его другим публикациям, отвели ему первое место в журнале. Чем объяснить этот успех? Может быть, актуальностью темы? Но в русской литературе уже существовали признанные мастера в жанре рассказа и повести из народного быта – В. И. Даль и Д. В. Григорович. Так что читательский интерес к тургеневскому очерку порождался совсем другими причинами.
Впервые на них указал Белинский: «Не удивительно, – писал он, – что маленькая пьеска «Хорь и Калиныч» имела такой успех: в ней автор зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил».
Публикацией «Хоря и Калиныча» Тургенев совершил своего рода «коперниковский переворот» в художественном решении темы народа. В двух крестьянских характерах он представил коренные силы нации, определяющие её жизнеспособность, перспективы её дальнейшего роста и становления. Перед лицом практичного Хоря и поэтичного Калиныча потускнел образ их господина, помещика Полутыкина. Именно в крестьянстве Тургенев нашел «почву, хранящую жизненные соки всякого развития», а значимость личности государственного человека он поставил в прямую зависимость от глубины её связей с этой «почвой»: «Из наших разговоров с Хорем я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, – убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях».
С такой стороны к крестьянству в конце 40-х годов не заходил даже Некрасов. Да и позднее, в 60-е годы, Добролюбов напоминал, что «полного, естественного воспроизведения народного быта» можно достичь лишь с уяснением значения «низших классов» «в государственной жизни народа». В словах критика-демократа указывался такой масштаб освещения народной жизни, какой уже заключал в себе очерк Тургенева, но какой и в 60-е годы был не по плечу демократической беллетристике.
Вдохновленный успехом первого очерка, Тургенев стал писать другие, внутренне ощущая единый замысел книги, поэтическим ядром которой «Хорь и Калиныч» оказался. Условно говоря, Тургенев зашел к народу с «толстовской» стороны: он нашел в жизни народа ту значительность, тот общенациональный смысл, который Лев Толстой положил потом в основу художественного мира романа-эпопеи.
Наблюдения над характерами Хоря и Калиныча у Тургенева не самоцель: «мыслью народной» выверяется здесь жизнь верхов. От Хоря и Калиныча эта мысль устремляется к русскому человеку, к русской государственности. И вот мы уже читаем, что из разговоров с Хорем охотник вынес убеждение: «Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему нравится, что разумно – того ему и подавай».
Тургенев выводит своих героев к природе, сливает их с нею, устраняя резкие границы между отдельными характерами. Этот замысел ощутим в сопоставлении обрамляющих книгу очерков – от «Хоря и Калиныча» в начале, к «Лесу и степи» в конце. Хорь погружен в атмосферу лесной обособленности: его усадьба располагалась посреди леса на расчищенной поляне. А Калиныч своей бездомностью и душевной напевностью сродни степным просторам, мягким очертаниям пологих холмов, кроткому и ясному вечернему небу.
В Париже Тургенев ведет уединенную жизнь, почти не выходит из своей квартиры и очень много работает. «Никогда еще мысли не приходили ко мне в таком изобилии, – сообщает он Полине Виардо, – они являлись целыми дюжинами. Мне представлялось, что я несчастный бедняк-трактирщик в маленьком городке, которого застигает врасплох целая лавина гостей; он в конце-концов теряет голову и совсем уже не знает, куда размещать своих постояльцев». Ощущая эстетическую целостность, складывающуюся из совокупности отдельных замыслов, Тургенев набрасывает одну за другой на полях черновых рукописей знаменитые «программы»; расположению рассказов в книге он придает очень большое значение: испробовано по крайней мере около девяти вариантов их расстановки, прежде чем найден оптимальный и окончательный. На расстоянии, из «прекрасного далека» Россия видится Тургеневу в едином образе, объединяющем в целое всё многообразие нахлынувших впечатлений и воспоминаний. Возникает не простая подборка тематически однородных рассказов, но рождается единое художественное произведение, внутри которого действуют закономерности образной взаимосвязи рассказов. Эти взаимосвязи чувствуют и его друзья в России; Некрасов печатает очерки не поодиночке, а группами – так создается особый поэтический контекст, обогащающий их художественную ёмкость.
Критика – русская и зарубежная – сразу же обратит внимание на композиционную рыхлость отдельных очерков в «Записках охотника». П. Гейзе в Германии и П. Анненков в России начнут разговор об их эстетическом несовершенстве. Подмеченная ими «неразрешенность» композиции в очерках есть, но как к ней отнестись, с какой точки зрения на неё посмотреть? Тургенев сам называет отдельные очерки «отрывками». В «изобилии подробностей», отступлений, «теней и отливов» скрывается не слабость его как художника, а секрет эстетического единства книги, составленной из отдельных, лишь относительно завершенных вещей. Чуткий Некрасов, например, понимает, что композиционная рыхлость их далеко не случайна и глубоко содержательна: с её помощью образный мир каждого очерка включается в широкую панораму бытия. В концовках очерков Тургенев специально резко обрывает нить повествования, мотивируя это логикой случайных охотничьих встреч. Судьбы людей оказываются незавершенными, и читатель ждет их продолжения за пределами случайно прерванного рассказа, а Тургенев в какой-то мере оправдывает его ожидания: разомкнутый финал предыдущего очерка часто подхватывается началом последующего, незавершенные сюжетные нити получают продолжение и завершение в других очерках.
В «Хоре и Калиныче», например, есть эпизод о тяжбе помещика Полутыкина с соседом: «Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу». Эта «случайная» деталь выпадает из композиционного единства очерка, о ней и сообщается мимоходом: главный интерес Тургенева сосредоточен на образах Калиныча и Хоря. Но художественная деталь, обладающая относительной самостоятельностью, легко включается в далекий контекст. В «Однодворце Овсяникове» курьезы помещичьего размежевания, непосильным бременем ложащиеся на плечи крепостных крестьян, развертываются в целую эпопею крепостнических самодурств и бесчинств. Рассказы Овсяникова о дворянских междоусобицах, об издевательствах богатых помещиков над малой братией – однодворцами – уводят повествование в глубь истории до удельной, боярской Руси. «Гул» истории в «Записках охотника» интенсивен и постоянен; Тургенев специально стремится к этому, историческое время в них необычайно емко и насыщенно: оно заключает в свои границы не годы, не десятилетия – века.
Постепенно, от очерка к очерку, от рассказа к рассказу, нарастает в книге мысль о несообразности, нелепости векового крепостнического уклада. В «Однодворце Овсяникове» история превращения французского барабанщика Леженя в учителя музыки, гувернера и, наконец, в дворянина характерна по-своему: любой иностранный выходец чувствовал себя в России свободным, крепь опутывала по рукам и ногам только русского человека, русского крестьянина. И вот в следующем очерке «Льгов» охотник натыкается у сельской церкви на почерневшую урну с надписью: «Под сим камнем погребено тело французского подданного, графа Бланжия». Судьба барабанщика Леженя повторяется в ином варианте.
Но тут же дается другой, русский вариант судьбы человека в крепостнически-беззаконной стране. Тургенев рассказывает о господском рыболове Сучке, который вот уже семь лет приставлен ловить рыбу в пруду, в котором рыба не водится. Жизнь Сучка – сплошная цепь драматических несообразностей, играющих по своему произволу человеческой личностью. В каких только должностях не пришлось побывать Сучку по сумасбродной воле господ: обучался он сапожному ремеслу, был казачком, кучером, поваром, кофишенком, рыболовом, актером, форейтором, садовником, доезжачим, снова поваром и опять рыболовом. Тургенев показывает драматические последствия крепостнических отношений, их развращающее воздействие на психологию народа. Человек перестает быть хозяином своей собственной судьбы и своей земли. Более того, он привыкает к противоестественному порядку вещей, начинает считать его нормой жизни и перестает возмущаться своим положением. Аналогичным образом складываются в книге судьбы многих её героев: шумихинского Степушки, скотницы Аксиньи с садовником Митрофаном из «Малиновой воды»; псаря Ермилы, у которого собаки никогда не жили, из «Бежина луга». Одна судьба цепляется за другую, другая за третью: возникает единая «хоровая» судьба народа в стране, где жизнью правит крепостнический произвол. Разные судьбы, «рифмуясь» друг с другом, участвуют в создании монументального образа крепостного ига, оказывающего влияние на жизнь нации.
В «Записках охотника» изображается Россия провинциальная. Сама тема вроде бы исключает критические выходы к России государственной, не представляя никакой опасности для «высших сфер». Возможно, это обстоятельство отчасти и усыпило цензуру. Но Тургенев занавес провинциальной сцены широко раздвигает, видно, что творится и там, за кулисами. Читатель ощущает мертвящее давление тех сфер жизни, которые нависли над русской провинцией, которые диктуют ей свои законы.
Характер помещика Полутыкина Тургенев набрасывает в «Хоре и Калиныче» легкими штрихами. Походя сообщается о его пристрастии к французской кухне, бегло упоминается о другой праздной затее – барской конторе. Неспроста о Полутыкине говорится мимоходом: так незначителен, так пуст этот человек по сравнению с полнокровными характерами крестьян. Но, выпадая из композиции очерка о Хоре и Калиныче, полутыкинская стихия оказывается не столь случайной и безобидной. Тургенев покажет барскую контору на полутыкинский манер в специальном очерке «Контора», а французские пристрастия полутыкиных воскресит в более значительном образе помещика Пеночкина. Даже в фамилиях героев останется сходство – и там и тут отсутствует жизненная полнота и полноценность. Но в пеночкиных полутыкинская стихия уже страшна, её разрушительные последствия в рассказе «Бурмистр» налицо.
В «Записках охотника» беспощадно разоблачаются и экономические последствия «цивилизаторской» деятельности «верхов». Полутыкинская манера хозяйствования не ограничивается заведением французской кухни и никому не нужных контор. В «Двух помещиках» Тургенев расскажет о «хозяйственной» деятельности важного петербургского сановника, «который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, – отдал строжайший приказ: вперед до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по-видимому, простого расчета: мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее».
С деятельностью этого сановника перекликается хозяйствование на земле помещика Чертопханова Пантелея Еремеевича, который «избы крестьянам по новому плану перестроивать начал, и всё из хозяйственного расчета; по три двора вместе ставил треугольником, а на середине воздвигал шест с раскрашенной скворечницей и флагом. Каждый день, бывало, новую затею придумывал: то из лопуха суп варил, то лошадям хвосты стриг на картузы дворовым людям, то лен собирался крапивой заменить, свиней кормить грибами. <...> Около того же времени повелел он всех подданных своих, для порядка и хозяйственного расчета, перенумеровать и каждому на воротнике нашить его нумер...». В бесчинствах провинциального помещика просвечивают бесчинства иного, всероссийского, государственного масштаба, ощущается тургеневский намек на деятельность «надменного временщика» Аракчеева, организатора крестьянских военных поселений.
Веками складывался этот противоестественный порядок вещей, вошел в плоть и кровь национального характера, наложил свою суровую печать даже на природу России. Через всю книгу Тургенев провел устойчивый, повторяющийся мотив изуродованного пейзажа. Впервые он возникает в «Хоре и Калиныче», где бегло сообщается об орловской деревне, обыкновенно расположенной «близ оврага». В «Певцах» деревня Колотовка рассечена «страшным оврагом», который, зияя, как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы. Его не оживляют ни растительность, ни ключи, а на дне лежат «огромные плиты глинистого камня». Заблудившийся, застигнутый угрюмым мраком ночи охотник испытывает в «Бежином луге» «странное чувство», когда попадает в лощину, имевшую вид «почти правильного котла с пологими боками». «На дне её торчало стоймя несколько больших белых камней, – казалось, они сползлись туда для тайного совещания...» Образ страшного, проклятого людьми урочища не раз возникает на страницах «Записок охотника». Такова, например, прорванная в Варяавицком овраге плотина – место, по рассказам крестьянских ребят, «нечистое и глухое». «Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли водятся». Не случайно среди пугающей народ нечисти появляется на старой плотине призрак барина Ивана Ивановича, восставшего из могилы в поисках разрыв-травы. Пейзажи такого рода концентрируют и сгущают в себе вековые народные беды, страхи и невзгоды.
Тургенев с небывалой широтою захватывает в книге всероссийский социальный конфликт, драматически сталкивает друг с другом два национальных образа мира, две России – официальную, крепостническую, мертвящую жизнь, с одной стороны, и народно-крестьянскую, живую и поэтическую, с другой. И все герои, эту книгу населяющие, тяготеют к одному из двух полюсов – «мертвому» или «живому».
При всём многообразии индивидуальностей всем поэтически одаренным героям Тургенев придает устойчивые, из рассказа в рассказ повторяющиеся черты. Сходны, например, их портретные характеристики: внешний облик Калиныча – «худой, с небольшой, закинутой назад головкой», с «жидкой клиновидной бородой» – повторяется в Степушке из «Малиновой воды» – «худеньком, маленьком» с «седой головкой» и «бородой, словно две недели тому назад выбритой». В Касьяне Тургенев увидит «маленькое, смуглое, сморщенное лицо» с «острым носиком», «карими, едва заметными глазками» (ср. со Степушкой: «лицо у него маленькое», «носик остренький»), «крошечную головку» и тело «чрезвычайно тщедушное и худое». В рассказе «Бежин луг» в облике Кости Тургенев подметит «задумчивый и печальный взор», и лицо его вновь будет «невелико, в веснушках, книзу заострено, как у белки», и роста он окажется «маленького», «сложения тщедушного». Так формируется в книге цельный художественный образ, к которому в равной мере причастны Калиныч, Касьян, Костя, Яков Турок и другие герои «Записок охотника» с поэтическим складом ума и характера.
Очень часто случается в «Записках охотника», что судьба одного из героев, кажущаяся загадочной и недосказанной, проясняется судьбой другого. О прошлом Степушки в «Малиновой воде» ничего не сказано, как он дошел до нищенски-бесприютного существования – мы не знаем. Однако предыстория жизни Степушки в «Малиновой воде» есть, только раскрывается она через историю Власа. Рассказ о бессмысленной встрече с барином, к которому он ходил в Москву за многие сотни верст, и о полной безнадежности его нынешнего положения неспроста приводит Степушку в возбужденное состояние, столь ему не свойственное – уж очень забит, безответен и робок этот герой. Но рассказ задел его за живое. В истории Власа он нашел, по-видимому, повторение своей собственной горемычной судьбы. В жалком и заплеванном Степушке неожиданно прорывается чуткость к чужому страданию.
Острая до боли человечность, воспитанная в народе жизнью, полной невзгод и лишений, особенно трогательна в характере Вани, семилетнего крестьянского мальчугана. Вспомним эпизод из «Бежина луга»: разговор двух мальчиков, один из которых живет в богатой семье, а другой – в бедной: «А что, Ваня, – ласково заговорил Федя, – что, твоя сестра Анютка здорова?» – «Здорова», – отвечал Ваня, слегка картавя. – «Ты ей скажи – что она к нам, отчего не ходит?..» – «Не знаю». – «Ты ей скажи, чтобы она ходила». – «Скажу». – «Ты ей скажи, что я ей гостинца дам». – «А мне дашь?» – «И тебе дам». Ваня вздохнул: «Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая».
Эта же особенность национального характера поражает Тургенева и в рассказе «Смерть»: русские люди умирают удивительно, ибо и в час последнего испытания думают не о себе, а о других, о ближних. В сострадательной любви – источник их мужества и душевной стойкости, с которой они принимают смерть.
Многое привлекает Тургенева в русской жизни и многое отталкивает. Но есть в ней одно качество, которое автор «Записок охотника» ставит очень высоко, которое искупает, с его точки зрения, теневые стороны национальной психологии. Это качество – демократизм, дружелюбие, живой талант взаимопонимания, который хранится в народной среде и который не истребили, а заострили века крепостничества, суровые испытания русской истории. Родство народных судеб, так тонко тургеневской книгою схваченное, на каждом шагу заявляет о себе глубокой, сердечной общительностью.
В создании целостного образа живой России участвует природа. Поэтичных героев Тургенева чаще всего сопровождает родственный пейзажный мотив. Мы видим лицо Калиныча, кроткое и ясное, как вечернее небо. Душевная кротость героя подхвачена природой, в ней разлита. Расставаясь с Калинычем, Тургенев вновь затронет эту художественную связь: «Мы поехали; заря только что разгоралась... Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и всё глядел да глядел на зарю». Кроткое и ясное вечернее небо еще раз признает в Калиныче внутреннее родство с собою. Облик героя срастается с образом зари и неба. Через Калиныча сама природа оживает и одухотворяется. И следующий очерк «Ермолай и мельничиха», открывающийся картиной весеннего вечера, это поэтическое родство природы с Калинычем по-своему развивает. Рассказывается только о природе: о птицах, о деревьях, о лесе, о заре. Но образ Калиныча в ней оживает, когда речь идет об «алом свете вечерней зари» или о том, как «румяное небо синеет». Природа не только хранит память о героях, уже ушедших из книги, не только периодически воскрешает их в образной памяти читателя, но и художественно связывает родственные характеры людей между собою. Вечерняя заря предваряет появление у охотника нового спутника – Ермолая, очередной вариации на тему Калиныча.
Друг Тургенева, немецкий писатель Пауль Гейзе, говорил о «чрезвычайной близости» Тургенева к природе, близости, уже утраченной Западной Европой. В авторе «Записок охотника» его привлекало непривычное для немецкого литератора сочетание «непосредственной, простонародной задушевности и просвещенной культуры». «Я много сходился с русскими, – заявлял один из героев Гейзе. – В них, как в моем уважаемом друге Тургеневе, мне особенно нравилось редкостное слияние светского человека с простым, крестьянским укладом души». Француз Альфонс Доде отмечал у Тургенева потерянный художественной культурой Запада синкретизм образного восприятия, близкий к фольклору. Взгляд Тургенева лишен специализации, «двери между его чувствами открыты. Он воспринимает деревенские запахи, глубину неба, журчание вод и без предвзятости сторонника того или иного направления отдается многообразной музыке своих ощущений». Эта музыка доступна далеко не всем. «Людям, оглушенным с детства ревом большого города, никогда не уловить её, не услышать голосов, населяющих мнимую тишину леса».
Живая любовь ко всему живому коренится не только в природной мягкости характера Тургенева. Она вынесена им из народной глуби, из непосредственного общения с культурой русского крестьянства. В тургеневском рассказчике привлекает редкий талант приобщения к народному миросозерцанию. Как и Касьян, он тоже человек бессемейный, непоседа и правдолюбец, скитающийся по Руси. Как Ермолай, он тонко чувствует лес вплоть до каждого дерева и каждой птицы в нём, степь вплоть до каждого насекомого и каждой былинки в ней. Герои книги «живут одной жизнью» с её автором, одаренным тем же национальным складом ума.
Удивителен с этой точки зрения «Бежин луг»: в нём как в капле воды отражается неподдельный демократизм поэтического мироощущения Тургенева, характерный для книги в целом. «Бежин луг» – живой художественный организм с динамичным, стремительно развивающимся сюжетом. Всё в нём движется от мрака к свету, от тьмы к солнцу, от загадок и тревожных вопросов к их разрешению. Рассказ открывается впечатляющей картиной одного из июльских дней. Утренняя заря, разливаясь «кротким румянцем», пробуждает в памяти читателя Калиныча с лицом, кротким и ясным, как вечернее небо, а вслед за ним и других героев с поэтическим складом души, уже неотделимых от устойчивого в книге пейзажного лейтмотива. Люди и природа дышат здесь одной жизнью, «помнят» друг о друге, выступают как органы единого и живого существа.
Душою этого единства является личность автора, Тургенева, слитая с жизнью народа, с глубинными пластами русской и даже праславянской культуры. Из этого бездонного источника черпает она свою поэзию. «Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман... Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило». Солнце здесь – как всесильное божество, излучает жизнь, одухотворяя и просветляя окружающий мир. Читатель забывает о поэтической условности картины; вместе с автором он любуется сиянием живого и ласкового существа, которое пронизывает всё какой-то «трогательной кротостью», вызывает в сухом и чистом воздухе запахи полыни, сжатой ржи и гречихи, облегчает земледельцу уборку хлеба.
Поклонение солнцу встречается в многочисленных памятниках народной культуры, от старинных песен и крестьянских обрядов до «Слова о полку Игореве». «Исчезающее вечером, как бы одолеваемое рукою смерти, оно постоянно, каждое утро, снова является во всем блеске и торжественном величии, что и возбудило мысль о солнце, как о существе неувядаемом, бессмертном и божественном. Как светило вечно чистое, ослепительное в своем сиянии, пробуждающее земную жизнь, солнце почиталось божеством благим, милосердным; имя его сделалось синонимом счастья <...> карателем нечистой силы мрака и холода, а потом и нравственного зла – неправды и нечестия», – писал глубокий знаток поэтических воззрений крестьян на природу, современник Тургенева А. Н. Афанасьев.
Чародей русского художественного слова, Тургенев будит застывшие в языке народные предания и поверья, легко касается мифологических первооснов национальной памяти. Французский критик Мельхиор де Вогюэ замечал, что в «Бежине луге» поэт «заставил говорить землю, прежде чем заговорили дети, и оказалось, что земля и дети говорят одно и то же». Поэтическое чувство природы у Тургенева развивается в русле национального мифопоэтического мышления: просыпаются спящие в словах древние смыслы, придающие картине природы поэтическую образность, согласную с духом тех народных легенд, которые рассказывают крестьянские ребятишки в таинственную ночь у костра.
Местность, по которой блуждает Тургенев близ родового гнезда своего отца, издревле питала народную фантазию и служила источником многочисленных легенд. Земляк Тургенева, писатель-этнограф И. П. Сахаров, еще в 1831 году записал в своем дневнике: «Чаплыгинское городище находится в Чернском уезде, в имении г. Тургенева, при реке Снежедок. Ныне все это городище поросло березняком и изрыто кладокопальщиками. В деревнях есть предание, что в этом городище скрываются сокровища, а потому многие из поселян принимали на себя труд разрывать землю в городищах для открытия кладов». По народным преданиям, собранным современным ученым и краеведом В. А. Громовым, клады Чаплыгинского городища подле Бежина луга «зарыл местный разбойник Кудеяр, имевший здесь в стародавние времена свой притон».
В лесной части Орловской губернии вплоть до начала XX века крестьяне называли много мест, где скрыты клады Кудеяра. Говорили, что «над камнями, прикрывающими эти сокровища, не только вспыхивают огоньки, но два раза в неделю, в 12 часов ночи, слышен бывает даже жалобный плач ребенка». А в селе Козьем на берегу Красивой Мечи бытовало старое предание о погибели троицкого хоровода. «Был год худой и неурожайный, были знамения на войну и мор, носились по селам худые толки о большой беде, о великом горе. Народ жил кручиною всю весну: никто не смел песни спеть, никто не думал о хороводах. Наступил Троицын день. Молодежь не стерпела и вышла в поле разыграть хоровод. Долго старики уговаривали молодых забыть про веселье. Молодые поставили на своем... Вдруг налетела грозная туча, ударил гром – и весь хоровод обратился в камни. С тех пор, говорят старики, каждый год на этот день воют камни и вещают всем беду неминучую».
Народными легендами навеяно «странное чувство», испытанное охотником в глухой лощине, на дне которой «торчало стоймя несколько больших белых камней, – казалось, они сползлись туда для тайного совещания». Душевный мир охотника захвачен поэзией сказаний и поверий, излучаемых во мраке ночи древней дедовской землей. Есть в жутковатой тургеневской ночи далекие отголоски славянских представлений о божестве мрака. «С закатом дневного светила на западе, – писал А. Н. Афанасьев, – как бы приостанавливается вечная деятельность природы, молчаливая ночь охватывает мир, облекая его в свои темные покровы». И у славян «сложилось убежденье, что мрак и холод, враждебные божествам света и тепла, творятся другою могучею силою – нечистою, злою и разрушительною».
Еще не прозвучали рассказы Кости о заблудившемся в лесу Гавриле, Ильюши о лешем, который долго водил по лесу заплутавшего мужика, а потерявшийся охотник уже кружит и кружит по незнакомым местам, пока вдруг не оказывается «над страшной бездной». Всё, что совершается с ним, напоминает читателю обычные проделки лешего, который нарочно путает, или, по народному выражению, обходитстранствующих по лесу, с умыслом переставляет дорожные приметы и, наконец, заводит человека в гиблое место – в овраг или в болото, а то и на край обрыва.
Возбуждая суеверные чувства сначала в душе охотника, а потом в сознании крестьянских ребят, тургеневская ночь дает лишь намеки на возможность реалистического объяснения её загадок и тайн. Она всесильна и всевластна, окончательное слово разгадки она бережет от человека в темной своей глубине. Звучит жутковатый рассказ о псаре Ермиле, о том, как встревожилась его лошадь, почуя злую нечистую силу. И вдруг «обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна». Чего испугался табун? Что почуяли в ночном мраке собаки? Природа своей таинственной жизнью продолжает фантастические рассказы ребят.
– Что там? Что там такое? – спросили мальчики.
– Ничего, – отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, – так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, – прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью».
Ответ как будто бы есть, но ответ неуверенный, предположительный. Да и внешним спокойствием Павел не в силах сдержать неутоленную тревогу и дрожь.
Ночная природа не дает пытливой мысли человека полного удовлетворения, поддерживает ощущение неразрешенности загадок земного бытия. Поэтому все реалистические мотивировки имеют оттенок предположительности. Мир, надвигающийся со всех сторон на слабый огонек костра, не теряет своей поэтической таинственности, глубины, неисчерпаемости: «Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, – раздался вдруг детский голос Вани, – гляньте на божьи звездочки, – что пчелки роятся!» Он выставил своё свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились».