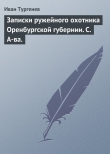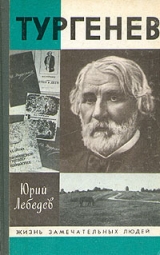
Текст книги "Тургенев"
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц)
Со временем приступы любовной лихорадки повторялись реже, но крепла связь с чужим семейством, «на краюшке» которого он нашел себе приют. Тургенев очень любил детей Виардо, относился к ним с настоящей отеческой нежностью, они же, в свою очередь, привязались к доброму и ласковому великану из России, гуляющему с ними часами, рассказывающему импровизированные сказки. Особенно теплыми были чувства Тургенева к Марианне и Клавдии, младшим детям Полины и Луи.
С Луи Виардо его связывали прочные приятельские чувства. Они часто занимались совместными переводами с русского на французский, и уже в 1845 году, благодаря сотрудничеству Тургенева и доброй воле Виардо, во Франции появились первые переводы Гоголя. Тургенев очень увлекался живописью и чрезвычайно высоко ценил эстетическое чутье друга, большого знатока и ценителя изобразительных искусств, автора капитальных трудов по этому вопросу. Сближала их и страсть к охоте, которой они неизменно предавались на протяжении долгих лет жизни под одной крышей.
А в отношениях с Полиной главным было обожание «единственной в мире» женщины и артистки. Избалованная славой и успехом, которые сполна выпали ей на долю, она обладала характером сильным и властным, обостренным чувством самолюбия и гордости, умением подчинять себе людей и наслаждаться их благоговейным почитанием. Тургенев же перегорал в эстетических восторгах и сорокавосьмилетней своей богине пятидесятилетним мужем писал письма, как юный Ромео пятнадцатилетней Джульетте: «Я не могу больше. Я не могу жить вдали от вас. Я должен чувствовать вашу личную близость, наслаждаться ею. День, когда ваши глаза не светили мне, – погибший для меня день... Ах! довольно! довольно! Иначе я не совладаю с собой». Он по-прежнему «с несказанным умилением простирался у её ног», вновь просил «её милые руки», чтобы «выцеловать всю душу», рассыпался в словах благодарности за простую справку о здоровье, за «милую записочку». Всякая подробность её жизни оставалась для Тургенева священной и значительной: в письмах к Людвигу Пичу сообщалось об опухоли её пальца, при известии о том, что её нос укусила муха, едва не совершался побег из Спасского в Париж.
Тут чистейшая любовь действительно опасно балансировала на грани подданства: «Для меня её слово – закон!» В разговоре с Полонским Тургенев всерьез говорил о «присухе» и утверждал, что Полина Виардо – колдунья. Николай Сергеевич намекал, что «такие тайны доверяют только брату», а Некрасов настоятельно советовал Тургеневу не шутить со своими нервами и действовать решительно, – иначе не придется уехать из Парижа. Тургенев не послушал. И снова он «исходит в непрестанном обожании» и «на коленях целует священный для него подол ее платья». «Он страдал сознанием, что не может победить женской души и управлять ею», – говорил близкий друг Тургенева П. В. Анненков.
Но в романе с Полиной Виардо этот недостаток был достоинством. Гениальная певица сама обладала сильной страстью только на сцене и для сцены. Здесь она могла казаться воплощением тропического зноя. А в жизни не было человека благоразумнее и трезвее. Тургенев изумлялся её способности быть вечно здоровой, веселой и деятельной. А Жорж Санд поражалась уравновешенным эгоизмом жгучей актрисы, её «спокойной и ревнивой» заботливостью о своем покое. «Декабрьское превращение» Луи Наполеона в Наполеона III, например, несказанно взволновало всех, кто был небезразличен к политической свободе Франции. Спокойной осталась одна Полина: она даже приказала не принимать мужчин, потому что они надоедали ей своими вопросами. «Это меня только даром утомляет и волнует», – объясняла она. «Уметь рассчитать, когда стоит и не стоит волноваться, и переживать только не напрасныеволнения – значит вовсе не испытывать непосредственных волнений, быть неспособной на такие волнения. Поистине – дар богов – не менее драгоценный, чем сценический талант! Не Тургеневу, разумеется, было взволновать эту необыкновенную душу», – писал старый биограф Тургенева И. И. Иванов.
Как только Варвара Петровна узнала о роковом увлечении сына, сердце её упало: она считала своих сыновей однолюбами, и тревоги её оказались не напрасны. Во время гастролей Полины в Москве Варвара Петровна была на одном из концертов и, скрепя материнское сердце, признала: «Хорошо проклятая цыганка поёт». Но, не умея подействовать на сына ласковым проникновенным словом и советом, по привычке старой крепостницы, она решила сократить материальную поддержку. Постепенно она свела её до такого минимума, что Тургеневу нечем было платить за квартиру, а порой и за обед. С 1843 года он переживает трудное время. Среди новых друзей круга Белинского он слывет богачом и аристократом. Тургенев вхож в великосветские салоны, он усвоил с юности замашки светского человека и привык жить широко. А теперь приходится занимать деньги у Панаева и Некрасова, на концерты ходить в чужие ложи, не имея средств оплатить дорогие билеты, и при этом как-то выкручиваться, делать вид, что ничего не произошло. Временами в связи с ложным своим положением он попадает в неловкие ситуации, дающие повод заподозрить его в хлестаковщине. А. Я. Панаева вспоминает, как в разговоре на даче у Белинского Тургенев похвалился искусным поваром, умевшим готовить очень тонкие блюда.
– Небось, графов и баронов угощаете тонкими обедами, а своих приятелей-литераторов не приглашаете к себе, – шутя заметил Белинский.
Тургенев пришел в замешательство: конечно, по своему положению в обществе он должен, обязан был приглашать в гости друзей. Этого требовал общепринятый кодекс порядочного светского человека, но как быть, если повар у него действительно искусный, да не на что приготовить обед. Отказаться – стыдно, сказать правду – не поверят. И вот, не подавая виду, не обнаруживая внутреннего замешательства, он приглашает всех к себе на дачу на обед. Когда же гости в назначенный час к нему являются, виновника обещанного торжества не оказывается дома... За этим следуют тургеневские визиты с извинениями и ссылкой на забывчивость. Другого выхода он придумать не мог.
Бывали промахи и профессионального характера: Тургенев – мастер устного рассказа, и в ходе разговора о случившихся в действительности событиях его воображение разыгрывается, в рассказ включается творческая фантазия, – а в результате складывается мнение, что он любитель прихвастнуть и сочинитель небылиц. Водилась в молодости за Тургеневым еще одна особенность: пресыщенный в Берлине отвлеченно-философскими разговорами на эстетические темы, он прерывал нередко словоизлияния приятелей какой-нибудь нелепой выходкой. Однажды, например, Тургенев заявил, что перед великими произведениями искусства, живописи и скульптуры он испытывает зуд под коленами и ощущает, как икры его ног обращаются в треугольники. Здесь автор «Гамлета Щигровского уезда» допускал сознательный и дерзкий эпатаж.
Манера поведения Тургенева, не вполне понятая современниками, была умышленным протестом против нивелирующего личность кружкового воспитания, инерция которого еще сказывалась в среде петербургских литераторов. Впоследствии устами уездного Гамлета, дворянина Василия Васильевича, Тургенев дал уничтожающую критику наиболее отрицательных сторон кружковой жизни, которые испытал он сам: «...Кружок – да это гибель всякого самобытного развития; кружок – это безобразная замена общества, женщины, жизни... Кружок – это ленивое и вялое житьё вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной, благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок – да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия; в кружке, благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе; в кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с «затаенными» мыслями; в кружке молодые, семнадцатилетние малые хитро и мудрено толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой, – да и о чем говорят! В кружке процветает хитростное красноречие; в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников... О кружок! ты не кружок: ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!»
В непривычно резкой для Тургенева характеристике прорывается еще не остывшее раздражение интеллектуальной замкнутостью философских кружков. Преодолевая романтизм и идеализм, Тургенев слишком беспощадно оценивает «метафизический» период своей и русской духовной жизни 1830 – начала 40-х годов. «Посудите сами, – восклицает уездный Гамлет, – какую, ну, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить её к нашему быту, да не её одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию... скажу более – науку?»
Позднее в романе «Рудин» писатель внесет существенные поправки в столь однозначную и однобокую характеристику. Ученый круга Тургенева, известный либеральный профессор Б. Н. Чичерин вспоминал: «Однажды я сказал Ивану Сергеевичу, что напрасно он в «Гамлете Щигровского уезда» так вооружился против московских кружков... Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль... Тургенев согласился с моим замечанием».
В кругу «Современника»
«Семена, посеянные Гоголем, – мы в этом уверены, – безмолвно зреют теперь во многих умах, во многих дарованиях; придет время – и молодой лесок вырастет около одинокого дуба», – писал Тургенев в 1846 году. К этому времени вокруг В. Г. Белинского объединилась целая группа писателей-реалистов, последователей Гоголя, сторонников так называемой «натуральной школы».
В 1845 году вышел в свет первый сборник, составленный Н. А. Некрасовым из трудов этих писателей, – «Физиология Петербурга». В предисловии к сборнику Белинский призывал русскую литературу выйти за пределы кружкового столичного существования на простор разноголосой и пестрой российской действительности: «Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, Остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь, – всё это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему! Мало этого: сколькими оттенками пестреет сама Великороссия не только в климатическом, но и в общественном отношении! Северная полоса России резко отличается от средней, а средняя – от южной. Переезд из Архангельска в Астрахань, с Кавказа в Уральскую область, из Финляндии в Крым – всё равно что переезды из одного мира в другой. Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса – какие резкие контрасты! Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!»
Литературу, вышедшую из-под опеки романтической, кружковой эстетики, манила и звала к себе живая жизнь. Большую заботу о становлении писательского таланта Тургенева проявлял в эти годы Белинский. Общение с ним направило художественный поиск писателя по новому, демократическому руслу. В разговорах Белинский, идейный вдохновитель «Записок охотника», неоднократно напоминал Тургеневу, что «народ – почва, хранящая жизненные соки всякого развития; личность – плод и цвет этой почвы».
В министерстве внутренних дел Тургенев служил в канцелярии В. И. Даля, мастера рассказов из народного быта, составителя «Толкового словаря живого великорусского языка». В канцелярию Даля попадали дела о наказаниях, о сектантах, о «преобразованиях губернских правлений», о земской полиции и т. п. Именно по этим делам Тургеневу приходилось составлять доклады, записки, отношения. Поэтому служба расширяла знакомство писателя с современной жизнью народа, в частности, с русскими раскольниками и их сектами. Возможно, уже здесь созревал у Тургенева образ Касьяна-правдоискателя из секты «бегунов». Немаловажное влияние на будущего автора «Записок охотника» оказывал и начальник канцелярии. В то время Даль собирал и обрабатывал материалы для словаря. Самая тесная дружба объединяла его с подчиненными. Как только они освобождались от дела, завязывались споры и рассуждения о русском языке. Тургенев питал особое пристрастие к употреблению в разговоре провинциальных выражений, Белинский даже называл его в шутку «орловцем, не умеющим говорить по-русски». И этим качеством своего подчиненного литератора Даль очень дорожил.
Однако служба не приносила Тургеневу удовлетворения: он видел, что деятельность бюрократических кругов слишком далека от решения практического вопроса, которому стоило посвятить жизнь. В министерстве Тургенев часто сталкивался с проявлением той же деспотической силы, которая была ему глубоко ненавистна: наказание без суда и следствия, административным порядком, петербургских бродяг; суровые полицейские меры по отношению к раскольникам. А однажды и сам Тургенев сделал досадную оплошность, окончательно выбившую его из колеи: «переписывая бумагу, влепил какому-то несчастному вору вместо 30 ударов плети – триста ударов кнута». Вместе с нараставшим желанием бросить службу в министерстве зрели новые писательские планы. В рецензии на «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского» – В. И. Даля – Тургенев писал, что «в русском человеке таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития». Его внимание всё более и более привлекала низовая, крестьянская или патриархально-дворянская Русь. Тургенев утверждал, что «народный писатель» должен проникнуться «сочувствием к народу, родственным к нему расположением, наивной и добродушной наблюдательностью».
Все эти качества, необходимые для «народного писателя», открывала перед Тургеневым охота. В последние наезды в Спасское он стал более внимательно присматриваться к русскому мужику. Охота превращалась в способ особого изучения всего строя народной жизни, внутреннего склада крестьянских характеров. В общении с Афанасием Алифановым и другими охотниками из народа Тургенев убеждался, что «вообще охота свойственна русскому человеку; дайте мужику ружьё, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить, в одних лаптишках, по болотам да по лесам, с утра до вечера». И сколько он всего насмотрится в своей скитальческой жизни! Но главное в том, что охота сближает людей между собою, что на этой общей для него, барина, и для простого мужика основе между ними возникает особый характер отношений, немыслимый в обычной, повседневной действительности. Когда Тургенев в Спасском, для Афанасия он барин, и отношения с ним складываются соответствующим образом. Но стоит им вдвоем покинуть усадьбу и затеряться в лесной глуши или дальних деревеньках, – всё сразу меняется. Исчезает в Афанасии подобострастное выражение лица, интонации голоса изменяются, да и весь характер тоже. На охоте он ведет себя с Тургеневым на равных, что барин, что мужик – нет разницы: оба охотники. И одеваются они одинаково, так что господина от слуги если и можно отличить, то по высокому росту и походке.
Вспомнился Тургеневу курьезный, но характерный случай. Отправляясь на охоту, он брал с собой обычно сухое вино, разбавленное водой, и несколько бубликов. Афанасий носил провизию в своей сумке. И вот однажды устали охотники, сели под деревом.
– Ну, теперь можем и поесть, – сказал Тургенев.
– А всё съедено, нет вина и бубликов, – спокойно отвечал Афанасий.
– Но как ты посмел съесть их?
– Как хотите, – спокойно ответствовал верный слуга. – Я раскупорил бутылку, налил вино и выпил его, а бубликами закусил...
«Ну мыслимое ли это дело, чтобы в границах Спасского слуга мог позволить себе подобное? А на охоте это возможно, тот же Афанасий видит во мне не барина, а охотника, такого же, как он, человека. Вот что мне в охоте и дорого: я люблю охоту за её свободу».
Да и мужики, с которыми он встречался в охотничьих странствиях, вели себя с ним необычно, были перед ним щедро откровенны, доверчиво сообщали свои тайны. И всё по той же причине: он был для них охотником, а охотник – ведь это странник, бродяга, отрешившийся от тех ложных ценностей, которые в мире социального неравенства разобщают людей.
Раз в Калужской губернии Тургенев встретился с мужиком, поразившим его государственным складом ума. Он жил посреди леса: на расчищенной поляне стоял его добротно сложенный дом, и сам хозяин был «кряжист, сед и плотен». Мужик этот, прозванный в народе Хорем, был крайне любопытен и, узнав о пребывании Тургенева за пределами отечества, много расспрашивал его о порядках в немецких землях, и не просто выслушивал, а постоянно как бы на себя и на русскую крестьянскую жизнь примеривал заморские обычаи и здраво рассуждал о том, что русскому человеку не годится, а что ему явно бы подошло. Тургенев так и вздрогнул от удивления и тайной радости: мужик-то этот буквально подтверждал правоту Белинского в тех долгих беседах, которые велись летом 1844 года. Вот он, русский человек, настоящий, не придуманный в кружках теоретизирующих интеллигентов. Он сам не хочет отрываться от Европы, а проявляет к ней живейший интерес и готовность учиться всему хорошему, что есть у его заграничных соседей.
Но тут же и другая мысль, уже печальная, пришла Тургеневу в голову. Прими он этого мужика в барских комнатах Спасского, – слова бы от него путного не добился, кроме: «Вы наши отцы, благодетели...» А почему? Да потому, что не доверяет мужик барину, даже если он добрый и вполне искренне хочет крестьянину помочь. Выход один – рубить цепь, которая, лежит тяжелым бременем на плечах русского человека и не дает развернуться богатым творческим его возможностям.
На прощанье Хорь спросил у Тургенева:
– А что, у тебя своя вотчина есть?
– Есть.
– Далеко отсюда?
– Верст сто.
– Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?
– Живу.
– А больше, чай, ружьем пробавляешься?
– Признаться, да.
– И правильно делаешь, стреляй себе тетеревов, да старосту меняй почаще.
С какой свободой этот Хорь оценивал никчемное положение нынешних господ в стране, какую ничтожную роль он отводил помещикам в культурной и хозяйственной жизни русской деревни!
Когда в 1845 году Тургенев оставил службу в министерстве внутренних дел и вместе с Луи и Полиной Виардо впервые посетил Францию, в Париже он встречался с Николаем Ивановичем Тургеневым, одним из первых русских борцов за освобождение крестьян. Не только мнимые родственные связи привели Ивана Сергеевича в дом опального декабриста, насильно лишенного родины. Он чувствовал, что найдет в этом доме поддержку своим мыслям и благословение на писательский труд. Николай Иванович живо интересовался тем, что происходит в России, и в связи с высокой оценкой Петровских реформ напомнил, что Яков Тургенев служил при Петре I шутом и стриг бороды боярам, а прапрадед Ивана Сергеевича Роман Семенович участвовал в первом Нарвском походе, отличился в Полтавской битве, был «ранен под левое плечо». Не в традициях тургеневского рода равнодушно взирать на царящие в стране произвол и насилие по отношению к русскому мужику. Он упрекал русских литераторов за упорное молчание по этому наболевшему вопросу: «Почему рабство в собственном смысле слова, рабство гражданское никогда не занимает их Музу? Как ни толкуй, но хладнокровному оставаться нельзя, когда один мучит – терпят другие по произволу. А бедных русских крепостных и вообще мужиков русских мне как-то особенно жаль, жаль донельзя. Как такое зрелище не образумит Жуковского? С его чистой нравственностью?»
Рассказы Ивана Сергеевича о богатых творческих возможностях русского народа, вынесенные из его охотничьих наблюдений, воодушевили Николая Ивановича: «Вот предмет для литературного изображения! Почему бы вам не продолжить Гоголя? Я читал его «Мертвы едуши». Это книга замечательная, но крестьянская Русь в ней остается на заднем плане. В ваших же рассказах она как живая. Грех носить всё это в себе, большой грех перед Россией!»
Окрыленным возвращался Тургенев на родину: радовали встречи с Полиной Виардо в Куртавнеле, работа с Луи над переводом статьи о русском хозяйстве и русском крестьянине, перевод «Капитанской дочки» Пушкина на французский язык, который сделал Луи с его помощью, наконец, общение с Николаем Ивановичем Тургеневым.
Кружок Белинского встретил Тургенева радостной новостью. Его познакомили с новым талантом, Федором Михайловичем Достоевским, автором повести «Бедные люди», которую сам Белинский поставил по художественным достоинствам вровень с Гоголем.
В поведении Достоевского Тургенев заметил угловатость и болезненность, резкие переходы от гордости и похвальбы к какой-то внутренней беспомощности и замешательству. Начнет вдруг громко и уверенно развивать захватившую его мысль, живым огнем зажгутся ясные глаза, но вдруг собьется, покраснеет, скомкает... Тургенев понял, что приливы гордости идут у Достоевского от неуверенности и робости, что это очень сложный, болезненно обидчивый, но, в сущности, незащищенный человек.
С вниманием и дружеской открытостью идет Тургенев навстречу Достоевскому и получает радостный ответный отклик. В письме к брату Михаилу Достоевский пишет с гордостью: «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краев-скому, вруг спросил его: Кто этот Достоевский? Где мне достать Достоевского?Краевский, который никому в ус не дует и режет все напропалую, отвечает ему, что «Достоевский не захочет Вам сделать чести осчастливить Вас своим посещением». Оно и действительно так: аристократишка теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза привязался ко мне такою привязанностию, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, – я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе. Прочти его повесть в «Отечественных записках» «Андрей Колосов» – это он сам, хотя и не думал тут себя выставлять».
Не знал Достоевский, что этот красавец богач находится на «голодном пайке» у своей маменьки, что «выработан он» далеко не в идиллической «доброй школе». А потому, смотря на Тургенева в глубине души снизу вверх, с особенной обидчивостью относился к его подшучиваниям, которые казались Достоевскому капризами баловня-аристократа. В ответ на очередной прилив гордыни Достоевского Тургенев с Некрасовым написали эпиграмму, простить которую Федор Михайлович не имел сил:
Рыцарь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ...
Надо сказать, что в кругу Белинского такого рода эпиграммы были в ходу и, по негласному уставу кружка, на них не принято было обижаться. Все упражнялись в этой игре. У Тургенева иногда получалось злее и метче, чем у других, и Дружинин, например, не обижался, когда Тургенев прочел ему следующее:
Дружинин корчит европейца,
Как ошибается, бедняк!
Он труп российского гвардейца,
Одетый в английский пиджак.
А какая была эпиграмма на Боткина! Перепев пушкинского «Анчара», который завершался стихами:
К нему читатель не спешит,
И журналист его боится,
Панаев сдуру набежит
И, корчась в муках, дальше мчится.
Доставалось и грозному Никитенко, профессору Петербургского университета, бывшему тургеневскому наставнику. Уж что можно придумать ядовитее:
Исполненный ненужных слов
И мыслей, ставших общим местом,
Он красноречья пресным тестом
Всю землю вымазать готов...
Все прощали – и мстили ответными эпиграммами. А Достоевский не простил и простить не мог.
Ощущение неловкости за причиненную обиду, сделанную необдуманно и грубовато, не оставляло Тургенева всю жизнь:
– Да все это были грехи задорной юности моей, – признавался Тургенев Полонскому в 1881 году.
Однако эти «грехи задорной юности» были далеко не безобидного свойства, если учесть при них тургеневскую проницательность, умение разбираться в людях. «По молодости и нервности своей он (Достоевский. – Ю. Л.) не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие, – вспоминала А. Я. Панаева. – Ошеломленный неожиданным блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно вступили на это поприще с своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть на зубок, а Достоевский как нарочно давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев – он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев подхватывал и потешался».
Белинский пытался вмешаться и не раз после ухода Достоевского урезонивал своих приятелей:
– Ну, да вы хороши, сцепились с больным человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не понимает, что говорит.
Но увещевания Белинского не действовали. «Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком, и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем: к чему изводить так Достоевского? Но Тургенев был в самом веселом настроении, увлек и других, так что никто не придал значения быстрому уходу Достоевского».
Здесь уже сказывались типичные слабости тургеневской натуры: мягкость и уступчивость, отсутствие твердого и сильного волевого начала приводили порой к нравственной неустойчивости и легкомысленным, необдуманно-эгоистическим поступкам. Не случайно дочь Ф. И. Тютчева Анна Федоровна (впоследствии жена И. С. Аксакова) однажды сказала Тургеневу: «Вы – беспозвоночный в нравственном отношении». А приятель молодого Тургенева Е. Феоктистов вспоминал: «Когда Виардо поселилась в Петербурге и сводила с ума публику, Кетчер (живший тогда в Петербурге) и его друзья абонировали ложу где-то чуть ли не под райком; конечно, это было чересчур высоко, но Тургеневу приходилось завидовать даже им: он сблизился с знаменитой певицей, был одним из habutuès 66
завсегдатай (франц.)
[Закрыть]её салона, а, между тем, как нарочно, в это время находился в крайней нужде (потому что мать, поссорившись, не высылала ни копейки), очень часто не хватало денег даже на билет. И тогда он отправлялся в ложу Кетчера. Но в антрактах спускался вниз, чтобы показаться лицам, с которыми привык встречаться у Виардо. Один из этих господ спросил:
– С кем это вы, Тургенев, сидите в верхнем ярусе?
– Сказать вам по правде, – отвечал сконфуженный Иван Сергеевич, – это нанятые мною клакеры, нельзя без этого, нашу публику надо непременно подогревать...»
На беду случился тут один из знакомых Кетчера, который передал ему этот разговор, приведший Кетчера в неописуемую ярость.
Подобные снисходительно-легкомысленные поступки, соединенные с художественным непостоянством и широтою симпатий и увлечений, приводили к тому, что ему не доверяли многие приятели. Тургенев чувствовал это и по-своему мстил сарказмами. Так, жену Грановского, чувствительную и религиозную женщину немецкого происхождения, он называл за глаза «неудавшимся стихотворением Уланда», а своего приятеля Фролова в «Гамлете Щигровского уезда» – «отставным поручиком, удрученным жаждой знания, весьма, впрочем, тупым на понимание и не одаренным даром слова».
Был тут и еще один повод для обид у друзей Тургенева. Он заключался в особенности его писательского дарования. Тургенев не раз говорил, что он не умеет сочинять и что все характеры его героев собраны на основании синтеза тех типических свойств и черточек, которые он подмечает в реальной жизни, у знакомых ему людей. Потому-то в произведениях писателя очень многие друзья узнавали или себя, или свойства и привычки своих близких.
В январе 1846 года вышел в свет новый альманах писателей «натуральной школы». Тургенев опубликовал в «Петербургском сборнике» повесть «Три портрета», сатирическую поэму «Помещик», которую Белинский назвал «физиологическим очерком помещичьего быта». Уверенно входил писатель в большую литературу. Молодой критик Аполлон Григорьев счел повесть «Три портрета» «в высшей степени художественной».
В 1846 году, в мае месяце, на квартире у Белинского Тургенев познакомился с другим начинающим писателем Иваном Александровичем Гончаровым, который прочел свой роман «Обыкновенная история». Молодой романтик Александр Адуев обретал у Гончарова прочные жизненные корни, уходящие в патриархально-усадебную почву. Вспомнился Тургеневу миф об Антее: какую силу дает человеку соприкосновение с родной землей, с глубинами российской провинции! Тургенев мог оценить Гончарова по достоинству: эту жизнь и сам он знал очень хорошо.
В Спасском-Лутовинове Тургенев сделал первые наброски очерка из крестьянской жизни. Он горячо одобрил идею предприимчивого Некрасова арендовать у П. А. Плетнева журнал «Современник», освободить Белинского от журнальной кабалы, в которой он оказался у Краевского, редактора-издателя «Отечественных записок», и предоставить ему на страницах обновленного «Современника» полную свободу. Это будет журнал последователей гоголевского направления, журнал литераторов «натуральной школы». В Петербурге уже подготовлено специальное объявление, разработана программа журнала. Тургенев значился в ней в числе ведущих сотрудников.