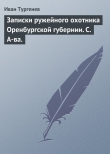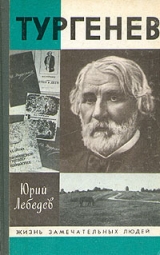
Текст книги "Тургенев"
Автор книги: Юрий Лебедев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 46 страниц)
Массовое «хождение в народ» завершилось в 1874 году арестами нескольких тысяч человек и последовавшими затем процессами 193-х, 50-ти. После провала революционеры вновь решили сменить летучую пропаганду организацией прочных поселений в деревне, но действовать при этом крайне осмотрительно и осторожно. В 1876 году они создали новую подпольную организацию «Земля и воля». Основой ее считались поселения в деревне, а подвижный идеологический центр оставался в нескольких крупных городах и вел пропаганду среди учащейся молодежи и рабочих.
Вскоре между деревенскими поселенцами и городским ядром землевольцев возникли разногласия. Первые все более и более убеждались в невозможности поднять народ на революцию в ближайшее время и частично переходили к культурной деятельности в деревне, отказываясь от революционных целей. Вторые, напротив, все более и более заражались революционным нетерпением и энтузиазмом, находясь под большим давлением молодых интеллигентских сил. В городской прослойке землевольческой организации становилась все более популярной и заманчивой ткачевская идея политического террора.
Летом 1879 года на съезде партии в Воронеже «Земля и воля» распалась: «политики» организовали новую партию «Народная воля», провозгласив главной целью движения политический переворот и террористические формы борьбы с правительством, деревенские поселенцы отделились в свою партию под названием «Черный передел».
К этому времени существенно оживилось и окрепло в России либеральное движение. Толчком к его пробуждению явилась русско-турецкая война, обнаружившая крупные недостатки в системе государственного управления. Возник интерес к политике, заговорили о реформах. Разочарование усилилось, когда правительство не воспользовалось результатами победы. Либералы сочли себя оскорбленными и тем обстоятельством, что царское правительство согласилось на установление в Болгарии конституционного образа правления, а у себя в стране все более и более ужесточало самодержавный режим.
В среде либералов возникло набиравшее силу конституционное движение. Его поддерживала «третья сила» – разросшаяся к семидесятым годам в провинциальных земских учреждениях либерально-демократическая прослойка, состоявшая из сельских врачей, учителей, агрономов, волостных и уездных писарей. Земцы на тайных совещаниях обсуждали вопросы о свободе и независимости земского самоуправления, а также ограничения самодержавия конституционной формой правления. В воздухе носилась идея созыва всероссийского Земского собора. В этих условиях либералы проявляли терпимость и даже сочувствие к революционному движению. Когда в январе 1878 года раздался выстрел Веры Засулич в генерала Трепова и суд присяжных оправдал ее, либералы, приветствуя решение суда, организовали уличную демонстрацию.
Съезды земцев утверждают и направляют правительству адреса, в которых требуют политических реформ. Легальная народническая публицистика «Отечественных записок», «Дела» и других журналов поддерживает либеральное движение и пытается объединить политические силы либералов с революционными народниками. Однако такого союза не происходит. Революционеры не хотят в основной массе подмены своих широких задач мелкими политическими уступками, а некоторые либералы, в свою очередь, добиваются политических свобод для «всенародной» борьбы с революционным движением. Однако стремление к единству всех прогрессивных сил нарастает.
Немецкий дипломат X. Гогенлоэ записал в дневнике одну из своих бесед с Тургеневым 1 апреля 1879 года. Тургенев был поражен, что в России его чествовали как политического деятеля. Этот факт он объяснял поиском русскими либералами хоть какой-нибудь объединяющей силы для проявления либеральных воззрений, для их консолидации. Тургенев обвинил правительство в непонимании этого движения, в отождествлении либеральных кругов общества с нигилистами-заговорщиками. Он рассказывал, что существуют тайные общества с радикальными требованиями, что ему приходилось беседовать с такими радикалами: у них нет никакой программы, они только высказывают мысль о том, что старый, обветшавший дом должен быть подожжен со всех четырех сторон, а потом построен новый. Образованные круги – литераторы, ученые, чиновники, – убеждены, что Россия должна получить конституцию, которая включала бы представителей земств, чтобы контролировать финансы, внести порядок в управление. Движение охватило всех. Русский народ в брожении. Царю, по мнению Тургенева, было бы легко уступками привлечь на свою сторону народ и вызвать в нем по отношению к своей особе необычайный энтузиазм. И теперь для этого наступил самый благоприятный момент. Однако царь, которого всегда предостерегали, что уступки привели Людовика XVI к гильотине, не хочет об этом и думать. К тому же он сделался равнодушным, он окружен тесной кликой, склоняется к тому, чтобы одними и теми же мерами противодействовать как либеральному, так и радикальному движению. Это ожесточает умеренных. Вполне благомыслящие люди говорили ему, Тургеневу, что они сами смущены тем, что не могут в душе порицать террористические акты, которые публично осуждают. Тургенев упомянул различные факты, вызывающие раздражение. Так, девятьсот молодых людей, на которых только пали кой-какие подозрения, были брошены в одиночки. Шестьдесят человек из них в результате многолетнего заключения сошли с ума, многие заболели туберкулезом... И это были не только нигилистические заговорщики, большая часть их – либералы, которые не могли скрыть своих мечтаний о конституционном устройстве.
«Неверно утверждают некоторые, – говорил Тургенев, – что в России нет людей, способных к руководству делами». И он назвал дельных провинциальных чиновников и адвокатов. Но если момент будет упущен, спасти Россию не удастся – наступит общий крах, потому что в перспективы революции Тургенев не верил.
«Если бы я был царем Александром, – заключил Гогенлоэ свои записки, – я бы поручил Тургеневу составить кабинет».
Тургенев чувствовал, что его приезд в Россию в 1879 году стал удобным поводом для демонстраций либералов; тут был расчет на полный успех: речь шла о писателе, действительно любимом всеми группами русской интеллигенции. «Не только либералы более взрослого поколения видели в нем наиболее честное и чистое воплощение своих стремлений, но и радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества в тех гуманных идеях, которые, надлежащимобразом понятые, должныбыли фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству», – писал Лавров.
Конечно, никакого заискивания, никакого «кувыркания» перед молодежью у Тургенева не было. Он мог искренне сказать, что не «шел» сознательно к молодому поколению, но оно само «пришло к нему».
В речах и адресах профессора, литераторы, адвокаты, студенты высказывались весьма смело о том, о чем в России обыкновенно лишь шепчутся. Ведь сам царь обратился к русской общественности с официальным призывом: «Правительство должно найти себе опору в самом обществе и потому считает ныне необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло».
В речах, обращенных к Тургеневу, литературу в России сравнивали с «преторским эдиктом», впервые внесшим начало гуманности в суровую римскую среду. Проводили сравнение России 70-х годов с закрепощенною Россией 1840-х. Говорили: «Состояние общества сходно: и тогда была под ногами закованная почва, только иначе закованная; и ждет общество, что рухнут наши неправды». В адресах писали: «Вас так же, как и нас, возмущают до глубины души печальные и странные явления нашей общественной жизни, вытекающие, как строго логическое последствие, из нашего общественного строя», и призывали его «в ряды той интеллигенции нашего общества, которая стремится к ниспровержению настоящего порядка». Даже высказывали: «Вы один в настоящее время сумеете объединить все направления и партии, сумеете оформить это движение, придать ему силу и прочность. Подымайте высоко ваше светлое знамя; на ват могучий и чистый голос откликнется вся Россия; вас поймут и отцы и дети».
После русских оваций Тургенев летом 1879 года получил известие, что Оксфордский университет произвел его за «литературные заслуги» в доктора естественного права. «Честь великая, едва ли я не первый русский, ее заслуживший, – но как, почему!»
Оказалось, что степень присуждалась ему за содействие «Записками охотника» освобождению крестьян. Тургенев первоначально опасался за исход официального торжества: между Россией и Англией после русско-турецкой войны отношения были крайне недружелюбными. Но все обошлось благополучно. Когда он явился в залу в докторской мантии и берете, его встретили рукоплесканиями. Одно только смущало Тургенева: «Ох! Как плохо идет ученая шапка к моей великорусской роже!»
Но другого рода опасения были более основательны: «То-то, я воображаю, на меня прогневаются иные господа в любезном отечестве». Они прогневались.
Кто-то из русских парижан привел к Тургеневу политического эмигранта Павловского, который написал автобиографическую повесть о впечатлениях преступника, подвергнутого одиночному заключению и впавшего в душевную болезнь. Тургенева попросили написать предисловие. С рукописью он познакомился, нашел ее довольно интересной с психологической точки зрения и предисловие написал. 12 ноября 1879 года повесть вышла во французском журнале «Le Temps»; и сразу же на это предисловие отозвались «Московские ведомости». Б. Маркевич писал, что нигилист, беглец из России, оказался под «сенью голубых крыл» г. Тургенева. Он намекал, что и сам рассказ подвергнулся тургеневской литературной правке, что это «творение шустрого ученика по заданному ему учителем шаблону». И все это – из жажды популярности перед молодежью: ради этого Тургенев готов плясать на каком угодно канате. Что за «постылый зуд популярничанья, так мало отвечающий достоинству его седых волос?» Теперь любой нигилист сочтет за благо «аттестацию», выданную Тургеневым. Ведь он признает первым их гнусное дело. «Поддерживая их былым авторитетом своего имени, он этим же самым приводит к соблазну и всех тех колеблющихся, нетвердо стоящих на ногах из этой русской молодежи...»
Это был откровенный политический донос! «На меня в Питере – в самых высших кружках – страшно озлобились за мое предисловие, – писал Тургенев Анненкову, – в котором я, однако, объявил, что нисколько не разделяю образ мыслей гг. революционеров... Князь Орлов объявил мне, что я совсем испортил этим мое положение – хотя положение это никогда не было блестящим – в его смысле – несмотря на то, что я недели три тому назад был представлен наследнику и цесаревне, которые очень ласково со мной обошлись. Все это: «Тень, бегущая от дыма».
И все же Тургенев твердо решил ехать в Россию, предварительно написав ответ «иногороднему обывателю» Б. Маркевиечу. Этот ответ был напечатан в журнале «Вестник Европы» в феврале 1880 года. «Если бы г. «Иногородний обыватель» ограничился одними посильными оскорблениями, – писал Тургенев, – я бы не обратил на них никакого внимания, зная, из какой «кучи» идет этот гром; но он позволяет себе заподозрить мои убеждения, мой образ мыслей, – и я не имею права отвечать на это одним презрением...
В глазах нашей молодежи – так как о ней идет речь – в ее глазах, к какой бы партии она ни принадлежала, я всегда был и до сих пор остался «постепеновцем», либералом старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, – принципиальным противником революций, не говоря уже о безобразиях последнего времени».
Эта фраза о «безобразиях» несколько охладила революционную молодежь в ее восторженном отношении к Тургеневу. Да и события конца 1879 года развивались не в пользу тургеневских надежд на единодушие и объединение всех прогрессивных сил. 19 ноября 1879 года произошел взрыв императорского поезда, затем суд над Л. Мирским. Усилились меры полицейского давления на учащуюся молодежь. В декабре 1879 года Тургенев писал Л. Н. Толстому: «Точно, тяжелые и темные времена переживает теперь Россия; но именно теперь-то и совестно жить чужаком. Это чувство во мне все становится сильнее и сильнее – и я в первый раз еду на родину, не размышляя вовсе о том, когда я сюда вернусь – да и не желаю скоро вернуться».
Все чаще и чаще ощущал он себя в семье Виардо одиноким, брошенным человеком. «Здесь я – пока – один; все мои переехали в Париж, куда и я перееду дней через пять, – писал Тургенев Анненкову в ноябре 1879 года. – Я желал этого уединения – чтобы приготовиться к более продолжительной разлуке. В мои годы смешно говорить о новом повороте в жизни (нашему брату, собственно, один поворот предстоит: в могилу) – но что перемена будет – это несомненно. Я еду в Россию, не зная нисколько, когда я оттуда вернусь. Причины, побуждающие меня к этому поступку, разнообразные: и личныеи другие. Об этом мы поговорим при личном свидании. Не скажу, чтобы принятое мною решение было легко: оно даже очень тяжело... и я даже нахожусь в некоторой меланхолии. Но не стану больше распространяться о сем: «эти растроганности по поводу самого себя» – и не нужны, да и вредны... Хватит».
Летом 1879 года его навестил в Париже петербургский знакомый А. Ф. Кони. Неприветливый швейцар отворил ему дверь на улице Дуэ, 50. Чей-то резкий голос, выделывавший вокальные упражнения, заполнял все пространство бельэтажа. Пройдя по лестнице на второй этаж, Кони встретил Тургенева, который ввел его в помещение из двух небольших комнат. Гостю бросилась в глаза старая, довольно потертая куртка хозяина. В комнатах царила «оброшенность»; густая пыль на маленьком закрытом рояле, оторванная от палки штора, висевшая поперек окна со слоем той же пыли на складках. Пришли на память стихи Некрасова: «Но тот, кто любящей рукой не охранен, не обеспечен...»
– Да, да, – заторопился Тургенев, узнав, что его ждут к обеду русские друзья, – сейчас я оденусь! – Через минуту он вошел в темно-сером пальто из грубой материи, напоминавшей парусину. Продолжая разговаривать, он машинально искал пуговицу, которой давно уже не было.
– Вы напрасно ищете пуговицу, – заметил Кони смеясь, – ее нет!
– Ах! – воскликнул он, – и в самом деле! Ну, так мы застегнемся на другую. И он перевел руку на одну петлю ниже, но соответствующая ей пуговица болталась на ниточках, за которыми тянулась выступавшая наружу подкладка. Тургенев добродушно улыбнулся и, махнув рукой, просто запахнул пальто, продолжая разговаривать.
За обедом в ресторане зашла речь о возможной женитьбе А. Ф. Кони. Тургенев оживился:
– Да, да, женитесь, непременно женитесь! Вы себе представить не можете, как тяжела одинокая старость, когда ждешь ласки, как милостыни, и находишься в положении старого пса, которого не прогоняют только по привычке и из жалости к нему. Послушайте моего совета! Не обрекайте себя на такое безотрадное будущее!
Все это было сказано горячо и взволнованно, на одном дыхании и с таким плохо затаенным страданием, что все невольно переглянулись. Тургенев это заметил, смутился и вдруг стал собираться уходить, по-видимому недовольный вырвавшимся у него признанием. Друзья пытались его удержать, но безуспешно.
– Нет, нет, я и так засиделся. Мне надо домой. Дочь мадам Виардо больна и в постели. Может оказаться нужным, чтобы я съездил к доктору или сходил в аптеку...
Возможно, в этих воспоминаниях волей-неволей сказалось ревнивое отношение русских друзей Тургенева к семейству Виардо, отлучившему писателя от родины? Однако вот письмо самого Тургенева к Флоберу о сборах в Кан:
«Кан? почему Кан, – скажете вы, мой старый друг, – шутил Тургенев с горькой усмешкой. – На кой черт Кан? – А дело вот в чем. Дамы семейства Виардо должны провести две недели на берегу моря в местечке Люк или Сент-Обен; я отправленвперед подыскать для них что-нибудь...»
Едва ли уместно было такое поручение для уже пожилого человека, страдающего систематическими и мучительными приступами подагры, приковывавшими его к постели на долгие недели и месяцы...
В феврале 1880 года он был в Петербурге, но родной столицы не узнал. Его оставили в «совершенно идиллическом покое», предоставив неизменной подагре-«катковке», которая по иронии судьбы всякий раз навещала его в последние приезды на родину.
Только что состоялось новое неудавшееся покушение народников-террористов на Александра П. Столица застыла в каком-то оцепенении. «Старые приятели ко мне захаживают, новых лиц не вижу – и вместе с целым миром поражаюсь совершающимися событиями», – писал Тургенев Анненкову.
«Старые приятели» намекнули Тургеневу, что в нынешней обстановке ему лучше избегать публичных выступлений, так как он находится на подозрении у правительства. Когда болезнь отступила, писатель, используя свои знакомства, добился разрешения на участие в литературных чтениях: «Мне разрешили читать публично – убедясь в моей голубиной невинности, – сообщал Тургенев Анненкову, – и я встречаю прежний прием, конечно, без венков и адресов, о чем я, разумеется, не печалюсь». Овации в его честь были, очевидно, запрещены.
Особенно запомнилась Тургеневу встреча с сотрудниками журнала «Русское богатство», которая состоялась на квартире Г. И. Успенского. «Речь Тургенева лилась почти безостановочно, а мы слушали, попивая чай, – вспоминал об этой встрече С. П. Кривенко. – Впрочем, не все молчали: кто предлагал вопрос, кто вставлял замечание, а один вступил даже в продолжительный разговор. Это были две полные противоположности: один старик, другой – юноша, совсем почти мальчик; тот седой и высокий, этот черный, как жук, и маленький; тот художник, этот экономист, т. е. сама проза и цифра. Тургенев с большим вниманием вслушивался в то, что говорил этот юноша по фамилии Русанов.
– Вы, Иван Сергеевич, давно живете во Франции и хорошо знаете и ее настоящее и прошлое, вы, конечно, знаете и Россию. Каково же ваше мнение о теперешнем положении вещей у нас, и не думаете ли вы, что у нас на носу революция?
– Я не пророк в своем отечестве, – мягко возражал Тургенев, – и не могу претендовать на предсказание: «Будущее на лоне у богов», – говорил Гомер. Но мне кажется, что Россия далеко не так близка к революции, как Франция прошлого века. Обратите внимание на одно обстоятельство: в то время во Франции было могущественное оппозиционное течение, и все мыслящие люди, несмотря на различие мнений, соглашались в одном: старый дом должен быть заменен новым. А у нас? Есть реакционеры, есть либералы, есть революционеры... крайние прогрессисты, – поправился Тургенев и окинул молодых людей добродушным взглядом, как бы не желая обидеть их, – что между ними общего, что они все согласны уничтожить и что сохранить? А пока нет общего могучего течения, в котором бы сливались все отдельные оппозиционные ручьи, мне кажется, рановато говорить о революции...
– Но именно те, кого вы, Иван Сергеевич, назвали «крайними прогрессистами», и являются той настоящей силой, о которой вы говорите, о которой мечтаете. А что такое либералы? Полное отсутствие энергии, трусость...
Разговор принимал жесткий и неприятный для Тургенева характер. И, по воспоминаниям его участников, писатель незаметно перевел его в конкретный план, заворожил молодых людей поэзией устного рассказа:
– Так ли надо вести дело, как оно ведется теперь, – не знаю. Но что хождение в народ не удалось, это, кажется, очевидно. Да и могла разве удаться пропаганда отвлеченностей социализма людям, вся жизнь которых состоит из перехода от одной конкретной, осязательной вещи к другой: от сохи к бороне, от бороны к цепу, а от цепа иной раз и к полштофу... особливо ежели дело о Покрове или о Рождестве. Если речь, которую вы ведете к мужику, не идет прямо навстречу его конкретным желаниям, он не станет вас слушать... Вон правительство несколько раз принималось внушать, чтобы он не думал того и того-то, а думал то-то и то-то. А мужик все понимал в том смысле, в каком ему хотелось понять... Да, вот, кстати, я расскажу вам по этому поводу один небезынтересный факт. Дело было так. На границе Орловской и Калужской губерний – невдалеке от меня – случился, не припомню точно когда, но вообще вскоре после отмены крепостного права, бунт. Помещик надул уставной грамотой крестьян: отрезал у них самый лучший участок, которым они пользовались крепостными. Те упрашивать барина, жаловаться к мировому посреднику. Последний решил не в их пользу. Мужички забунтовали, то есть, невзирая на отмежевание, отправились пахать под озими спорное поле. Власти переполошились и наделали такого шуму, что об этом дошла весть до государя, который случайно охотился в это время на лося поблизости, в дремучих калужских лесах. Время было горячее, волнения из-за «настоящей воли» вспыхивали повсюду, и царь решил явиться на место и самоличным увещанием подействовать на бунтовавших, а через них, надеясь на стоустую молву, и вообще на крестьян нашей полосы. Бунтовщиков с раннего утра собрали возле церковной паперти: государь известил начальство о скором прибытии. Целый день прошел в напрасных ожиданиях...
Тут Тургенев внезапно переменил тон и с неподражаемой интонацией в неподражаемо народной форме повел рассказ от лица мужика-очевидца, который описал Тургеневу все царское посещение.
– Ждем мы пождем, а царя все нет да нет. Уж солнышко закатываться за лес стало. Отошшали мы, инда тоска на нас напала... Только глядь, по дороге, прямо на нас валит кто-то страшенный, с усами, на коне: как подлетел, как пужанет во все горло: «Такие из-этакие, на колени! Государь едет!..» Так мы и пали ничком, и лежим словно на страшной неделе – Господи, владыко живота моего – и головы поднять не смеем. Много ли, мало ли мы так лежали, только как загогочет кто-то опять: «Государь едет!» Поднял я бочком голову: вижу, не то казаки, не то егеря летят во всю мочь и гигикают, а по дороге, брат ты мой, этак в шагах в тридцати, жарит тройка лошадей, каких и отроду не видывал: копыта – во какие, дуга – во какая, – и Тургенев широко разводит своими мощными руками, – кучер как чудо-юдо бородатое, а в брычке, значит, сидит сам ен, и того больше, шинель серая, фуражка с красным околышем, а голова, ну вот умри я, что пивной котел, ровно у Лукопера богатыря. Прожег мимо нас, как молния какая, крикнул зычно таково: «Стой! – и остановился шагах в пяти от нас. – Вставай, пгаваславные!» – а голос, как труба, только что с картавинкой, как у нашей старшей барышни. Мы вскочили. Стоят царские лошади, что вкопанные, и ямщик, как астатуй какой, сидит, а царь, не слезая, приподнялся, повернулся, значит, к нам с брычки, через верх спущенный, да и начал говорить грозно так сначала, да слова все какие-то мудреные, а потом словно бы смиловался, а под конец опять закричал: «Повиноваться господам помещикам, повиноваться вам им!» Да как подымет руку, да как погрозит нам ба-а-альшущим пальцем, да как крикнет кучеру: «Айда!» Лошади опять, как молния, в гору по дороге, промеж леску, а солнышко уж село, и заря уж погорела, а царь все держится за брычку, стоит к нам обернумши да пальцем грозит, а палец-то евойный – во какой, что столб, – по небу-то огневому качается...» «Ну и что же?» – спрашиваю я мужика, – продолжает Тургенев, убравши свой не меньше легендарного царского палец. «Ну, вестимое дело, и повиновались, только уж и драли нас за это!» – «Как, за что за это?» – недоумевал я. «Да мы, знычит, землю ту у помещика так и отпахали». – «Как отпахали? А разве вы не слыхали, что вам царь-то говорил, чтоб повиноваться помещикам?» – «Эх, барин, мы люди темные, мы рассудили, что накричать-то он на нас только для страху накричал, а что приказ от яво был помещикам, чтоб, знычит, теперь-то уж их благородиям да нам сиволапым повиноваться: буде-ста им над нами мудровать...»
Другая встреча с «литературной артелью» состоялась в доме богатого мецената и издателя журнала «Слово» К. М. Сибирякова. Там разговора по душам вообще не получилось. Когда разночинцы вошли в роскошную залу, убранную какими-то тропическими растениями, когда увидели впереди стоявшее отдельно кресло, а вокруг него целый ряд стульев, уже занятых богатой публикой, – они смутились и заняли места в сторонке, около входной двери.
На этом вечере говорил один Тургенев, в частности, о том, как изменяется народный характер.
– Заехал я побывать в свое старое имение. Думаю, – посмотрю, как-то там, что осталось от старого, – все же старая поэзия, воспоминания... Признаться сказать, холодно почувствовалось, неуютно, сиротливо... Да оно так и должно быть!.. Так и должно быть... Велел это я старосте вынести на террасу самовар; сел, пью чай... Вот вижу: двигается торопливо к дому молодая деревня, все ближе и ближе. Смотрю: пиджаки, сапоги с наборами, глянцем так и прыщут, на головах картузы словно накрахмаленные натянуты, – идут, зернышки погрызывают, скорлупки на сторону побрасывают. Подошли, остановились невдалеке от меня. Смотрят: глаза веселые, бодрые. Приподняли не торопясь над головами фуражки, опять не торопясь аккуратно надели.
– Ивану Сергеичу-с! – говорят.
– Здравствуйте, господа.
– Разгуляться, значит, к нам приехали?
– Да.
– Соскучились по родной стороне?..
– Соскучился.
– Поди, не весело теперь у нас здесь?
– Вот посмотрю.
– Тэ-эк-с!
Стоят, зернышки грызут, скорлупки на сторону побрасывают, – повторял Тургенев, – «Счастливо, говорят, оставаться, Иван Сергеич!» Ну, мыслимо ли было что-нибудь подобное двадцать лет тому назад?!
Возникла неловкая пауза. И хотя публика ждала от Тургенева новых рассказов, вечер кончился так: Тургенев встал, посмотрел на часы, сконфузился и вышел. Когда Г. И. Успенский спустился вниз, он сердито посмотрел на него: «Да, хорош ваш Сибиряков!»
Полного единодушия с молодежью, о котором мечтал Тургенев, не получилось. Более того: между ними пробежал холодок отчуждения:
«Барин, чистокровный русский старый барин, – вспоминал Л. Е. Оболенский. – Мне не понравилась даже его наружность, в которой нельзя было уловить никакого выражения, кроме вежливости, любезности – и только. Что он думал, что он чувствовал – это осталось тайной. Его вопросы о литературе, о новых ее течениях были как-то мимолетны, в них не чувствовалось живого, глубокого интереса к русской жизни, как будто бы он был или совершенно равнодушен к этой жизни, или уверен, что знает ее вполне и что никто ему не скажет ничего нового, а если он и предлагает некоторые вопросы, то только для того, чтобы быть любезным.
Вообще же впечатление было таково, что он страшно далек от мира, который дорог мне и людям, окружавшим меня в то время, что между нами нет даже возможности представить себе какой-нибудь мостик, какое-нибудь общение, что это – человек совсем иного мира, иных привычек, вкусов, чем мы...»
Отрадным явлением петербургской жизни 1880 года по-прежнему оставалась для Тургенева М. Г. Савина. Он посещал театр и видел молодую актрису в «Дикарке» Островского, в «Майорше» Шпажинского, не уставая восхищаться ее красотой и редким талантом. Уезжая в Москву на пушкинский праздник, Тургенев сказал Савиной: «Изо всех моих петербургских впечатлений самым дорогим и хорошим остаетесь вы!»
Праздник Пушкина, праздник русской литературы, его, тургеневский праздник! Когда редактор «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич заикнулся однажды, что он любит Пушкина более, чем кто-либо, Тургенев сильно осерчал:
– Вас Пушкин не может занимать более, чем меня – это мой идол, мой учитель, мой недосягаемый образец! Я, как Стаций о Вергилии, могу сказать каждому из моих произведений: «Следы его всегда почитай!»
Была у Тургенева заветная мечта: «Очень было бы желательно, чтобы вся литература единодушно сгруппировалась бы на этом пушкинском празднике».
Тургенев был избран членом юбилейного комитета и принимал самое горячее участие в подготовке предстоящих торжеств. Комитет поручил Тургеневу «трудную работу: написать небольшую брошюру о значении Пушкина, которую будут раздавать бесплатно» всем участникам праздника. Писатель решил, как всегда, поработать над нею в Спасском-Лутовинове и в начале мая отправился на родину, решив по пути заехать к Л. Н. Толстому и уговорить этого упрямца не отказываться от участия в юбилейных торжествах.
И вот они бродят по весеннему «Чепыжу», любуясь сквозистой зеленью берез, прислушиваясь к немолчному птичьему гомону. «Это поет малиновка, – говорит Тургенев, – это – коноплянка, это – овсянка». Толстой признавался, что он так хорошо не знает пенья птиц.
Вечером отправились на тягу вальдшнепов через речку Воронку в казенный лес «Засеку». На место прибыли как раз к заходу солнца. Затихло в лесу, только по кустам кое-где цевкали неугомонные дрозды да на болотце гулко бурлили весенние лягушки.
Толстой поставил Тургенева на лучшую свою полянку, а сам отошел в сторону, пристроившись неподалеку в тени ольховых кустов. Софья Андреевна осталась с Тургеневым и, между прочим, спросила его, почему он в последнее время перестал писать.
– Я конченый писатель, Софья Андреевна... Нас никто не слышит? Так я вам скажу по секрету. Раньше всякий раз, как я задумывал написать новую вещь, меня трясла лихорадка любви. Теперь это прошло. Я стар – и не могу более ни любить, ни писать...
Послышался выстрел.
– Началось, – шепнул Тургенев. – Лев Николаевич уже с полем. Вот кому счастье. Ему всегда в жизни везло.
Вдруг в чуткой тишине, вдали, послышалось загадочное «хорканье», как будто кто-то упорно рвал тугую, крепкую материю, все ближе, ближе... Донеслись наконец и характерные прицокивания: «цук-цук, цук-цук», и из синеющих сумерек вынырнул над поляной темный силуэт плавно летящей птицы. Тургенев ловко вскинул ружье и выстрелил.
– Убили? – приглушенно выкрикнул Толстой.
– Камнем упал! – ответил Тургенев.
Но вальдшнепа его собака так и не нашла. Тургенев смутился как мальчишка: получалось, что он зря похвастался, «ради фразы»... На другой день утром Сережа Толстой с братом Ильюшей специально ездили на поиски. Тургенев не ошибся: собака не могла найти птицу, так как она повисла на дереве между густых сучьев.
Уговорить упрямого Толстого принять участие в пушкинских торжествах оказалось нелегко. Лев Николаевич считал юбилейные собрания литераторов чем-то противоестественным и даже оскорбляющим память о поэте. Фальшивые спичи за вином и закуской, фальшивые речи... Тургенев соглашался с Толстым: «Нельзя допустить, чтобы все, сколько угодно, гуляли и возились около Пушкина: ставят же ограды около мраморных статуй. Но раз в десять-двадцать лет почтить память национального поэта в кругу литераторов – что в этом противоестественного, особенно в настоящий момент, требующий от русской интеллигенции сплочения вокруг общего знамени гуманизма, свободы и демократии. Да и в обществе, слава Богу, назревает благотворный поворот: пора нигилистических расправ над Пушкиным уходит в прошлое.