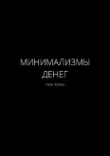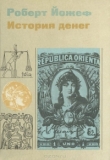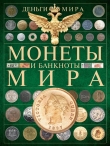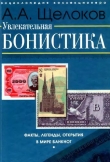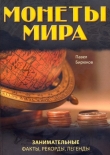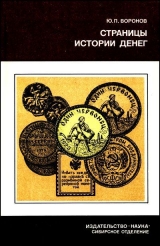
Текст книги "Страницы истории денег"
Автор книги: Юрий Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Глава 6
СТО ВЕКОВ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
«Знали ли группы доисторических собирателей, бродящих в поисках растений, корней, плодов и охотников, охотящихся на диких зверей, какие-либо формы обмена? Вероятно, нет. Самый длительный период в жизни человечества – хозяйство без обмена», – писал польский историк X. Цывиньский. С этим высказыванием многие могут согласиться, и потребуются определенные усилия, чтобы доказать его неверность. Господство в древности хозяйственной замкнутости – автаркии – считается зачастую естественным, не требующим пояснений.
1. Свидетельства против изначальности автаркии
Археологи, изучающие каменный век, уже привыкли к тому, что балтийский янтарь встречается при. раскопках палеолитических стоянок во Франции и Австрии, раковины из Красного моря – в Северной Италии и Швейцарии. Находки относятся к тем временам, когда, по распространенному представлению, люди ненавидели любого чужака настолько, что всякие переговоры были немыслимы.
Каждый сезон археологи находят новые свидетельства неправомерности нашего отношения к собственным предкам как к враждующим племенам.
Загадкой остается находка вулканического стекла с острова Милос в стоянке на Пелопонесе у города Койла (10 тысяч лет до нашей эры). Недалеко, всего 93 мили, но ведь по морю и все-таки 12 тысяч лет тому назад. Два тысячелетия спустя это вулканическое стекло было развезено по всему Эгейскому морю. Кто это делал и на каких началах – неизвестно. А четыре тысячи лет до нашей эры кремень стандартных размеров из Дании распространялся по всей Северной Европе, попадая даже в Северную Норвегию. Изделия из светлого кремня из-под Гран-Прессиньи на юге Франции попадали в долину Роны и в Швейцарию, на берега озера Невшатель. Недалеко от Сциенны (Бельгия) обнаружены около 2 тысяч шурфов, некоторые – глубиной до 20 м. В них добывали серо-голубой камень, который находят в поселениях первобытных людей в бельгийских Арденнах, в дельтах Рейна и Эско.
Самым ранним предметом обмена на Ближнем Востоке был обсидиан, он встречается в раскопках, относящихся к раннему каменному веку. По результатам петрографического анализа оказалось возможным установить семь центров его добычи. Первые из них начали функционировать в 18 тысячелетии до нашей эры.
На берегах Фаюмского озера находят раковины из Красного и Средиземного морей. Эти же раковины встречаются вдоль дунайского торгового пути, который предположительно существовал и в каменном веке. Первобытные племена, жившие на побережье Балтийского моря (так называемая культура воронковидных кубков), явно добывали янтарь для обмена. Встречаются клады, содержащие до 13 тысяч бусин. Этот янтарь находят даже на берегах Средиземного моря. Кремень из южной Дании находят в Северной Швейцарии и т. д.
Европейцы застали 500 австралийских племен на стадии первобытно-общинного строя. Каждое из них имело "специализированное производство" и поставляло на общеавстралийский рынок определенные продукты труда или сырье, получая взамен нужные племени вещи. До настоящего времени сохранились торговые пути, сроки и места проведения ярмарок и пр.
Развитая система специализации открыта у племен Новой Гвинеи, в нее включено и население окружающих Новую Гвинею архипелагов. Среди североамериканских индейцев существовала даже торговая специализация. Племя хопи, проживавшее в Аризоне, занималось обменом тихоокеанских раковин на соль, добываемую в Колорадо. Поскольку и то, и другое использовалось как средство обращения, такой обмен тяготел скорее даже к финансовой, а не просто к торговой деятельности.
Другое индейское племя, также проживающее в пустынях Аризоны, племя хокогам, занималось обменом раковин на плетеные изделия, которые изготовляло племя анасадзи, и на керамическую посуду, которой славилось племя моголлов. Индейцы племени хоупвелл проживали на полпути между океаном и берегами Миссисипи. У них было развито специализированное производство предметов культа, которые продавались по всему восточному побережью Северной Америки. Но интересно не это. В X–XI веках нашей эры у этого племени существовала разветвленная снабженческая сеть, обеспечивающая производство предметов ритуала необходимыми материалами. Представители племени (по-современному – коммивояжеры) курсировали по огромной территории от Атлантического побережья до Скалистых гор и от озера Верхнего до побережья Мексиканского залива. Они привозили: зубы гигантского медведя из канадской тайги, рога горного козла и кремень из Дакоты, самородную медь с озера Верхнего, горный хрусталь из Арканзаса, слюду из Северной Каролины и Новой Англии, окаменевшие зубы акулы с Чезапикского побережья, свинцовую обманку из южного Иллинойса и с берегов Миссури, раковины с побережья Мексиканского залива.
К началу XV века, хозяйственная активность племени хоупвелл по непонятным причинам стала свертываться. Но записанное на страницах истории трудно стереть полностью. Сохранились изделия XI века, в которых объединены материалы, собранные на территории, огромной даже для современных снабженцев.
Впрочем – это время относительно недавнее. По европейским меркам – средние века, хотя индейцы Северной Америки и жили в условиях первобытно-общинного строя. Но есть свидетельства и более древних времен.
Во многих местностях нынешних США и Канады есть земляные насыпи – маунды. Назначение их – тема особая, для простоты их можно считать аналогом курганов евразийского материка. Основная часть маундов насыпана задолго до появления центрально-американских империй – в халколите – медном веке. Для Северной Америки это 3–4 тысячи лет назад. В маундах, расположенных далеко от морского побережья, археологи находят раковины. А медь из месторождения Айл-Коуэл на территории нынешнего Мичигана обнаруживают в изделиях того времени на берегу Мексиканского залива.
Таким образом, представление о постоянно враждующих между собой племенах североамериканских индейцев неверно. Откуда оно пришло к нам? Из приключенческой литературы или замаскированной пропаганды колонизаторов? Все равно от этого представления нужно избавиться.
Специализация первобытных племен не определялась исключительностью ресурсов, находившихся в распоряжении того или иного племени, рода. Об этом свидетельствуют данные, приведенные выше. Результаты многочисленных этнографических исследований говорят о том, что такая специализация крайне неустойчива.
Когда цивилизация дошла до племени Трумаи в Центральной Бразилии, племя занималось изготовлением на продажу каменных топоров. Появление железных топоров подорвало основу специализации, поскольку каменные топоры не могли с ними конкурировать. Несмотря на возможность перехода к сходной технологии, например к производству других каменных изделий, племя стало получать соль из золы растений. И опять же – соль шла на продажу или на обмен.
Подобные факты убеждают, что на межродовом и межплеменном уровнях специализация определялась исключительно функциональной необходимостью производства, а не навыками или наличными ресурсами.
Задача состояла только в воспроизводстве обеих социальных структур: внутренней и внешней. Сохранение внешних обязанностей племени обусловливает его внутреннюю структуру, и наоборот, распределение обязанностей внутри племени вынуждает его выступать продавцом определенного товара, причем неважно какого. Именно в безразличии к потребительной стоимости, а не в химических или физических свойствах какого-либо природного материала и заключается причина появления в хозяйственной жизни товара, выполняющего функции денег.
Ф. Энгельс высказал мнение, что закон стоимости действует уже около 5–7 тысяч лет. Для уровня тогдашних знаний древней истории это была очень смелая оценка. С тех пор благодаря открытиям историков и археологов на миллионы лет "повзрослело" человечество, отодвинулись сроки, к которым относили начало распада первобытно-общинного строя. Все это позволяет считать, что товарообмен возник 10–12 тысяч лет назад.
Оживленные контакты между первобытными общинами, родами и племенами ускоряли развитие культуры и средств производства. Хозяйственная замкнутость, напротив, приводила к отставанию как в культурном, так и в экономическом отношении.
Этнограф Жак Маке, описывая первобытно-общинный строй на юге Африки, отмечает, что именно хозяйствен-ная замкнутость привела к замедлению экономического развития в той части африканского континента, которая была удалена от Средиземноморья, от зоны легких путей сообщения. "Когда в подобной изоляции находились другие народы, это оказывало на их культуры аналогичное воздействие", – пишет Ж. Маке.
Хозяйственная замкнутость не может способствовать прогрессу. Этот тезис справедлив и для нынешнего времени, в равной мере он верен для более ранних периодов экономической истории.
Экономисты XVIII века А. Смит, Д. Тюрго, Ч. Беккариа считали первобытную торговлю случайной. Обычная ситуация обмена представлялась им так: идет один первобытный человек, сытый, но замерзший. Несет рыбу. Встречается ему другой человек, голодный, но в руках у него шкура. Взаимный интерес очевиден, и два человека пытаются знаками договориться. По мнению Адама Смита, и язык появился в результате попыток заключить торговую сделку.
Не располагая достоверными данными по затрагиваемому вопросу, Ф. Энгельс выразил эту идею более осторожно: "Формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать друг другу".
Мысль Адама Смита до сих пор остается лишь гипотезой, но происхождение обмена и денег по своей важности оказывается равным таким проблемам, как происхождение языка и человеческого общества в целом.
В 1719 году английский писатель Даниэль Дефо написал роман о моряке, потерпевшем кораблекрушение и прожившем долгие годы в одиночестве на необитаемом острове. Главному герою книги – Робинзону – суждена была огромная известность. И сейчас он для миллионов читателей служит примером мужества, силы человеческого духа. Популярность Робинзона в значительной степени объяснялась формированием буржуазной идеологии в то время, когда появился роман. Яркий художественный образ воплощал идеал естественных прав и разумного общественного строя, где полностью реализуются потребности "естественного" внесоциального человека. К. Маркс отмечает, что точка зрения на общество как на совокупность хозяйствующих одиночек появилась в эпоху "наиболее развитых общественных связей".
Робинзонады сыграли плохую службу в истории политической экономии. Соблазнившись методической простои тон и следуя общим идейным установкам нового времени, из действий эгоистически мыслящего "естественного человека" выводил свою экономическую теорию Адам Смит. Впоследствии Давид Рикардо также отправлялся от хозяйствующего субъекта-одиночки.
В полную силу расцвели робинзонады в трудах австрийской субъективной школы политической экономии, где главным объектом исследования стали оценки различных хозяйственных благ обезличенным Робинзоном – "экономическим человеком". Положения, высказанные сторонниками австрийской школы, привели в дальнейшем к разделению буржуазной экономической теории на макро– и микроэкономику, последняя из которых занимается исключительно одиночкой, рационально хозяйствующим индивидом. Широко использовались робинзонады при активном внедрении в экономическую науку математических методов, но здесь главную роль играли уже методические удобства, а не идейная компонента.
"В истории развития человечества было время, когда денег вообще не знали, когда их не требовалось. Отдельные люди, отдельные семьи собственным трудом удовлетворяли свои, потребности. Каждый своими руками делал те вещи, которые ему были нужны, и сам добывал себе пропитание", – писал один из сторонников этой точки зрения, польский экономист начала XX века 3. Каминский. Такие же воззрения распространены в обыденном сознании и многим кажутся естественными. По человек может жить только внутри общества, экономика немыслима без контактов, взаимодействия между людьми. "История человечества не знает фантастического периода индивидуальной охоты и поисков пищи. Сила первобытных людей, их преимущество перед самыми сильными и опасными хищниками заключались в том, что они выступали не в одиночку, а коллективом, скрепленным трудовой деятельностью, совместной борьбой с природой". Так написано во "Всемирной истории", такова позиция советских историков.
К. Маркс писал: "Производство обособленного одиночки вне общества… – такая же бессмыслица, как развитие языка без совместно живущих и разговаривающих между собой индивидуумов".
2. Самое начало разделения труда
«С появлением готового человека возник вдобавок еще новый элемент – общество», – заметил К. Маркс.
Поскольку выяснено, что средства обмена присутствовали в общественной жизни до государственных образований, в том числе до великих империй древности, исследование вынуждено углубиться в экономику первобытнообщинного строя с тем, чтобы обнаружить истоки денег не в среде обитателей замков и храмов, а в общинах первобытных пастухов, охотников и земледельцев.
Товарообмен, как и другие способы социального регулирования хозяйственной жизни внутри первобытного общества, способствовал взаимопереплетению индивидуальных, групповых и локальных потребностей, формированию единого социального интереса. Когда мы определяем человека как общественное животное, за этим общим утверждением стоит комплекс совершенно конкретных свойств человека, выражаемых в поведении.
Этнограф Пьер Кластре приводит факт, демонстрирующий один из вариантов воспроизводимой социальной связи. У южноамериканских индейцев – гуаяков существует табу на добытую дичь или зверя: охотник не может есть то, что он подстрелил или поймал. Он должен обменять свою добычу на другую пищу у кого-нибудь из членов племени.
Известный английский социолог и этнограф Б. Малиновский упоминает обычай жителей острова Тробриан отдавать часть урожая и охотничьей добычи "мужу сестры", даже когда сестры в действительности нет.
Разумеется, когда говорится о продуктообмене в условиях первобытного общества, не следует полагать, что он был обособлен в некоторую самостоятельную сферу деятельности. Здесь нужно избегать перенесения на древность современных представлений. Обмен деятельностью и продуктами труда на локальном уровне, в пределах общины и рода служил моделью межродового и межплеменного обмена. Только если придерживаться неверной исходной гипотезы об индивидуальной охоте и собирательстве, можно развивать и мысли о враждебном отношении к чужакам как основном психологическом фоне внешних контактов.
Но обособленные первобытные общины – либо выдумка, либо результат стечения уникальных обстоятельств. Человеческое общество не могло сформироваться ни из одиноких охотников и собирателей, ни из враждующих друг с другом стад.
В истории разделения труда долгое время господствовала "теория трех ступеней", получившая окончательное оформление в книге французского археолога Габриэля де Мортилье, названной "Происхождение охоты, скотоводства и земледелия" и опубликованной в 1890 году. Он подытожил воззрения, сложившиеся еще в Древней Греции, согласно которым в истории человечества последовательно сменялись три формы хозяйствования: охотничье-собирательская, скотоводческая и земледельческая. Последняя полагалась древними греками высшей, ведь сами они были преимущественно земледельцами.
Критика теории трех ступеней началась уже в 1892 году в работе немецкого географа Эдуарда Хана "Формы хозяйства земли", который, однако, не предложил другой, более верной теории. Поскольку теории трех ступеней: придерживались такие авторитеты, как А. Смит и Ж. Ж. Руссо, верные замечания Э. Хана в адрес этой теории стали просто сосуществовать с нею, не подорвав ее и не опровергнув.
Какие это замечания?
Земледелие гораздо древнее скотоводства, и развивалось оно во многих местах самостоятельно из собирательства. Академик Н. И. Вавилов выделял семь центров возникновения земледелия, полагая, что какие-то из них следует считать первичными. В. С. Титов предлагает считать первичными три: переднеазиатский, включающий Египет и Месопотамию, индокитайский и центрально-американский.
Одомашнивание животных происходило скорее у земледельцев, чем у охотников, поскольку охотники не располагали запасами кормов. Земледелие, развившееся из собирательства, дало толчок к переходу от присваивающей экономики к производящей, от экономики немедленного потребления к экономике, в которой существуют запасы и распределение потребления во времени.
Интерпретация высказываний классиков марксизма-ленинизма па этот счет требует, чтобы исследователь заблаговременно определил свою позицию: убеждают его или нет в том, что теория трех ступеней неверна, новые данные истории, этнографии и археологии.
Ф. Энгельс писал: "Пастушеские племена выделились из остальной массы варваров – это было первое крупное общественное разделение труда" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 160). Важность этой мысли подчеркивал В. И. Ленин (Поли. собр. соч., т. 39, с. 67–68). Но высокий уровень исследовательской культуры не позволил ни Ф. Энгельсу, ни В. И. Ленину написать, что пастушеские племена выделились из племен охотников, и сковать тем самым собственные выводы привязанностью к одной, из потенциально верных теорий.
В другом месте Ф. Энгельс говорит о "разделении труда между пастушескими народами и оставшимися племенами, не имеющими стад". Он нигде не называет эти племена охотничьими, несмотря на то, что сам Адам Смит утверждал это прямо и недвусмысленно.
В настоящее время по данным археологии историю разделения труда можно схематично описать так. 10 тысяч лет назад из среды охотников и собирателей выделились племена, перешедшие к возделыванию злаков. Это способствовало существенному росту производства продуктов питания и создало условия для роста численности населения. Выросшее население стимулировало процессы заселения новых, менее приспособленных территорий. Параллельно происходило перераспределение власти, говоря современным языком – делегирование полномочий от уровня племени вниз, на уровень рода и патриархальной семьи.
Производящее хозяйство появилось впервые, предположительно, в Передней и Центральной Азии, между Средиземным морем и иранским Хорасаном. Отток избыточного населения проходил через Курдистан и Туркмению, а также через Балканы.
Во времена средней бронзы выходцы из центральной земледельческой зоны освоили междуречье Амударьи и Сырдарьи и расселились на восток вплоть до Минусинской котловины и на запад до верховий Днепра. В ходе расселения и произошло постепенное обособление пастушеских племен от "племен, не имеющих стад".
Таким образом, "первое крупное разделение труда – выделение родовых коллективов с производящей экономикой из среды присваивающего хозяйства (VIII–VI тыс. лет до н. э.). Вторым крупным разделением труда следует считать выделение из состава племен с производящей экономикой скотоводческого уклада – последняя треть III тысячелетия до нашей эры".
Во времена, когда писалась книга "Происхождение семьи, частной собственности и государства", о неолитической революции ничего известно не было. Тем более удивительна гибкость энгельсовской формулировки, допускавшей ее возможность.
"Первое общественное разделение труда сделало возможным регулярный обмен. Во-первых, земледельческо-скотоводческие племена производили средства к жизни качественно иные, чем племена собирателей, и, во-вторых, они могли производить этих средств больше, чем им было нужно для поддержания жизни. Этот излишек был еще мал, но уже его существование имело огромное значение", – пишет советский историк И. Н. Хлопин и добавляет: "Полная изоляция никогда не была реальна. Обмен осуществлялся и между соседними племенами, и этапным путем".
Поэтому нельзя присоединиться к такому мнению: "С появлением ремесла как отрасли хозяйства возникло зачаточное товарное производство. Ремесленники перестают странствовать и поселяются в определенных местах".
Современной исторической наукой общепризнано, что разделение труда так или иначе связано с неолитической революцией, которая дала ускорение развитию производительных сил. Но истоки разделения труда уходят в очень глубокую древность и касаются, как и следовало ожидать в соответствии с марксистскими представлениями, специализации орудий труда.
В Англии, в графстве Норфолк, в эпоху раннего неолита существовали шахты, где добывался кремень. Точно установлено, что массовое производство каменных топоров велось там до середины III тысячелетия до нашей эры. Начало работ в шахтах уходит не менее чем в V тысячелетне до нашей эры.
Производство топоров было явно специализированным, хотя исследователям пока еще не все понятно в тогдашнем разделении труда. В частности, первичная обработка кремневого топора велась прямо в шахте. Об этом свидетельствуют сохранившиеся там скопления сколов (отходов). На поверхность, таким образом, выносили уже не сырье, а полуфабрикат.
Готовые изделия из таких шахт обнаружены за сотни километров от них. "Возможно, что в ранний период они выменивались соседними селениями и попадали каждый раз на несколько километров дальше", – пишет Джон Вуд в книге "Солнце, луна и древние камни". Такое предположение опровергается значительными объемами производства: "Однако шахты в Граймс-Грейвсе производили значительное количество топоров, и изготовление их быстро прекратилось бы, если бы не существовало постоянных путей распределения. Либо оттуда уходили торговцы с готовыми топорами, либо общины, нуждавшиеся в топорах, приобретали необходимое их количество прямо около шахт".
Так специализация в производстве орудий труда с неизбежностью заставляет сделать вывод о развитии торговли, товарообмена и торговых путей.
Несомненно, что каким бы ни было это средство обмена, вряд ли оно напоминало современные деньги. Выше показано, какое обилие вариаций – в части материала, сферы действия, формы, правил применения – можно допустить, сохраняя функции денег. Распространенное мнение гласит: "В древности могли быть только зародыши знаков стоимости". Из содержания предыдущих глав следует, что в этих "зародышах" содержались возможности осуществления по крайней мере двух функций денег: меры стоимости и средства обращения. Исполнение этих функций каким-либо продуктом труда не оставляет места представлению о том, что ранние этапы развития экономики базировались на мудрых (или глупых) решениях племенных вождей. Вместе с человеком возникло общество, вместе с обществом – экономика. Дальнейшее развитие шло по объективным экономическим законам, которым одинаково подчинены все члены общества, независимо от выполняемых ими функций.
Казалось бы, какое нам дело сейчас до роли племенных вождей или старейшин в далекой древности, неужели это актуально? Оказывается, да. Современные монетаристы полагают, что издревле экономическая жизнь обязана направлением своего развития решениям "сильных" людей. Поскольку это так, то почему бы не определить направление развития современной экономики президенту, который руководствуется частными логическими выводами, а не знанием объективных законов общественного развития. Ирония развития буржуазной экономической теории состоит здесь в том, что рупор монетаризма – чикагский "Журнал политической экономии" регулярно публикует работы по экономике первобытного общества. Зачастую в этих статьях высказываются интересные мысли, направленные против исходной концепции монетаристов 0 подверженности любой экономики решениям отдельно взятого человека.
Вот статья Ричарда Познера, в которой обсуждается книга Ф. Прайора "Истоки экономики". Предлагаются разнообразные темы Для исследователей первобытной экономики: эконометрический анализ свадебного выкупа у эскимосов, определение цены информации при отсутствии базара у первобытных племен, количества продуктов, запасаемых на зиму или дождливый сезон, и многое другое. Но не в списке предлагаемых работ дело. Познер буквально кричит: применяя эконометрические методы к первобытной экономике, не считайте основной моделью перераспределение продуктов вождями, это антиэкономично. Даже не верится, что именно в этом журнале и пропагандируются основные антиэкономические идеи – неоволюнтаризм, предполагающий произвольное вмешательство в сферу денежного обращения. Р. Познер выделяет два антиэкономических подхода к первобытной экономике: субстантивизм и формализм. Первый он называет бесформенным (что получится из статистики, то и хорошо). Второй подход – когда исследователь доверяет принятым правилам экономического поведения, изучает их, а не действительную экономическую жизнь. И для того, и для другого подхода характерно отсутствие "предварительной формулировки экономической теории первобытного общества. Оба сводятся к проверке того, подтверждается ли выдвинутая гипотеза имеющимися данными".
Ну чем не выпад в сторону неомопетаристов? Сделанный в журнале, постоянно публикующем новые и новые работы неомонетаристов, теоретиков "экономики предложения" и "рациональных ожиданий", он свидетельствует о серьезном отрыве буржуазной экономической мысли от исследований в области истории культуры.
"Мы не можем предположить, – пишет Познер, ссылаясь на книгу Прайора, – что в первобытном обществе все продукты распределялись лицами, занимавшими высокое положение". Экономика, зависящая от психологии отдельных лиц, не может существовать. В противоположных представлениях есть нечто от детского мнения об устройстве общественной жизни: как бы дети ни ссорились из-за игрушек, придет воспитательница и все уладит. Но в реальной хозяйственной жизни "воспитательниц" нет, а общество управляется объективными законами развития, не менее строгими, чем законы физики и химии. И всегда существенным элементом общественных отношений был обмен продуктами труда с использованием самых разнообразных средств такого обмена.