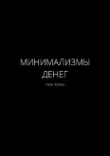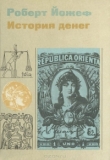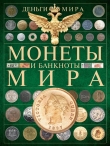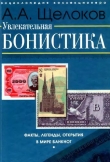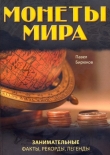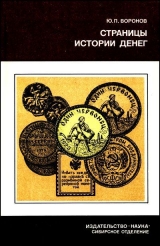
Текст книги "Страницы истории денег"
Автор книги: Юрий Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
4. Деньги из ничего
Отказывает государству в роли создателя денег и так называемая счетная теория, которую именуют еще «бухгалтерской». Согласно ее положениям, любые хозяйственные дела требуют расчетов. Неважно, как ведутся эти расчеты – с помощью золотых монет, счетных палочек или по гроссбуху. Причина появления денег по этой теории – в необходимости считать.
"Счетная" теория денег была широко распространена в конце XVII века. Чарльз Давенант писал: "Золото и серебро так далеки от того, чтобы быть единственными вещами, заслуживающими названия сокровища или богатства данной нации, что поистине золото представляет собою не более как счетные марки (counters), при помощи которых люди привыкли вести счета в своих деловых отношениях". Что характерно для приведенного отрывка? Упоминание о государстве в нем отсутствует, но идеи "государственной" теории сохранились. Место государя занял его величество обычай. Такая ссылка хороша, если показать, как этот обычай складывается.
Об учетной функции денег упоминал В. И. Ленин в одной из своих ранних работ. "Продукт отдельного производителя, предназначенный на чужое потребление, может дойти до потребителя и дать право производителю на получение другого общественного продукта только принявши форму денег, т. е. подвергшись предварительно общественному учету как в качественном, так и в количественном отношениях" (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 425). Из пяти функций денег можно вывести их функцию общественного учета, как из аксиом геометрии выводятся все ее теоремы. Ведь уже как мера стоимости деньги имеют идеальное, общественное существование.
"В прямую противоположность чувственно грубой предметности товарных дел, в стоимость не входит ни одного атома вещества природы", – пишет К. Маркс в "Капитале". На подобное высказывание не мог решиться Даже самый законченный идеалист – не хватало научного мужества. И потому экономисты XVIII–XIX веков – А. Буагильбер, Джон Ло, Ш. Монтескье и другие – бурно обсуждали один характерный исторический факт. Вот как описывает его Тюрго:
"Негры из Мандигоса, которые сбывают золотой песок арабским купцам, приравнивают все товары к некой фиктивной шкале, части которой называются макутами, при этом они говорят купцам, что они им дают столько-то макут в золоте. Так же макутами они исчисляют те товары, которые получают сами и ведут свой торг с купцами по этому счету".
Существует мнение, что и гривна русская существовала только как счетная единица, равно как и некоторые западно-европейские монеты. Один из первых русских историков-экономистов M. Чулков писал: "Прежде россияне, не имея крупной монеты, кроме одних копеек, всегда, когда оных начтут до ста, делали рубежи… зарубки на палках для знаку, сколько начтено сотен копейками, отчего после и звание рубль произошло, что по окрестностям не невероятно, понеже и ныне по всей России безграмотные люди при многочисленном счете всегда делают зарубки на палках и сотню означают крестом".
Многочисленные свидетельства использования в хозяйственных операциях несуществующих денежных единиц обобщены в "Капитале" лаконично: "Свою функцию меры стоимости деньги выполняют лишь как мысленно представляемые, или идеальные деньги". Идеальные, мысленно представляемые отношения распространены в экономической и социальной сферах. Деньги – один из частных примеров тому. Отношения дружбы пли служебной подчиненности, экономической зависимости или многолетней вражды никаким образом не возьмешь в руки, не пощупаешь. Как и любое отношение между людьми, их можно описать и далее пользоваться этим описанием.
При всей нечеткости исходных идейных позиций, свойственной буржуазной политической экономии, изменить их могут любые внешние, даже не очень значительные воздействия. Применительно к определению сущности денег таким внешним обстоятельством оказывается переход к безналичным расчетам, к широкому использованию вычислительной техники в рыночных операциях.
Осязаемость звенящих или хотя бы хрустящих денег исчезает, вместо нее появляются покупательские карточки, с которых ЭВМ считывает код, кассы, включенные в единую вычислительную сеть, автоматическая проверка платежеспособности при покупке и многое другое. В некоторых странах намереваются записывать номер банковского счета за человеком, как только он родился. Внешний, сугубо технический аспект этих новшеств очевиден.
Даже если в качестве всеобщего эквивалента используется металл, он может быть просто счетным элементом, не более. Из одного древнеегипетского папируса известна торговая сделка, совершенная в III веке до нашей эры. Бык был оценен в 119 медных унту (14,4 кг меди). За него дали 1 циновку ценой 25 унту, 5 блюд ценой… Но реальных унту по ходу сделки не предъявляли.
К. Маркс писал про товарообмен, будто предвидя "электронные деньги": "Реальность, которую меновая стоимость товаров получает в этом процессе и которую золото представляет в своем обращении, есть только реальность электрической искры. Хотя это действительное золото, функционирует оно здесь лишь как кажущееся золото и потому может быть замещено в этой функции знаком самого себя" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 98).
Положения марксистской политической экономии опираются и здесь на уходящую в глубь веков социально-философскую традицию. "Социальное существование" золота и денег понималось выдающимися философами издавна. Вот часть диалога из второй книги "Республики" Платона: "…Каким же образом люди будут обмениваться своим трудом? Очевидно, посредством купли и продажи. – Поэтому появляется еще необходимость в рынке и монете, символе договора". Не обязательно, чтобы символ договора был материализован в кусочке драгоценного металла.
Безналичный расчет почти столь же древен, как и наличный. К 1947 году до нашей эры относится чек, выписанный на глиняной табличке из Абу-Хабби: "8 и 1/2 мины олова обеспечивается жрице солнца Ламасси, дочери Каша-Уни и Ибни-Нана, сына Бель-Шуна". Чек был действителен к предъявлению в течение 14 дней.
Множество примеров можно привести из времен Древней Греции и Рима.
Из письма Сенеки: "Переведу эти деньги на Эпикура – да произойдет оплата у него".
Из письма Цицерона Аттику: "Дайте мне знать, можно ли выслать сыну моему в Африке необходимые ему деньги посредством обмена или же Следует ему выслать их".
Различного рода чеки, векселя и долговые расписки служили людям во все времена, постепенно завоевывая ведущее место среди многочисленных видов обмена и хозяйственных операций. Не будет преувеличением сказать, что в настоящее время основная часть хозяйственных сделок происходит без физической передачи денежных знаков из одних рук в другие.
Каждый год в США выписывается чеков более чем на 30 млрд. долларов. В обслуживании чекового оборота занят миллион человек. Каждый чек учитывается в среднем 10 раз и проходит 2,5 банка. Затраты на обработку одного чека составляют 15 центов, а общие годовые издержки равны 3,5–4 млрд. долларов. Так что экономия при переходе на безналичный расчет – мираж. Как при печатании бумажных денег, как при чеканке металлических монет, расчет на бумаге или с помощью вычислительной техники требует значительных издержек плюс некоторый доход, пусть небольшой, но, как говорят, "чтобы был интерес". Мы вновь убеждаемся, что не свойства материала и даже не его наличие делают деньги деньгами. Только общественные отношения, материализовавшиеся поначалу в скоте и раковинах, затем в серебре и золоте и, наконец, в электрических импульсах, бегущих по сетям ЭВМ, могут считаться деньгами. Способ реализации этих отношений может быть различным, но они сохраняются, изменяясь в значительно меньшей мере, чем внешние формы их проявления.
События, приведшие к появлению электронных денег, вызывают в памяти римскую пословицу "деньги – сила, а не материя" (pecunia vis est, поп est materia). Пословица эта традиционно интерпретировалась как обоснование допустимости порчи монет. Но в нынешнее время она звучит по-новому. Имея на руках кредитную карточку, вы приобретаете покупательное средство, не видимое, не имеющее материального воплощения.
Обратимся к трудам А. Тюрго (1727–1781), которого очень высоко ценил К. Маркс: "Выражение стоимостей в баранах делается как бы общим условным языком, и слово "баран" в торговом обиходе обозначает только известную стоимость. Это обозначение вызывает в умах всех, кто его слышит, вовсе не представление о баране, но об известном количестве наиболее распространенных товаров, которые и рассматриваются как эквивалент этой стоимости. В конце концов это выражение остается скорее связанным с некоей фиктивной и абстрактной стоимостью, чем с реальным бараном".
Вполне возможно, что жетон, обозначавший овцу, поначалу представлял конкретную овцу. На первых порах, вероятно, некоторые изделия – ими могли быть, в частности, и специальные знаки-жетоны – не выполняли функции денег, а служили для перечисления, счета запасов. Использование жетонов в каких-либо обрядах сути дела не меняет. Впоследствии жетон мог обозначать любую, "усредненную" овцу и затем превратился в эквивалент любых благ, приравненных к такой "усредненной" овце.
Представленная схематично история жетона – не что иное, как изложение концепции происхождения денег. На нее следует лишь наложить описание тех функций денег, какие появляются по мере замещения индивидуализированного обмена общим.
Случайный обмен любого товара на любой, как и деньги, имеет свою предысторию. Он не был самым первым видом обмена. Требовалось время, чтобы утеряны были элементы ритуала, которые обязательно присутствуют на ранних стадиях развития обмена. И сам обмен сливался с ритуалом и обособлялся от него постепенно двумя путями. Если утрачивались правила, относящиеся к видам товаров, появлялись формы обмена типа взаимных подарков. Если первоначально утрачивалась та часть ритуала, которая касалась товаровладельцев, то обмен становился индивидуализированным по товарам. Примеры этих двух видов обмена известны из этнографических материалов.
5. Без права передачи
Многое из написанного ниже – предположения и ничего более. Пусть не осудит за это читатель заблаговременно покаявшегося автора. Идея товарообмена без физической передачи денег от одного лица к другому уже оговаривалась и не должна удивлять. Вот разве необычайными могут показаться разнообразие попыток решить эту проблему и мотивы, заставлявшие ее решать.
Ликург, великий законодатель Древней Греции, пытался ввести неперемещаемые, неподъемные железные монеты. Причиной была не столько нехватка драгоценных металлов, сколько необходимость ликвидации воровства и хищений. Поскольку монета тяжелая, украсть ее трудно, а охранять проще. Если принять соответствующие меры, более простые, чем при "переносимых" деньгах, то и любые знаки на монетах возможно сохранять неизменными до момента, пока сам владелец не изменит их или не позволит сделать это другому.
На железной монете Ликург не остановился и пытался ввести абсолютно нетранспортабельную "монету" – надежно вкопанные каменные столбы. Можно было бы мероприятия Ликурга отнести к хитростям умудренного государственного деятеля, придуманным на пустом месте, без какой-либо связи с традициями. Но… этнографы, исследовавшие Океанию, узнали о существовании на острове Яп (в западной части Каролинских островов) особых мужских и женских денег. Женские деньги представляют собой браслеты из раковин, мужские – каменные жернова ("феи") высотой в два человеческих роста. Владелец ставит па такой монете свой знак, затирая знак предшественника, и купля-продажа считается свершенной. Доставляются каменные деньги по морю с удаленной на 100 км от острова Яп группы островов Палау. Известны подобные деньги у индейцев Южной Америки.
Упоминая каменные деньги Каролинских островов, которые похожи на мельничные жернова и устанавливаются перед домом как символ богатства, некоторые историки считают их частным случаем денег-украшений.
По сведениям печати, на островах Микронезии находится в обращении 13 тысяч каменных "монет". Много это или мало на 150 тысяч населения, то есть всего по одному изваянию на 10–11 человек? Это скорее нечто вроде расчетного счета, чем аналог крупной купюры.
Но давайте вернемся с прекрасных островов ближе к родной Сибири. Бронзовые монеты в виде кружков с квадратным отверстием были распространены в Семиречье с середины VIII до X века нашей эры. На них надпись: "Это моя тамга". На другой стороне этой тгоргашской местной монеты вязью написано, чья тамга: "Тюргеш каган Байбага" или "Тюргеш каган Бага Тархан". Теперь нам осталось связать тамгу-монету с тамгой, которую нет-нет да и обнаружат археологи на каменных бабах сибирских степей. Существует единственная пока интерпретация этих знаков – они фиксируют право собственности. Сам каменный идол трактуется как межевой столб, как свидетельство права собственности не на него самого, а на близлежащие пастбища. К сожалению, такой интерпретации противоречат данные исследований историков и этнографов. Закрепление земельных площадей при пастбищном животноводстве вообще довольно сложное дело, да и у народностей Северной Азии оно не наблюдалось. К чему же может относиться знак собственности на каменном идоле, стоящем посреди степи? Воспринимать его можно как фиксацию некоторой хозяйственной сделки, совершенной рядом.
"…Материализацию… труда не следует понимать так по-шотландски, как ее понимает А. Смит. Если мы говорим о товаре как о материализованном выражении труда – в смысле меновой стоимости товара, – то речь идет только о воображаемом, т. е. исключительно социальном способе существования товара, не имеющем ничего общего с его телесной реальностью; товар представляется как определенное количество общественного труда или денег" (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 154).
Регламентация процедур обмена в какой-то мере заменяет монеты, позволяет радикально сократить транспортные издержки, которые для скотоводов имели важное значение. Подобный эффект мог дать переход к таким "деньгам", которые не нужно, да и нельза перевозить. Процедура обмена дополнялась взаимными клятвами и т. п.
Обмен и куплю-продажу возможно реализовать разными путями. Один из них – использование неперемещаемых средств обмена – несколько раз встречается в экономической истории.
6. Каждому свои деньги
При описании экономической жизни средневековой Европы нельзя обойти одно интересное явление – распространение монет, не имевших никакой ценности и использовавшихся как средство ведения хозяйственных и коммерческих расчетов. Такие монеты имели разные названия: счетный пфенниг в Германии и Голландии, жетон во Франции, счетная фишка (counter) в Англии, (contador) в Испании и (tessera) в Италии. Ряд исследователей связывает существование жетонов исключительно с методами счета на счетной доске, где они заменили камешки или фишки из костей, керамики или слоновой кости. Счет на средневековой счетной доске велся не как на привычных нам счетах, а как на китайской абаке, где помимо переноса с одного десятичного разряда в другой существует еще счет пятерками. Жетон, обозначающий пять единиц нижнего разряда, выставлялся в промежутке между линиями, каждая из которых соответствовала десятичному разряду. Сам факт перехода к металлическим монетоподобным жетонам говорит о том, что в процедурах расчетов произошли некоторые изменения.

На многих счетных жетонах изображались какие-либо исторические события, на других – символы торговли или счастья. Нумизматы откопали токены из США, использовавшиеся в политической пропаганде в 1837–1841 годах. Начиная с XVI века функцию счетных жетонов выполняют имитации настоящих монет. Поскольку подделывать монеты, находящиеся в обращении внутри страны, было бы преступлением против государства, чеканились имитации иностранных монет. Иногда на них не обозначался год выпуска, и в том было единственное отличие от соответствующей монеты из-за рубежа.
Развитием счетных жетонов средневековья были медные жетоны (токены) английских купцов и промышленников, которые чеканились повсюду в XVII–XIX веках. Правительство Великобритании признало нецелесообразным чеканить мелкую монету вследствие высоких расходов на чеканку. Но поскольку необходимость в средствах обращения – мелкой монете – существовала объективно, эти заботы вынуждены были взять на себя частные компании и банки. Запрещены они были в 1818 году – в метрополии и только в 1873 году – в колониях. Запрет токенов бурно обсуждался, поскольку в условиях Континентальной блокады и связанного с ней расстройства британской монетно-денежной системы они сыграли определенную роль. Что касается колоний, то экономическая экспансия английских монополий в них велась с минимальным участием полноценных монет. На переднем крае порабощения других народов вместе с оружием выступали не государственные, а частные деньги.

Токены – всего лишь один пример частных денег, они выступали как деньги для населения, в среде которого обращались. Но этот пример особенный. Выпускались токены привилегированными торговыми компаниями и были фактически государственными деньгами, выпускаемыми для колоний.
Существуют примеры чеканки подобных денег и непосредственно государством. Самый известный – серебряный торговый доллар США, который выпускался в 1873–1885 годах в ходе ожесточенной борьбы с мексиканским песо на рынках Южной и Центральной Америки. Привлекательность монеты обусловливалась высокой 900-й пробой. Япония и Англия выпускали свои торговые доллары уже в борьбе с долларом США на Дальнем Востоке.
Менее известный пример относится к XVII веку, когда Голландия выпускала золотые дукаты весом 3,43 г для торговли со странами Балтийского побережья. Аналогичные монеты чеканились и для торговли с колониями, в этом голландские колонизаторы опередили британских.

Монетный двор Австрии и сейчас чеканит золотые Дукаты – новоделы, на них стоит дата «1915 год». Именно в этом году был прекращен выпуск золотых монет достоинством в один и четыре дуката, которые чеканились в Австрии исключительно для торговли со странами Ближнего Востока.
В средние века сеньор, чеканивший монету, мог пожаловать своему вассалу монетную регалию, то есть право чеканить монету и получать за это доход. Разумеется, чеканка была привлекательна для феодалов не только из-за дохода, но также из престижных соображений.
При становлении монархической власти монетные регалии стали выдавать (точнее – продавать) не только феодалам, но и городам. В XVII–XVIII веках многие города Германии чеканили собственную монету, как правило, низкой пробы. Она имела хождение только в пределах города. Городские деньги были продолжением немецкой традиции предоставления монетной регалии князьям. Таковые уже остались в прошлом, но в Германии имели хождение земельные (провинциальные) деньги; каждый вид их принимался к оплате в пределах определенной территории.

В позднее средневековье и вплоть до XVIII века в случае длительной осады городов выпускались временные деньги. Выпуск так называемых осадных монет зафиксирован как для осажденных, так и для осаждавших. В 1702 году в осажденном городе Ландау были пущены в обращение куски столового серебра неправильной формы, но примерно одинакового веса. На каждом куске, который и монетой нельзя назвать, был вычеканен вензель – герб города. Первым бумажным деньгам, представлявшим собой картонные кружки с надписью «Ради Родины», европейцы обязаны не осажденным, а именно осаждавшим.
Монетные перипетии средневековья и эпохи колониальных захватов убеждают в том, что при искусственных ограничениях экономической жизни возможно создать и пустить в обращение произвольный вид денег.
Во время англо-бурской войны 1899–1902 годов для стимуляции работы военнопленных были выпущены бумажные деньги, имевшие хождение только в лагере. Кому пришла в голову такая мысль, узнать не удалось, но идея понравилась кайзеровскому командованию, и во время первой мировой войны печатание и чеканка лагерных денег шли полным ходом. Если деньги не попадали в руки военнопленных, функции денег выполняли сигареты. Монеты для лагерей военнопленных выпускались с учетом различий между общими и офицерскими лагерями. Одни банкноты выпускались для конкретного лагеря, на других стоит номер армейского корпуса. Часть денег изготовляли сами военнопленные. Монеты чеканились из разных металлов, оказавшихся под руками, преимущественно из железа, цинка и алюминия. Эта же форма средств обращения использовалась в некоторых фашистских концлагерях во время второй мировой войны.

Столь же трагическое свидетельство сочетания горя и сформированных искусственно денежных систем являют собой деньги для гетто, появившиеся в фашистской Германии и оккупированной ею Польше в 1933–1945 годах. Эти деньги сначала чеканились и печатались самими фашистскими властями и насильственно распространялись среди живущих в гетто, представляя своеобразный вариант займа без отдачи. Но, попав в среду, где существовала потребность в средстве обращения, а обычные деньги были изъяты, эти денежные знаки использовались во внутренних сделках.
Нумизматам хорошо известны монеты из гетто Лодзи достоинством в 10 пфеннигов, 5, 10 и 20 марок из алюминия и алюминиево-магниевого сплава, а также бумажные деньги из гетто города Терезин достоинством в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 крон. Эти деньги были напечатаны впрок и пускались в оборот порциями с тем, чтобы не разрушить искусственно поддерживаемую экономическую жизнь. Большая часть денег для гетто попала в трофеи Советской Армии, так и не побывав в обращении.
Белорусский историк-нумизмат В. В. Рябцевич приводит экспонаты довольно обширной коллекции монет-бон, которые чеканились польскими войсковыми частями на территории Западной Белоруссии и обращались только в зоне расположения этих частей. Выпускали их не только корпусы и полки, но и батальоны, и гарнизоны отдельных городов.