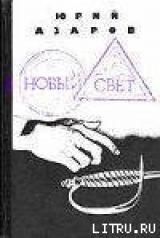
Текст книги "Новый свет"
Автор книги: Юрий Азаров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
– Наберите мне город, – это Шаров секретарю говорит. – Что же это у нас получается, Демьян Сааказович? Мы к вам – так со всей душой, а вы нам кукиш с маслом?
– В чем дело? – спрашивают на другом конце провода.
– Пустяки. Краски художественные и всякая мелочь.
– Не получали, Константин Захарович.
– Так получите, а мы вам то, что я обещал, завезем. А лучше, как только красочки и этюдники будут, так и завезем.
– Лады, – отвечал Демьян Сааказович. – Приезжайте. Шаров довольный глядел на меня: – Еще чего?
– В поход собрались. Машину бы.
– Ох, и много ты хочешь сразу. Так не бывает, чтобы все одним махом. Надо и бюрократизм соблюсти.
– Так как насчет машины?
– Ладно, скажи Каменюке, чтобы в путь снаряжал „ЗИСа“.
Детям от разворота предпринимательства Шарова одна польза была. Я никогда, да и сейчас, до конца не могу понять двигательных, точнее, побудительных источников огромной энергии Шарова. Конечно, я догадывался о каких-то основных пружинах его деятельности, но это были лишь мои домыслы. На первом месте, мне так казалось, мотивом двигательной энергии Шарова был мотив психологический, а точнее психогенетический, если можно так сказать. В генной структуре Шарова слышался не просто топот скачущих табунов, в этом гуле отплясывал свою изначальную историю весь мир цыганства, какой только есть на этой земле. Основание личности было, таким образом, бродячим и вольным, способным к перенесению самых разных тягот. Предки Шарова действительно неоднократно избивались батогами на плацу: то коней чужих уводить им доводилось, то обмен учинить с жутким надувательством, а потом сбежать и не показываться в тех краях, где совершилась коварная сделка. А главное, жар поисков не покидал Шаровых, и этот жар привел к необходимости видоизменить бродяжничество, придать ему сугубо небродячий и даже деловой смысл. С учетом, разумеется, новых коллективистских тенденций. В этом искательно-вдохновенном жаре и сформировалась душа юного Шарова. Надо сказать, это формирование не обходилось без истинно душевных и нередко мучительных физических страданий. Так, в одной из предпринимательских операций у него была сломана рука и перебита ключица – дверь с чужих петель он снимал в темноте жуткой, так уж понравилась дверца дубовая, обшитая войлоком, что в соседском флигеле была, без дела, можно сказать, болталась, и снял ведь дверь, тихо и чисто снял, и ушел бы юный подвижник спокойненько, так нет же – дернул черт еще и рамы двойные выставить, приглянулись ему аккуратные двойные рамы с толстым стеклом, – а одна из них возьми и уронись вовнутрь, вот тогда-то все и началось: выскочил здоровенный детина из дома, и уж что ему под руки попалось, только очень крепкое что-то попалось, и он этой крепкостью и приглушил Шарова, да, испугавшись, за ноги его оттянул на край села, полуживого оставил на холодной земле – так юный Шаров оказался в лазарете. А оттуда вышел несколько измененным, не в генной структуре, разумеется, эта штука у него была неизменной, а в чисто соматической, в органике, можно сказать. Кости срослись несколько неудачно (ломать заново не дался Шаров, хватит и одного раза! На всю жизнь искры застыли перед физиономией, так нимбом и вертятся перед обличьем), а неудачность как раз и состояла в том, что руки как бы двумя дугами стали выпирать, впрочем, очень удобно, как потом Шаров оценил: без напряжения чего хочешь суй под мышки – хоть мешок, а хоть рулон толя, а хоть мелочь всякую: валенки, сапоги, шапки, платки оренбургские для жены и цветастые для родичей, всякую снедь можно, если упаковка ничего. Были, конечно, от полученного увечья и некоторые минусы (в армию не взяли, в некоторые учебные заведения Шаров не прошел), впрочем, он эти минусы вскоре обратил в достоинства: избрал поприще, можно сказать, праведное, почти проповедническое. После учительского двухгодичного института попросился Шаров в крохотную заброшенную школку на должность директора, где и стал развертывать свой природный дар. Ботаникой увлекся Шаров. Станцию юных натуралистов организовал при школе. Чего только не было на этой станции: куры, гуси, голуби, нутрии, кролики. На опытном участке росли пшеница, ячмень, кукуруза, зеленый горошек, помидоры, огурцы, фасоль, разводились клубника, малина, крыжовник – какое же это было богатство в столь трудное время, сразу после войны! Но не станция юных натуралистов открыла ему двери в широкую известность, а несколько отменных бредней, которые научились плести в шаровской школе. Сам Шаров сроду не рыбачил: не к тому была приспособлена хозяйская его душа, чтобы сидеть дурнем на берегу реки и глядеть судорожно на поплавок. К другим важным делам рвалась его душа. Здесь, на берегу, куда так любило приезжать замурыженное начальство, многое удавалось решить Шарову: и где чего достать, и где и как нужную бумагу подписать, и к какому лицу рекомендацию получить.
Так генетическое цыганство Шарова постепенно социализировалось, и снова, подчеркнем, от этого никак не страдало дело, напротив, в той крохотной школе, где директорствовал Шаров, где училось всего-то восемь – двенадцать учеников, но школу специально не закрывали, так как она стояла на самом берегу речушки, а под навесом хранились бредни и великолепные удилища, – так вот, в этой школке были заведены первыми в области горячие, почти бесплатные завтраки и вторая обувь была сшита собственноручно детьми в кружке „Умелые руки“.
В области уже знали, что если надо было кого послать в самую разваленную школу, где ни воды, ни магазина не было, где все в грязи утопало, где крышу ветром постоянно сдувало, а рамы были заделаны наполовину фанерой, то посылали Шарова – и через три-четыре месяца душевно-деловой жар Шарова распалялся с такой силой, что в этом жару мгновенно испепелялось все вредное, что мешало делу народного образования. В новую школу приезжали разные лица, разводились костры на берегу реки, шел самый что ни на есть сердечный разговор, после чего следовала шефская помощь и школка быстро преображалась, а сам Шаров резко подлетал вверх в своем общественном положении – выбирался в депутаты или еще в какую-нибудь районную комиссию.
Конечно, Шаров повсюду значился абсолютно честным человеком и никогда не присваивал государственное добро, заприходованное в бумагах, полученное по разнарядке или выданное еще по какой-нибудь важной ведомости. А вот незаприходованное – это случалось, поскольку не пропадать же добру, если оно нигде не числилось. И в этом была гениальность Шарова – именно в том, чтобы создавать обилие вещей, которые нигде не числились, не значились, а так, приходили черт знает откуда и в таком изобилии, что от этого незаприходованного добра деваться некуда было. И вот тут-то и надо назвать истинный мотив энергии Шарова – мотив взаимообмена, который диктовал необходимость обращать разные вещи в новую незаприходованность. При этом Шаров всякий раз спрашивал:
– А эта вещь нигде не числится? А то, знаете, чтобы к ответственности не привлекли.
Хозяйское око Шарова с особенной пристальностью всматривалось в незаприходованное добро, чтобы всячески законность соблюсти, чтобы бесчестия не допустить. Кстати, честность Шарова соединялась с абсолютной надежностью. Однажды после очередного вояжа на базу я привез лишний ящик кроликовых шапок – сто штук незаприходованных головных уборов оказалось в машине. Шаров тут же позвонил на базу:
– Демьян Сааказович, с вас магарыч.
– Что такое?
– Передали нам лишних сто шапок. Завтра возвратим.
Шаров считал себя высоконравственным человеком. Его мораль была на страже государственных интересов. Он был тверд в соблюдении законности: пропала ложка – плати, разбит графин – плати, поломались часы – плати. Я завез оборудования на два миллиона рублей, утеряны были при этом детский фартук 32-го размера и один тапочек 36-го размера!
– Это серьезная недостача! – сказал Шаров на совещании. – Немедленно высчитать из зарплаты! – И мне по-дружески, когда я уплатил: – Так надо, а квитанцию сохрани, это ответственный документ.
И я хранил квитанцию, потому что законность была на первом месте у Шарова, который и сам иной раз поражался тому, сколько незаприходованных вещей скапливалось в хозяйстве. В особом складе были свалены самые разные материальные ценности. Среди множества ящиков, бутылей, бочек, свертков, в которых покоились гвозди, клинья, молотки, сверла, краски, смазочные и моющие средства, кожзаменители, особняком выделялись вещи совершенно непонятные, впечатляющие: в углу стояло два рулона колючей проволоки, прижатые вагонным тормозом Матросова, тут же стояло двадцать рессор автомобиля марки „студебекер“, два тюка хлопка, три мешка конского волоса, связка фанерита, ящик каких-то увеличительных стекол и прочее. Но самой большой незаприходованной примечательностью был электронный микроскоп стоимостью где-то около миллиона рублей.
– А на шо оця чертивня нужна нам? – иной раз спрашивал Каменюка.
– Сгодится, – отвечал Шаров.
И в процессе обмена эти редкостные вещи выполняли свою, хотя и подсобную, но очень важную роль.
– Так вот, – говорил Шаров, – вы нам кнура даете, а мы вам два рулона колючей проволоки и бочку нитроглицерина.
– Зачем нам колючая проволока? – удивлялся представитель колхозного строительства.
– Как же в хозяйстве можно обойтись без колючей проволоки?
Представительное лицо задумывалось.
– Сколько стоит эта проволока по прейскуранту?
– Да что мы считаться будем! Даром отдаю.
– То есть как – даром? А кнур?
– За кнура мы заплатим по себестоимости, а колючую проволоку просто так отдадим. Она у нас без дела ржавеет.
Представительное лицо сдобривалось, и как только это случалось, следовала, как бы между прочим, новая просьба:
– Там у вас я видел новые скаты на складе, пару штучек не подбросите?
– Скаты нельзя.
– Мы вам за них отдадим новенький тормоз Матросова.
– А он нам ни к чему.
– Ну, два тюка хлопка и электронный микроскоп в придачу.
– Электронный микроскоп? – поражался представитель.
– У вас же есть лаборатория? – настаивал Шаров. – Отдам, почти новый. Бесплатно отдам.
– А сколько он стоит?
– Называть сумму страшно.
– И все же?
– Около миллиона. Там одних запчастей тысяч на сто.
– А ну, глянем.
И оба хозяйственника отправлялись на склад. Усаживались прямо на мешки с шерстью, хлопком и конским волосом. За трапезой окончательно договаривались, и через несколько часов в школу будущего везли кнура и скаты.
А через два часа Шаров уже звонил по телефону:
– Петя, я достал тебе новенькие скаты. Приезжай и не забудь прихватить с собой шесть ящиков метлахской плитки и семьдесят штук шифера.
И снова в Новый Свет мчались машины, прибавляя количество незаприходованностей, отчего, надо сказать, справедливость не страдала. На службе законности стояла бухгалтерия, которая проводила бесконечные инвентаризации, от которых балдели окружающие, потому что считать и пересчитывать, ставить номера новой незаприходованной краской и новыми незаприходованными кисточками было утомительно. Зато счета и накладные, бумаги и инвентарные книги – все было в ажуре, всякая лишняя вещь возводилась тут же в ранг незаприходованной, а всякая пришедшая в негодность списывалась и под наблюдением специальных комиссий сжигалась.
И не доведи господь, чтобы кто-нибудь без спросу присвоил или стянул чего-нибудь у Шарова! Правда, другой раз, увлекшись выгодными сделками, Шаров в такие тупики попадал, что просто не знал, как из них выпутаться. Однажды три машины с лесом ему за так, в счет взаимных обменов досталось. Ну куда их? Куда эти три машины незаприходованного леса? В школу? За штаны возьмут, если ОБХСС или КРУ приедет! Не снова же в лес, в Сибирь отсылать! Приходилось в таких случаях рисковать: завозить не к себе, а к брату Жорке, или к Зинке, сестре, или к другой сестре, Клавке, или к свояченице, а родственников у Шарова было тьма: двенадцать братьев и сестер родных, да около сорока двоюродных, а троюродным счета не было – и всем дай! И все знают, что у Шарова всегда полно всего лишнего – вот и приходилось раздавать! Родственные, чувства Шарова – один из главных мотивов его стихийной и организованной энергии. О них в другом месте я отдельно скажу. А теперь лишь замечу, что именно из родственных чувств: произрастала специфическая шаровская любовь к детям. Эта; любовь была соткана из нежных привязанностей к близким и к; животным. Поверьте – это особо надежные люди, которые одновременно любят родственников и животных! Эти две чело-, веческие добродетели, слитые в одну, создают новую духовность, которая, правда, хоть и норовит замкнуться в голой при-родности, но все же чиста в этом замыкательстве, чиста до святости.
Больше всего Шаров заботился о естественном росте детей, поэтому он прежде всего интересовался тем, как дети оправляются – нет ли поноса или расстройств, следил с истинным наслаждением за тем, как едят дети в столовке, и неизменно задавал один и тот же вопрос:
– Наедаетесь?
– Наедаемся! – орало счастливое племя.
– Может, кому добавки, так вы, ребятки, не стесняйтесь».
– А мы не стесняемся!
– Ну, а что же ты, поросеночек, – обращался он к какому-нибудь малышу, – не просишь добавки? А ну, принеси ему, Максимыч, кусочек…
Я ощущал то живое чувство бытия, то наслаждение, каким наполнялась душа Шарова, когда он общался с детьми. Он любил смотреть на выступающих детей, при этом замечал:
– А по мне хоть Большой театр, хоть Малый, все равно спать хочется. А вот детскую самодеятельность люблю.
Злые языки распускали о Шарове разные слухи: и что у него три дома построено на стороне и в каждом доме будто по тысяче простыней и по две тысячи одеял казенных, но прокуратура проверяла: все по накладным сходилось. А те тысячи, очевидно, тоже относились к разряду нигде не числящихся, незаприходованных. Другое можно сказать, я уж это потом установил: богат был Шаров со всей своей родней, богат был как черт, двадцать машин мог бы купить за один день, купить и не разориться.
4
Есть особая надежность в людях, которые все в дом тащат, к которым родственники валят кулем, и не то чтобы жить – нет, а вот так, наездом, в застолье, чтобы изобилие подтвердилось, загремело бутылками, закусками раскинулось на белой скатерти, хохотом чтоб по половицам, по обилию подушек, по комодам и гардеробчикам, по вешалкам, заваленным воротниками лисьими, песцовыми, каракулевыми, норковыми, а поверх – платками оренбургскими, платками цветастыми, шарфами мохеровыми – по всему этому чтоб прошелся счастливый хохот, подтверждающий изобилие. И чтобы вырвался вольный смех в раскрытые форточки и покатился дальше по округе: нет, не в лежку пьют в этом доме, а родственность справляют, и пусть знают все, что родственность – это то, на чем земля стоит. Ибо коли брат брата не любит, коли сестра сестру не празднует, то какая же надежность может получиться в государстве целом!
И приметил я: чем больше человек к возвышенной идее привязан, тем дальше он от родственности идет, потому что ему идея превыше всего. Вот почему Шаров не любил никакой возвышенности, остерегался ее, потому что она, эта возвышенность, заслонить могла ему родственность, родственность, которая из одной тарелки хлебает в застолье, которая в душу всматривается да орет: «Еще по рюмашке, брат!»– а потом все, как и будет предложено Шаровым: «Давайте полягаемо от тут», – и все вповалку, родней, кучно, детворе на кухне постелено, а взрослым на полу – полетели рядна, наволочки, перины – все устроилось – и храп пошел по дому размашистый, унисонный, весь из себя родственный.
Да простит читатель, вырывается у меня, конечно, некоторая неприязнь, но не из зависти она, эта неприязнь, нет, таким, как Шаров, поклониться надо в ноги, потому что они помнят и чтут эту родственность, на которой человечество должно стоять. А неприязнь у меня произошла оттого, что я приглянулся Шарову, потому и меня он в свою родственность решил стащить, решил, не спрашивая, оприходовать меня, сосватать к своей племяннице. Был какой-то праздник, и нас с мамой пригласили к Шаровым. Помню как сейчас: племянница Настя, со всеми признаками последствий изобилия на лице, качнулась в мою сторону и пригласила танцевать. Ей не понравился темп, и она перехватила руки и повела меня, как щепку, под одобрительные голоса всей родни:
– Так его, Настя, быка за рога сразу!
А Настя вскинула огромной головой поверх моей головы и запела в потолок: «Хороши весной в саду цветочки!» Я задыхался в ее объятиях, а она водила меня фокстротом по комнате и напевала полюбившуюся ей песенку.
– Эх, хороши! – прикрикивал брат Жорка (цветочки, стало быть).
А Настя сжимала мою плоть, точно запахивалась мною, наслаждаясь своим великанским проворством. Когда танец кончился, она со словами: «Ух, запарилась»– хлопнулась на лавку, и мне рюмку полную налила, и в тарелку набрала всего-всего самого наилучшего – это тоже культ: родственность потчевать! – и в глаза мне кинулась серым огнем, и от всего сердца:
– Чокнемся давайте на счастье!
– На счастье! – повторил брат Жорка.
– На счастье! – заорала родственность.
И Шаров встал из-за стола, подошел с рюмкой, и меня с Настей, как своих самых близких, за плечи обнял, и, поливая мою штанину из бокала, в откровенность пустился:
– Скажу по правде, люблю я вас обоих! Ты даже не знаешь, Настя, какой это человек! Выпьем, товарищи, за все хорошее! Напротив мама моя сидела, поджав губы.
– Что, Никитична, нравится невеста? – это к ней ни с того ни с сего Раиса, жена Шарова, полезла.
Мама пожала плечами: ей и приятно было, и не по себе было от такого вольного обращения с ней, со мной – все вроде бы в шутку сначала было, а тут на серьез полный перешло. А Настя все напирала плечом в мою сторону и подкладывала еды в мою тарелку. Потом она сумку свою подтащила – сроду не видел такого огромного ридикюля, мне казалось, что она вот сейчас сложит меня вдвое в этом ридикюле, захлопнет сверху, клацнув двумя металлическими шариками, и я буду маяться там, в темноте, между пудрениц, губной помады и носовых платков. У меня мороз по коже прошел, когда она подвинулась ко мне еще ближе (сейчас начнет в сумку запихивать), но Настя вытащила свою фотографию и спросила:
– Хотите посмотреть?
Я из деликатности рассматривал ее изображение, точь-в-точь вышла, и мороз с моей спины сползал: Настя не станет меня складывать вдвое, чтобы в сумке спрятать. Фотографию, слава богу, у меня выхватили, стали по очереди рассматривать да приговаривать:
– Какая статная вся из себя!
– Ну, Никитична, и невестка у вас, гляньте! – это к маме моей с разговорами пошли.
«А что, вот так, ненароком, – думал я, – завалят меня с Настей где-нибудь в горе подушек, оприходуют, как нигде не числящийся материал, и концы в воду. Нет, бежать, надо бежать, пока не набрался здесь этой буйной шаровской природности, бежать, чтоб духу моего здесь не было!»
Я в решительности ногу свою через скамью перекинул, но не тут-то было. Настя настигла меня у дверей:
– Я хочу вам что-то сказать…
– Ну-ну?
– Можно, я вам фотку подарю, у меня есть еще одна?
– Хорошо, – сказал я, – потом! – И побежал на улицу. Первым делом я умылся. Потом полную грудь воздуха набрал и побежал в ту сторону, где Манечку мог встретить.
– А я здесь уже целый час хожу, – сказала Манечка.
– И я уже целых полчаса ищу тебя, – сказал я.
– А я по той стороне ходила, а потом на эту перешла.
Я нагнулся и поцеловал ее коленку. Манечка отпрянула в сторону. Я сел на большое бревно и прислонился к стволу дерева. И Манечка села рядом. Вверху луна отвоевала себе кусок света среди деревьев и тускло мерцала нежной матовостью занаждаченного серебра. Так и двигался этот кусок отвоеванной прозрачности, едва-едва заштрихованный тонкими веточками осени.
– А Каменюка сказал, что тебя сватать будут. Я молчал. Холодная упругость Манечкиного лица чуть-чуть отдавала знакомым запахом парного молока.
– Я все время думал о тебе, Манечка.
– Так уж – все время!
Манечка уткнулась подбородочком в свои коленки, и тоненькие плечики ее, мне это определенно померещилось, чуть вздрогнули. Мне не видно было Манечкиного лица, а плечи все вздрагивали и вздрагивали, и я сжался от ощущения своей вины. Потом я чуть-чуть прикоснулся рукой к ее плечу, нежно прикоснулся, ожидая, что отбросит она мою руку, но ее плечо продолжало вздрагивать, а голова все глубже и глубже уходила в коленки. Вот чего я никогда не мог переносить, так это слез. Несчастно было у меня на душе. Разорванные тучи стремительно падали вниз, и оттого луна стремительно плыла вверх, туда, где совсем чисто было, но до этой чистоты еще было далеко, еще много темных, буро-черных разорванностей надо проплыть, чтобы достичь звездной пестроты неба.
А от плечиков Манечки до самой спины дробь шла, и когда сквозь эту дробность пробился отчетливый Манечкин смех, у меня на душе отлегло.
Теперь моя очередь была уткнуться в коленки. В свои собственные коленки я зарылся и не видел больше луны, которая спряталась, наверное, в самую густую черноту.
– Ты сейчас туда пойдешь? Наверное, уже пора идти, а то искать будут…
Я молчал. Долго молчал. И долго сжимал коленки. Свои коленки. Сжимал до тех пор, пока Манечка руку на мое плечо не положила. Но я все равно головы не поднял. Я ждал. Я видел беленькую с прожилками (молочно-лимонный круг уже поднялся к своей чистоте) ладонь Манечкину. Вот ее тонкие пальцы коснулись моей щеки. Я поднял голову; лицо Манечки смеялось, глаза искрились озорством, и губы расковались, будто покинула их осенняя свежесть. Я прикоснулся к ее лицу. Только в первое мгновение я ощутил тонкий слой морозного запаха осени, смешанного с холодной влажностью, а потом этот слой исчез, растопился, губы теплые и нежные, с таким знакомым запахом молочной ароматности прикоснулись ко мне, раскрылись и прикоснулись, и утонули мои страдания в жаркой наполненности ее чистоты, не осенне-сырой, а по-летнему напоенной звуками, кружением голубых волн, ожиданием, что еще что-то раскроется, спрятанное там, дальше, за этими сияющими зубами, твердость и податливость которых я тоже ощутил.
«Так было сто, и двести, и тысячу лет тому назад», – хотел было сказать я, но ничего не сказал, потому как что бы я ни сказал, все равно это было бы хуже, чем то, что я молчал. И Манечка это поняла. И когда я действительно хотел раскрыть рот, чтобы сказать какую-то ерунду, она ладонью своей поторопилась закрыть мне рот, и я был благодарен за это.
– А что, если мы проберемся ко мне в кабинет? – сказал я, почувствовав, что она вся дрожит.
Мне и невдомек было, что она дрожит вовсе не от холода, а от чего-то другого, что в тысячу раз важнее моих слов, и этого лунного чистого света важнее, и всего на свете важнее. Вместо ответа Манечка прижала мою руку, чтобы я сидел не двигаясь. Что-то неслось в ней, неслось с такой стремительностью, что я чувствовал эти потоки и постепенно сам входил в них, чтобы вместе с Манечкой мчаться к той дальности, которую так боялась потерять она из виду. Глаза ее были закрыты, точно она прислушивалась к своему полету, и серебряная лунность скользила по ее белизне. Так прошла минута и, может быть, две, а может быть, и все сто. Потом она прошептала:
– Пойдем.
У самого крыльца она сказала: «Нет», но спокойно пошла за мной. И когда я дверь ключом открыл, она снова сказала: «Нет», но порог переступила, хотя я ее вовсе за руку не тянул, а так, чуть-чуть подталкивал. И когда ключом я изнутри дверь запер, она снова сказала: «Нет», пытаясь отодвинуть меня от двери, но будто у нее сил не стало, она расслабилась и прислонилась к моей груди. Это потом уже, много позднее, я узнал, что женщины чувствуют совсем не так, как мужчины, что разум их тонет в вечности совсем по другим законам, что женщина способна и должна таять до полного своего исчезновения, иначе она не женщина, иначе она никогда не испытает того, что ей суждено испытать в своем женском человеческом счастье.
Лунный свет плыл по комнате. Я боялся пошевельнуться, смутно догадываясь о том состоянии, в котором пребывала сейчас Манечка. Ее большой рот чуть приоткрылся, и я касался ее губ, и губы в желанной безвольности были со мной. Я потихоньку нагнулся, взял Манечку на руки и осторожно уложил на диван, который по случаю полного изобилия был установлен в моей комнате. Может быть, от легкости, которую я ощутил, подымая Манечку, а может быть, оттого, что она пребывала в такой томительной беззащитности, меня захлестнула будто совсем материнская жалость, теплый поток подкатился ко мне, и почему-то слезы к горлу подступили, и я хотел, чтобы Манечка ощутила мою жалость, увидела и приняла мою понимающую бережность. Я едва касался кистью руки ее лица. Она не шелохнулась, когда я снял с нее пальто, кофту, и когда моя рука потянулась к спине, чтобы освободить пуговичку, она совсем в нужный момент выгнулась, приподняв тело, чтобы моя рука свободно отстегнула петельку. Только когда совсем обнажилась грудь, она вздрогнула. Я боялся увидеть совсем другое. Но это было как раз то совершенство человеческой красоты, которое в одно мгновение поражает воображение: упругая налитость уронилась овальной тяжестью и застыла в лунном покое. В это время как раз и раздался грохот на крыльце и буйные голоса разорвали тишину.
Манечка испуганно, все еще пребывая в полусне, раскрыла глаза. Я быстро встал и защелкнул предохранитель на замке.
За дверью спорили:
– Та немае тут никого, – это Каменюкин голос.
– А ну, давай ключи! – это Шаров к Каменюке обратился.
– Немае ключей. Я уси три отдав йому…
– Непорядок, – ответил Шаров.
– Куда он мог пропасть? – это моя мама беспокойным голосом.
– Что вы так волнуетесь? – это Настя.
– А ну, моим ключом попробуй! – это Шаров.
В замке заковырялись. Манечка прижалась ко мне.
– Не откроют! А откроют – женимся! – почему-то вылетело у меня. – Еще лучше, если откроют, – прошептал я. Манечка прижала свою ладонь к моим губам.
– Не подходит ключ! – это Каменюка доложил;
– Ладно, пошли, – ответил Шаров.
Снова загремели шаги на крыльце. А когда стало совсем тихо, Манечка закрыла лицо руками и заплакала.
Перед Новым годом умерла мама Славы Деревянко. Удавилась, как потом мы узнали.
В день, когда нарочным доставлено было это печальное известие, Шаров задыхался от гнева. Еще одна анонимка была направлена в высокую инстанцию, откуда пообещали приехать с расследованием. В жалобе писалось, что воровство в новой школе поставлено на промышленную основу, что тянут все, что безобразиям нет и не будет конца. Писавший был грамотным человеком. Он ссылался даже на Карамзина, который много лет назад на вопрос: «Чем занимаются сейчас в России?»– ответил: «Воруют».
Анонимщик не щадил Шарова, называя его новым типом приобретателя, и это очень и очень обидело Шарова. Он был оскорблен в своих лучших патриотических чувствах, поскольку в его лице очернялся в какой-то мере, как он сам считал, общественный строй. Бешенство Шарова проявлялось по-разному. В тот день гнев его сопровождался мрачным молчанием. Шаров темнел. Темнели глаза, лицо, волосы, одежда, весь он погружался во мрак, который черной аурой двигался за ним. Выражение «темнее тучи» было применимо к нему не в каких-нибудь иносказаниях, а напрямую, потому что он был действительно темнее тучи, темнее угольной пыли, темнее сажи газовой, темнее самых темных сил на этом свете.
Радостные лица его раздражали. Я это чувствовал. В эти дни я готовил новогоднюю феерическую программу. Есть особая прелесть в ожидании детских праздников. От всего шел удивительный аромат обновленности, и я делал все возможное, чтобы этот аромат был тоньше, светлее, изысканнее. Эта обновленность уносила меня в самые сладостные мгновения моего детства, и от этого возвращения к прошлому рождалась новая счастливость. Шарова приводил в неистовство рассыпанный повсюду смех. Надо сказать, что у него были основания для недовольства: в предновогоднем веселье проскальзывали насмешки и в адрес Шарова.
– А шо це таке – поставить воровство на промышленную основу? – спрашивал Гриша Злыдень.
– Это значит сделать его механизированным, комплексным, – отвечал Сашко.
– А як це?
– А чтоб тянуть в комплекте. Не по отдельности, как до революции, скажем, стащил одне порося – и все. А зараз щоб и корм в придачу, и кирпич, чтобы для порося построить сарайку, и оти шпаги чертовы, яки Смола понакупив.
– А шпаги на що? – удивлялся Злыдень.
– А чим колоть кабана? Это раньше ножами ризалы, а зараз тах-тах шпагой – и нема борова.
– Ох, и доболтаешься ты, Сашко! – смеялся Злыдень.
Неблагодарный Сашко (Шаров ему и машину шпал отвез, и шкуры двух телят подарил, и повысил ставку на пятнадцать рублей) везде о Шарове распускал слухи, зубоскаля и закручивая петлю вокруг всех шаровских недобрых дел. В эти предновогодние дни Сашко рисовал с детьми огромные красочные плакаты. Он подводил нас к ним, показывая нарисованного медведя:
– Это Шаров проверяет санитарное состояние столовой.
– А чего у него курица под мышкой? – спрашивал Дятел.
– А курица – это как второй завтрак. Бачите, за елками фигура, это Каменюка побежал погреб открывать.
Сашко успевал повсюду. И ребятишкам уделял внимание. Славке и Почечкину успел бороды приклеить каким-то авиационным клеем, и они не могли их оторвать.
– А может быть, и не надо отклеивать? – спрашивал Александр Иванович у ребят. – Как раз до свадьбы можно и походить.
– Мне на дежурство идти. Я командир сводного отряда, – говорил Слава.
– Так оно ж и хорошо. Ты вроде бы как из партизан. А то что за командиры, которые без усов и без бороды…
В этот самый момент и позвали Славку к директору. Сказали:
– Срочно!
Шаров сидел в сумеречной комнате. На дворе было уже темно, а свет в кабинете не зажигали. Славка, прикрывая бороду рукой, вошел в кабинет.
– Это еще что такое? – тихо спросил Шаров.
– Не отклеивается, – ответил Слава.
– Иди сюда, Славка, – сказал Шаров, и на его душе стало теплее. От прикосновения к чужому горю Шаров просветлел. Ему захотелось вдруг пожалеть Славку, соединиться с его бедой, раствориться в Славкиных слезах, обратиться в бегство к своему прошлому, плюхнуться в него, зарыться в материнских теплых одеждах, закричать: «Мама, мамочка! Все надоело, устал я, потому что никакой благодарности за то добро, какое я сею, нету мне! Вором обозвали, осмеяли, мамочка!» Шаров обнял Славку:
– Крепись, Славка, нет у тебя больше мамки.
Славка поднял голову, посмотрел на директора и затих.
Мать всегда для Славки была чужим человеком. Человеком, который предал его. Он стыдился матери. Стыдился всегда. И тогда, когда жил с нею и с полоумным дедом Арсением, который с утра до вечера сидел на печке и повторял одни и те же слова: «Беда, беда». Стыдился Славка своей матери и тогда, когда на стеклотарный склад ходил, где мать работала грузчицей и сторожихой, где она напивалась и буянила. Стыдился и тогда, когда мать его приласкать пыталась, когда, приезжая в школу, вытаскивала и подавала ему пирожное да кулечек с конфетами.








