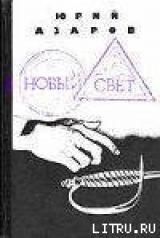
Текст книги "Новый свет"
Автор книги: Юрий Азаров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
19
Конечно же, именно такого сна не было, хотя я в те времена был так напичкан философскими размышлениями о смысле жизни, о воспитании, о любви, о мечте и идеалах, я так много сидел ночами над основоположниками, над Кантом и Гегелем, Фихте и Шеллингом, Достоевским и Толстым, что эта причудливая связь индивидуального (Злыдень и Коля Почечкин, Волков и Шаров, Манечка и Петровна, Слава Де-ревянко и Каменюка) со всеобщим, вечно человеческим не могла мне не присниться.
Конечно же, мое воображение делало невероятные усилия, чтобы найти меру живого соединения реального и идеального, стремилось остроумием преодолеть ненавистную мне схоластичность.
Как бы то ни было, я решил дать именно то описание моего сновидения, которое проясняет некоторые существенные позиции моего мироощущения. И я действительно готов поклясться, что не помню начала сна. Помню только совершенно отчетливо, как Шаров выбежал на крыльцо с дыроколом в зубах, держа почему-то гуся в руках, серого огромного гуся, которого мы недавно приобрели в колхозе – выменяли на могильное надгробие, конфискованное по одному анонимному письму у Ивана Давидовича, – так выбежал Шаров в таком странном виде, и сквозь новенький дырокол раздались свистящие звуки его голоса, адресованные Гришке Злыдню:
– А ну, гукны Иммануила Канта!
Злыдень почему-то выполз из-под крыльца: голова у него завязана мешковиной, я даже надпись прочел черную: «Не кантовать!» – а в руках Злыдень держал белый-парик:
– Це той немчура, шо на конюшню пишов со Спинозой? Вин мени парик проиграв в домино.
– Вин самый, – ответил Шаров, освободившись одновременно от гуся и дырокола.
– Бачив, бачив, як воны на конюшню пийшли, кажуть, в глаз Майки закапувать. Я зараз их поклычу.
Почему-то Гришка уходя кинул парик вверх, и парик мигом наполнился очень знакомой головой.
– Да это же Гегель, – решил я. – Но почему он в парике? Сроду не видел Гегеля в парике.
– Ты все книжки читаешь, – обратился ко мне Шаров. – А я их живьем взял. Сейчас мы из них выжмем все. Так вот, говорю, – продолжал Шаров, уже обращаясь к Гегелю, – по-напутывали вы со своей философией: и так можно, и по-другому можно, значит, и нашим, и вашим?
– Ничего подобного, глубокоуважаемый господин, все весьма определенно, – отвечала голова, плавно соединяясь с туловищем, выплывшим откуда-то из-под стола. – Повторяю, те, кто ставят долженствование как принцип морали так высоко, приходят к разрушению нравственности, и наоборот…
– Ничего не могу в ум взять, – сказал Шаров, почесывая дыроколом затылок, и совсем неуважительно к философу: – Ты можешь по-русски четко сказать, на примере пояснить, що нам робить с этой чертовой детворой?
– Я предельно четко выразился, милостивый господин. Я еще в ранних своих работах, как вам известно, писал о том, что трепет единичной воли, чувство ничтожного себялюбия, привычка к повиновению – необходимый момент в развитии каждого человека. Не испытав на самом себе принуждения, ломающего своеволие, никто не может стать свободным, разумным и способным повелевать. Чтобы приобрести способность к самоуправлению, все народы должны были пройти предварительно через строгую дисциплину и подчинение воле господина.
– Чего он сказал? – обратился ко мне Шаров.
– В этой своей позиции он неправ, – сказал я. – Он говорит, что путь к свободе лежит через ломку индивидуальности.
– Интересно, – обрадовался Шаров, – так вы говорите, что вас реабилитировали полностью?
– Я никогда открыто не подвергался репрессиям, – ответил спокойно Гегель. – Ни при жизни, ни после.
Просунулась голова Злыдня:
– Не хотять воны идти. Кажуть: нам ця философия дома обрыдла.
– А шо воны роблять?
– А сыдять на соломи и у домино с Каменюкой шпарят.
– Скажи, шоб зараз шли, – приказал Шаров, и Злыдень скрылся.
– Понимаете, – прошептал я на ухо Шарову, – Гегель нам отходы подсовывает из своей системы. Шаров всезнающе ухмыльнулся.
– Нет, товарищ Гегель, так дело не пойдет, давайте договоримся: или в мульки будем играть, или всерьез. Если всерьез, то выкладывайте свое зерно, и дело с концом.
Вошел Каменюка в тюбетейке, Спиноза в черной рваной фуфайке и Кант в зеленом камзоле с белым воротником, а за ними Сашко прошмыгнул, почему-то голый и бреднем обмотанный.
– Это и есть зерно моих педагогических воззрений, – отвечал между тем Гегель, как бы обращаясь к вошедшим.
– В чем именно, господин Гегель? – спросил Кант.
– Мне кажется, что я всегда развивал и вашу мысль: сначала надо укротить натуру ребенка, сломать своеволие, а потом уже формировать творческие свойства.
– Совершенно верно, – поддержал Кант. – Нет ничего выше долга и повиновения. Только долг и повиновение ведут к внутренней гармонии, к свободе.
– А как это сломать? – заинтересовался Шаров.
– Это очень легко достигается, во-первых, послушанием и прилежным выполнением обязанностей, затем – режим и строгое соблюдение правил. Первые три года ученик должен молчать и даже вопросов не задавать. Это еще покойный Пифагор знал.
– Опять шелуху сбывает, – подсказал я.
– Да не галдысь, – нервно ответил Шаров. – Дело человек говорит. Поразболталась у нас детвора. Послушайте, товарищ Гегель, – обратился Шаров к философу, – а вот мы всем дали парла – выходит, правильно поступили, по науке?
– Абсолютно правильно, – ответил философ. – Нельзя миновать авторитетную стадию. Ребенок должен пройти все стадии развития человечества.
– От пещерной обезьяны до варварства, а от варварства до современной цивилизации, так, что ли? – не выдержал я.
– Абсолютно верно, – ответил философ, – от пещерной обезьяны до цивилизации. Мне тут рассказали, что вытворяли ваши воспитанники на первых порах.
– Та хуже отих обезьян, не наче як из пещер выбигли, – поддакнул Злыдень.
– Де там обезьяны! Воны хоть на деревах спокойно сидять, а ци – ну прям архаровци, – это Каменюка в лад шаровской улыбке прошамкал, снимая тюбетейку.
– Вы не забудьте, что у Гегеля все с ног на голову поставлено, это подчеркивали основоположники, – решился припугнуть я Шарова. – Они, как раз когда краеугольные камни зарывали, предупреждали: Гегель – не наш человек, идеалист, что даже у Спинозы все вернее было.
– Спиноза – це той, шо у рваной фуфайке? – спросил Шаров.
– Да, – ответил я. – Гениальный философ.
– А чого он в таком рванье ходит? Може, выписать йому из склада тужурку, оту, шо мы для Злыдня купили?
– Бесполезно. Спиноза говорит, что наше бренное тело недостойно лучшего одеяния. Очень скромен. Как святой.
– Может быть, вы нам что-нибудь подскажете, Бенедикт Михайлович, – обратился к нему Шаров заискивающе.
– Охотно! – ответил Спиноза, рассматривая отшлифованную линзу.
– Вы документ у него спытайте, – сказала вдруг появившаяся голова Каменюки. – Там таке написано, шо страшно аж…
– Вот мое приписное свидетельство, – тихо сказал Спиноза, подавая Шарову огромный, свернутый вчетверо лист.
Шаров прочел на первой странице: «Предупреждаем вас, что никто не должен говорить с ним устно, ни письменно, ни оказывать ему какую-нибудь услугу, ни проживать с ним под одной крышей, ни стоять от него ближе, чем на четыре локтя, ни читать ничего составленного или написанного им». Подпись: «Святая еврейская община».
– Нам бы таки бумажки зробить, – предложил Каменюка.
– Ну и сатана же ты, Каменюка! – вырвалось у Злыдня.
– Знимать копию, копию знимать, – жужжал Каменюка. – И парла не надо буде робить, а дав от таку бумажку в зубы кому завгодно, и хай мыкается, як цей чертов Спиноза.
Завхозу не дали договорить: Эльба схватила Каменюку за обе штанины сразу и поволокла к двери.
– Не обращайте внимания, – сказал Шаров. – Для нас этот документ недействительный. Продолжайте, товарищ Спиноза. Тут уже были сделаны предложения: поснимать штаны и надавать как следует. Вы согласны?
– Вы меня ставите в трудную позицию, – ответил Спиноза. – Мне не хотелось бы обижать коллег, они слишком много сделали для науки, да и потом, у меня характер другой: я за те истины, которые очевидны, а не за те, которые надо расшифровывать.
– Вот понятно человек говорит, – восхищался Злыдень. – Бачили, яки у нього руки, работяга: не сидит без дела.
– Мой друг Лейбниц, – продолжал Спиноза, – как-то заметил, что если бы магнит был мыслящим, то он бы направление к северу считал единственным законом своей свободы.
– Очень точно сказано, – ответил Кант. – Я бы только добавил, что севером для человека является долг, великий всеобъемлющий долг.
Гегель горько усмехнулся.
– А вот ваш коллега, – продолжал Спиноза, – придерживается совершенно иной точки зрения. Он изволил как-то по этому поводу пошутить: «Если бы магнит стал мыслящим и свободным, то его выбор остановился бы на пространстве с возможностью реализовать себя во всех направлениях».
Гениальное уточнение.
– Браво, Борух! – закричал я неожиданно для себя. – Вы так просто доказали правоту истинно гегелевской философии! Вот где ключ к всестороннему развитию.
– Ничего не зрозумив, – это Злыдень сказал. – Аж темно в глазах.
– Объясни по-человечески, – обратился ко мне Шаров.
– Вы позволите, господа? – обратился я скорее к Гегелю и Спинозе, чем к Канту, который, впрочем, и не слушал, а просто длинными добрыми пальцами поглаживал старую Эльбу. – Вот это полное осуществление сил человека и есть счастье. Именно учение о единстве счастья и долга мы взяли за основу построения школы будущего. А это значит, что все должно быть в радость: и учение, и труд, и самоуправление, и вся жизнь.
– Вот типичное заблуждение человечества, – сказал Кант, вставая. – Чем больше разум предается мысли о наслаждении и счастье, тем дальше он от истинной удовлетворенности, от нравственности. Человек, будь он ребенок или воспитатель, должен поступать не из интереса, радости или предвкушения удовольствия, а только из уважения к закону. Закон точен и незыблем, а счастье – это сиюминутное желание, прихоть, каприз личности. Дайте вашим детям возможность выбирать виды деятельности – и они перестанут заниматься, а будут бегать по крышам, вывинчивать лампочки, как мы это сегодня видели, писать стихи в лодках про любовь, как тут нам рассказывали, вместо того чтобы серьезно выполнять свой подлинный и настоящий долг – уважать закон, школу и родителей.
– От дае! – восхитился Злыдень. – И про лампочки на конюшне не забув, и про черта Никольникова вспомнил.
– Я надеюсь, господа, – продолжал Кант, – что вы меня не так примитивно поняли, как этот господин Злыдень. Посудите сами, меня столько лет обвиняют в ригоризме, забыв, что именно я, а никто другой, сформулировал тезис: «Человек – всегда цель, и никогда – средство». Я чувствую, вы по молодости не разделяете моей этической системы, – это меня удостоил Кант взглядом.
– Что вы, господин Кант, все, что написано вами, это прекрасно, но точнее эти же мысли изложены у Спинозы и Гегеля. Я понимаю, что вы не отрицаете счастья для человека, но ваша формула, как показывает сегодняшний опыт, позволяет темным силам человечества отрицать ваш главный тезис о человеке как самоцели на основе вашего же учения о долге.
– В чем же это проявляется?
– А в том, что отрицается ребенок как самоцель, раз игнорируются его интересы, его мотивы и потребности.
– Это от бескультурья, – сурово сказал Кант. – Я нигде не говорил, что надо игнорировать интересы и потребности. Я говорил о более возвышенных вещах: о самой высшей радости – радости самоотречения.
– Як це – самоотречение? – не выдержал Злыдень, обращаясь к Сашку.
– А це колы послидний шматок из горла вырывають у тебе, а ты радуешься як сукин сын, – ответил Сашко, обматываясь бреднем.
– Щось ты мелешь, Сашко? – обиделся Злыдень.
– Ну, давай мени фуфайку и штаны, а я тебе бредень дам погриться, а то я зовсим змерз.
– Так у мене ж радикулит!
– А у Спинозы, думаешь, не було радикулита? От я готов тоби отдать цей чертив бредень, а ты от фуфайки не в силах сделать отречение. Не, Злыдень, нельзя тебя пидпускать до людей на четыре пальця.
– Тикай, Гришка, а то запишуть и последню фуфайку стягнуть, – это Иван Давыдович появился с двумя шпалами под мышками.
А Кант между тем продолжал:
– Это и есть высшая радость, и высшая цель, и высшее счастье, когда отрекаются во имя высокой цели, во имя другого от своей радости. Я думаю, со мной согласятся господа философы.
– Не совсем, – пожал плечами Спиноза.
– Вы должны понять, – снова заговорил Кант, – что принцип человеческого счастья не годен как принцип прежде всего потому, что он подводит под нравственность мотивы, которые скорее подрывают и. уничтожают весь ее возвышенный характер, смешивая в один класс побуждения к добродетели и побуждения к пороку.
– Великолепно, Иммануил, – сказал Гегель. – Это вам надо было и написать в своей «Критике чистого разума».
– А я это и написал, – недовольно прищурился Кант. – Читать надо классиков, господа.
– Пойди скажи Петровне, щоб гуся зажарила, – тихонько шепнул Шаров Злыдню, который тут же вышел из комнаты.
– Я хотел бы все же, господа, внести одно маленькое уточнение, – робко проговорил Спиноза, оставаясь по-прежнему в тени. – Долг и счастье, труд и радость неразлучны. А нравственность тогда нравственна, если она доставляет удовольствие человеку, не в ущерб другим, разумеется.
– Вот настоящий и великий принцип! – закричал я. – Принцип, который дорог нам и от которого мы не можем отступаться!
– Что это значит? – спросил Шаров.
– Это значит, что любое дело должно и нам, и детям доставлять наслаждение. А если его нет, то никакого будущего мы не построим и никакого воспитания у нас не получится.
– Там до вас прийшли, – робко сказала просунутая в дверь голова Петровны.
– Кто?
– Кажуть, борцы за свободу. Один в наручниках, а другий, грех сказать, с дощечкою, на якой написано: «Государственный преступник». А третий так очима блискае, шо аж страшно.
– Скажи – комиссия у нас! – нервно бросил Шаров. – Нам тильки государственных преступников не хватало тут.
Я приоткрыл занавеску. На пороге стояли Достоевский, Чернышевский и Ушинский. Опрометью, не спрашивая Шарова, я выбежал из комнаты и впустил гостей. Навстречу им поднялся только Спиноза. Он приподнял цепь, которой был скован человек, помог ему сесть рядом с другими двумя пришельцами. У Гегеля и Канта не вызвал восторга приход новых людей, весьма странных как по одежде, так и по всему человеческому обличью.
– Я, как вы знаете, являюсь почитателем столь уважаемых европейцев, – сурово сказал Федор Михайлович. – Хитрости мирового Разума могут вовлечь человека и в самые губительные преступления, и в праведное дело возрождения истинной человечности. Я согласен, цель, ради которой я должен быть деятельным, должна обязательно являться и моей целью. Ничто великое в мире не осуществляется без страсти. У культуры нет выбора – Христос или мессия Наполеон. Для меня тоже нет этой альтернативы. В отличие от господина Гегеля, не считаю великих цезарей великими. Наша отечественная мысль уходит в иные пласты и по вопросу о воспитании. Досадно, что столь уважаемые европейцы формулу непременного совпадения целей ребенка и целей воспитания изуродовали «здравым» смыслом прусского опыта дисциплины в наручниках. На это правильно обратил внимание в своих работах господин Ушинский…
На середину комнаты выехала вдруг площадка, на которой оказался Ушинский в образе пророка-фанатика, лицо которого быстро-быстро писал, как мне показалось, человек, похожий на Васнецова. Писал и почему-то отхлебывал из пузырька скипидар, который ему подавала Манечка.
«Он же отравится, Манечка», – хотелось мне крикнуть ей, но она так мило и надежно улыбалась, что я понял: опять Манечка какую-то игру затеяла.
Между тем фанатик-пророк, поглядывая в тот угол, где виднелся край бороды Достоевского, сказал:
– Воспитание, созданное самим народом на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных заимствованных идеях.
– Я надеюсь, вы не становитесь тем самым на славянофильские рельсы? – спросил человек, будто стыдясь таблички на груди. – И, разумеется, вы тем самым не отрицаете достижения европейской науки и культуры?
– О чем вы говорите, Николай Гаврилович? Из двух систем я склоняюсь больше к американской, чем к прусской, потому что последняя вся пронизана муштрой, наукообразием и педантизмом. Свобода, свобода и еще раз свобода – вот что необходимо нашему воспитанию!
Как только сказаны были эти слова, свет пошел по потолку, такой бывает в самый разгар северного сияния: голубой, красный, желтый, переливчатый, и все засуетилось в ожидании чуда. Шаров выхватил в волнении у Васнецова пузырек со скипидаром и тут же опрокинул его в себя, Каменюка поднял дрожащие руки, шепча что-то о присвоенной бочкотаре, Злыдень, почему-то обрадованный, дергал меня за ухо, спрашивая:
– А шо, воны уси будуть работать у нас?
– Нет, – качал я головой.
– А шо, ставок немае?
– Отстань, – нервничал я, стараясь не потерять нить спора.
– А то було б як до вийны: музыка грае, пиво у бочках холодное, и рассказують добри люды ось так, у холодочку. В это время вошла Петровна.
– Принесла гуся, – сказала она.
– Та я ж сказал жареного, а не живого! – возмутился Шаров.
Гусь красным глазом повел вокруг и заговорил по-человечески, заглушая голос Достоевского:
– Система нужна, потому что все действительное разумно. Только система может разрешить все противоречия. – В человеческом голосе гуся слышались одновременно интонации и Гегеля, и Дятла.
Я всмотрелся в птицу. Она была окольцована. Я прочел на медном браслете: «Нео…» – а дальше было совершенно неразборчиво – то ли неогегельянец, то ли неоницшеанец. А гусь продолжал орать:
– Всех унифицировать, уравнять, подстричь под одну гребенку, превратить в табуреточные проножки! Никаких субъектов! Только проножки!
– Чого це вин? – спрашивал Злыдень у Спинозы.
– Обычное перерождение, – спокойно отвечал философ. – Он думает, что он системщик, а на самом деле мизантроп, вульгарный метафизик.
– Шо вин каже? – спросил Злыдень у Сашка.
– Вин каже, что уси люди – гуси, а вин только и е людына. Ось тебе зараз и зажарять, як гуся.
– Все располовинить! Всех расчетверить! Всех превратить в проножки – это и есть самый великий закон тождества! – орал гусь уже нечеловеческим голосом. – Система – вот единственная духовная и социальная революция.
Я силился во сне избавиться от назойливых гусиных звуков, мне так хотелось до конца расслышать слова автора «Карамазовых», а его лицо уплывало в красных бликах, только голос звучал твердо и доказательно:
– Отрицание необходимо, иначе человек так бы и заключился на земле как клоп. Отрицание всего, даже земли, нужно, чтобы быть бесконечным. Христос, высочайший положительный идеал человека, нес в себе отрицание земли, ибо повторение его оказалось невозможным. Один Гегель, немецкий клоп, хотел все примирить на философии.
Гусь вдруг вырвался из рук Петровны, замахал крыльями и затараторил:
– Личность – монада. Объединение монад – группа, объединение групп – толпа. Только через систему, в системе и для системы монада может стать всесторонней.
– А мы что доказывали? – в два голоса сказали Дятел и Смола.
– Все беды идут от раздвоения, от превращения личности в монаду, состоящую из частиц, – спокойно проговорил вошедший в комнату Волков.
– Это не совсем так, – ответил Гегель. – Сознание содержит в себе раздвоение. Говорят, правда, этого не должно быть. Однако свобода, которую вы здесь возвели в принцип, есть не что иное как раздвоение и рефлексия. Свобода состоит в том, чтобы человек мог выбирать между обеими противоположностями…
– Значит, свобода – это выбор? – спросил Кант. – Категорически не согласен. Свобода – это соблюдение предписаний, законности, моральных норм.
– Человек отвечает за себя сам, – пояснил Гегель. – Для него существуют границы лишь в той мере, в какой он их полагает. Это самоограничение человека и есть мера реальной его свободы. При этом совпадение человеческой склонности и закона – высшая добродетель!
– Вплотную подходит, – сказал я тихо Шарову, а Гегель между тем продолжал:
– Вы хотите непременно открывать новое. А напрасно. Вы лучше бы попытались возродить утерянные человеческие качества. В этом весь смысл философии, науки, жизни.
– Я за полную определенность, – говорил между тем Достоевский. – За бескомпромиссность нравственных норм. Неопределенность надо уничтожить, а не умиляться ею, иначе относительность деления и различий сама нас уничтожит. Я люблю жизнь во всей ее полноте. Люблю жизнь ради самой жизни. Люблю горячо и страстно и хочу, чтобы в ней победила красота. А что касается подпольности и ложного раздвоения, то это крайне своевременный вопрос. В прошлом веке эта проблема возникала на мучительной вершине человеческих страданий. Сейчас подпольность пала в самый низ человеческой жизни. Обратилась в фарс. Что получилось? Сейчас нечего прятать в подполье! Пусты тайники! Хранить нечего! Поэтому я поддерживаю мысль о том, что главной целью должно стать возрождение человечности, и на этой основе каждый может обрести свою целостность!
– Все не так! Все наизнанку! – шипел гусь. Шипел так неприлично, что Шаров был вынужден крикнуть Петровне:
– Убери ты эту птицу.
Я снова напрягся, пытаясь расслышать Достоевского, чье лицо снова выплыло из красных всполохов, прыгавших от взмахиваний гусиных крыльев.
– У нас много своих социальных вопросов, – раздавался голос русского мыслителя, – но совсем не в той форме и не про то. Во-первых, у нас совсем много нового и непохожего против Европы, а во-вторых, у нас есть древняя нравственная идея, которая, может быть, и восторжествует. Эта идея – еще издревле понятие свое имеет, что такое долг и честь и что такое настоящее равенство и братство на земле. На Западе жажда равенства была иная, потому что и господство было иное.
– Я не могу понять, какого направления вы придерживаетесь, – спросил Кант, обернувшись вдруг гусем.
– Я за то направление, за которое не дают чинов и наград, – резко ответил в сторону гуся Достоевский.
– Петровна! – крикнул Шаров. – Я же сказал: изжарить гуся!
– Да як же його изжаришь, колы цей гусь – людына? Бачите, и пиджак зеленый из-под пера, и галстук с рубашкою.
– А если не восторжествует? – это Спиноза робко спросил. – Если идея не восторжествует?
– Тогда рухнет все, – был ответ. – Тогда-то мы и встретимся с Европой, то есть разрешится вопрос: Христом ли спасется мир или совершенно противоположным началом, то есть – уничтожением земли, человечества.
– Значит, вы в системы не верите? А как же фурьеризм?
– Фурьеризм действительно очаровал меня вначале своей изящной стройностью, обольстил сердце той любовью к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он составлял свою систему. Фурьеризм – это наука. Но наука одна не созидает общество. Общество создается нравственными началами. И нравственные начала нельзя привнести в народ извне. Они заложены в нем, и важно их развивать и сохранять.
– Что же, и в этих экземплярах живут нравственные начала? – спросила гусиная голова, показывая на Шарова и Злыдня.
– А чого – я? – возмутился Злыдень, не понимая, по какому поводу он помянут и назван экземпляром.
– Тикай, Гришка, а то запышуть, як тоди в тридцать третьему твого батька записалы.
– А ну, гукнить повара, и хай зажарять наконец гуся! – возмутился Шаров.
– Представьте себе, и в них живут человеческие идеалы, – спокойно ответил Достоевский. – Вспомните Почечкина. Отношение к ребенку, к его слезинке – вот мера философской мудрости.
– При чем здесь слезинка? – спросил Гегель. – Чувства и наука несовместимы.
– У вас, господин Гегель, был друг, прекрасный поэт Гельдерлин. Ваша совесть чиста перед ним? – раздался голос.
– Он перестал быть моим другом, когда тяжело заболел, – нахмурился Гегель, помахивая руками, которые обернулись вдруг в гусиные лапы.
– Двадцать лет Гельдерлин ждал, когда вы его навестите, а у вас не было времени – вы писали свою систему, – гремел тот же голос.
– Для меня не существует человек, если его покинул великий Разум! – закричал Гегель.
– Значит, я так понимаю, одни ученые – люди, а неученых надо в землю закапывать, по-вашему, – возмутился Злыдень. – Не, так, товарищ господин, не пойдет дело!
Гусь замахал так яростно крыльями, что весь мой широкоформатный сон расплылся в красно-оранжевом тумане, в котором плавали лишь отдельные очертания Злыдня и Сашка. Ни Спинозы, ни Канта, ни даже гуся в комнате не было. Я едва не плакал во сне, пытаясь найти знакомые фигуры, с которыми должен был при этой жизни выяснить еще много важного для себя.
– Да чего ты хлопочешься? – насел на меня Сашко. – Зараз мы их найдем. Воны тут поховалысь.
Сашко раскрыл шкаф и стал выбрасывать на стол книги.
– Вот Кант, а вот той, насупленный, а вот Достоевский, тильки без кандалив.
– Так это же неживые, Саша, это же картинки.
– Ничего подобного, – ответило лицо с фотографии.
Я мучительно всматривался, пытаясь уловить тот момент, когда от фотографии отделится человек и выйдет из книжки. Уловить, чтобы на всю жизнь сохранить в памяти. Мне во сне казалось, что если этот момент будет упущен, я навсегда сам стану фотографией, вот такой мертвой картинкой, на какой сейчас были изображены Кант, Гегель и другие.
– Я такую мучительность испытывал перед припадками, – сказало ласковое лицо с фотографии. Очень мягко сказало. Так мягко, что потеплело у меня на душе.
– А мне говорили, что вы угрюмы и жестоки, – почему-то прошептал я, касаясь щекой его худой руки.
– Да, и такое плели, – сказал он, усаживаясь рядом. – Одни говорят, что я жесток, другие, мол, что – мягок, этакий одуванчик. А я человек крайностей, дитя сомнения и неверия. Вы ведь не поверите, что мой любимый герой – Базаров. Да, тургеневский Базаров, – рассмеялся он простодушно.
Я так и не заметил, когда он сошел с фотографии окончательно, руки убрал с колен и ноги вытянул во всю длину. Я нисколько, как отметил про себя, не огорчился тому, что не приметил этого ожидаемого мной момента отслоения живого человека от портрета, наоборот, обрадовался, точно разрядился облегчением от тяжелого бремени. К тому же последняя фраза о Базарове меня привела в сильное чувство, так как. импонировал мне этот славный и решительный человек.
– Вот видите, у вас чувства куда сильнее, чем одинокая, пустая мысль, пусть самая благородная. Теперь вы понимаете, почему одной логикой привести в движение человека невозможно.
Пришла Петровна с огромной сковородкой:
– Ось вам гусь жареный.
Злыдень раскрыл крышку и, обжигаясь, швырнул ее.
– Та шо ж ты, издеваться над нами вздумала! – закричал Злыдень, хватая сковородку, в которой вместо гуся оказалось два дырокола и стопка накладных на получение мною мягкого инвентаря, когда я с Манечкой на базу ездил.
– Ось вони, накладни! – радостно закричал Злыдень. – А вы казали, шо их потеряли. Зараз мы их подошьем в дело!
Я дернул Злыдня за конец фуфайки, чтобы он не мешал. Я торопился. Росло предчувствие, что мне обязательно вновь что-нибудь да помешает схватить главное из того, что говорит сошедший с фотографического снимка ласковый человек.
А он спокойно размял папироску и закурил.
– Нравственное чувство изначально, – твердо сказал он. – Только беззаветное чувство способно пробуждать Человека в человеке, именно поэтому нельзя навязывать и вдалбливать то, что принято называть нравственными нормами. И обнаружить в самом себе нравственную щедрость и испытывать от этого радость – это не так уж мало.
Снова красный всполох проплыл над нами, и в его переливах оказалось лицо Коли Почечкина.
– На земле есть только одно чудо, – продолжал Достоевский, – Это «живая сила», живое чувство бытия, без которого. д%и, одно общество жить не может, ни одна земля не стоит. Идея без нравственных чувств опасна. Она иной раз сваливается на человека как огромный камень и придавливает его наполовину, и вот он под ним корчится, а освободиться не может. Эти Гегели и Канты оказались придавленными своими идеями, а оказавшись без живого чувства бытия, превратились в мертвецов.
– Та шо вы все про мертвецов да еще про разни страхи, – сказал Злыдень. – Давайте лучше повечеряемо. Я ось и по-мидорок принис, и огиркив, и картошки моя Варька наварила, и груши в саду нарвав, и мед с пасеки.
«Вот противный Злыдень, так и не дал с человеком поговорить», – сказал я про себя.
– Что ж, я с удовольствием, – сказал мыслитель. – Знаете, я сластена, люблю груши с медом.
Золотисто-теплый мед с остатками вощины по краям, которые бережно вилкой выбрал Злыдень, наполнил комнату таким пьянящим ароматом трав, что стало до оскомины сладко во рту, жаром в лицо пахнуло, какая-то особым образом сбереженная сила пошла из этого золотого разлива.
– А знаете, какая у меня мысль была в день казни? – спокойно сказал собеседник, макая грушу в тарелку с медом. – Была какая-то великая радость от того, что я окажусь на каторге среди несчастных, измученных людей. Я думал; жизнь – везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть ЧЕЛОВЕКОМ между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не унывать и не пасть – вот в чем смысл и жизни, и счастья. Я осознал это, эта идея вошла в плоть и кровь мою. И вот тогда я поклялся сохранить надежду и дух мой и сердце в чистоте. А потом с такой же силой я ощутил эту живую силу жизни, когда в Тобольске смотритель острога устроил на своей квартире нам, ссыльным, тайное свидание с женами декабристов. За этот час свидания с великими страдалицами России я понял, что женщины – большая надежда человечества, что они еще послужат всей России в роковую минуту.
– Да, жинки наши, чого там говорить, – вздохнул Злыдень, наливая ароматный мед в тарелку из оранжевого глечика. – Моя Варька, а чи Каменюкина Оксана такого натерпелись, де там тим страдалицам.
Лицо Злыдня вдруг стало таким просветленным в этой неспешной занятости таким обыденным делом, как наливание меда, что я впервые почувствовал острую боль оттого, что я и к Злыдню, и к Коле Почечкину, и к матерям моих детей относился с высоты тех книжных идей, в которых утонуло мое нравственное чувство. Точнее, в идеях, в книгах я любил себя, а не людей. А еще точнее – свое понимание идеи, а не людей. Именно сейчас я остро захотел, чтобы здесь рядом были и Коля, и его мать с огромным шрамом – остался от удара топора ее несчастного мужа, и Славка Деревянко со своей больной мамой, и Шаров, и Петровна, чтобы все были здесь и видели то, как я радуюсь тому свету, который теперь шел от Григория (отчества я даже не знал) Злыдня. И лицо собеседника будто просветлело. И он сказал:








