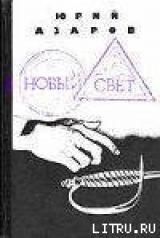
Текст книги "Новый свет"
Автор книги: Юрий Азаров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)
Юрий Петрович Азаров
Новый свет
ВО ИМЯ ГАРМОНИИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Еще недавно Юрий Азаров был широко известен прежде всего как крупный ученый, педагог-новатор, одним из первых бросивший вызов схоластике в нашей педагогике. Им проведены десятки исследований, посвященных проблемам педагогики гармонического развития личности, он автор многих монографий и публикаций в периодической печати.
Об одной из наиболее популярных, программных педагогических работ Ю. Азарова – «Книге о семейном воспитании» – писали: «Свобода и дисциплина неразделимы. Как и Бенджамин Спок, Азаров сумел понять связь между гуманизмом и необходимостью борьбы за справедливость во всемирном масштабе. Только счастье и любовь способны сформировать полноценную личность» (Эгар Джереме – «Канадиан трибюн», Торонто, 1984 г.); «Это лучшая из прочитанных мною книг, посвященных проблеме воспитания» (Гарс, Джон – «Дейли уорлд», Нью-Йорк, 1984 г.); «Если вы ищете книгу о воспитании ребенка, непохожую на множество других, можете считать, что вы ее уже нашли» (Томас П. – «Ньюс леттер», Лондон, 1984 г,).
И вот в последние несколько лет о Юрии Азарове заговорили как о крупном писателе. Известный педагог, академик Ш. Амонашвилй, отвечая на вопрос анкеты «Литературной газеты», что в первую очередь следовало бы прочитать в условиях острого дефицита времени, среди таких книг, как «Библия», «Витязь в тигровой шкуре», роман Булгакова «Мастер и Маргарита», назвал и роман «Печора». «Из трехсот романов, посвященных проблемам репрессий и реабилитаций, я бы в первую очередь после „Одного дня Ивана Денисовича“ напечатал бы „Печору“ Азарова», – говорил известный советский литературовед А. Кондратович.
Литературные произведения Ю. Азарова – итог сложной, напряженной жизни автора. В одном из своих интервью писатель признался: «Вся моя жизнь и все мои книги – это жестокая бесконечная борьба с авторитаризмом, а что касается моих романов, в частности „Соленги“, „Печоры“, „Нового Света“, то они выросли из отчаяния». По замечаниям некоторых критиков (Коробов, Лысенко и др.), романы Азарова разрушают сложившиеся стандарты социалистического реализма. Не случайно, когда в Институте философии Академии наук СССР проходила творческая дискуссия по нравственно-философским проблемам романов Ю. Азарова (1988 г.), возникли самые неожиданные аналогии: Достоевский, Камю, Кафка, Андрей Платонов с его «Котлованом». Для азаровского героя нет дилеммы – входить в котлован или нет. Он убежден: острая тоска по идеалу, по совершенству, по социальным преобразованиям и есть основа всех перестроек, всех духовных обновлений.
«Мои романы, – говорит писатель, – это попытка приблизиться к человеческой гармонии, понять себя в этом мире, это опыт возрождения культурно-нравственных традиций в целостном становлении человека».
Мучительные страдания героя, который столкнулся в этих богом проклятых гулаговских местах с незыблемой авторитарной системой, его учительская роль, диктующая любить детей охранников и детей ссыльных, создает сильнейшее напряжение в неокрепшей душе молодого учителя, в душе бедствующей, мытарствующей и все-таки побеждающей в себе такие пороки, как ложь, страх, гордыня, ненависть.
Те же чувства некогда пережил сам автор, отправившийся после окончания университета (1952 г.) учительствовать по доброй воле в ссыльные края страны, куда в тридцатые годы были сосланы его родственники и отец. Отсюда особая проникновенность и убедительность, которые характерны для произведений Ю. Азарова.
«Печора» – самый пронзительный и самый актуальный роман писателя. Остро звучит в нем главный вопрос, решаемый ныне советским обществом: как освободиться от тягостного наследия прошлого.
«Печора» – трагический роман, хотя, казалось бы, в нем описываются радостные события, 1954 год. Общество накануне больших перемен. После смерти Сталина и Берии началась реабилитация политических заключенных. Но, оказывается, что отречься от сталинизма легко лишь на словах. Практически же очень непросто, ибо, как поясняет автор, «он в наших душах, в способах чувствования, общения… Мы пригвождены к дорогам, уводящим нас от храмов. Пытаясь сорвать свое тело с крестов, мы оставляем на гвоздях окровавленные лоскуты своих душ – а это боль адская».
В книге сложно переплелись судьбы детей осужденных и детей тюремщиков – жертв и палачей, представителей разных возрастов и социальных групп, оказавшихся в 1954 году в центре, в своего рода «Северной столице» того края, который Солженицын назвал «архипелагом ГУЛАГом».
Герой произведения – учитель Попов – мучительно ищет собственный путь к истине в экстремальных условиях тех лет, пытаясь бороться с человеческими пороками – ложью, страхом, компромиссами – прежде всего в себе самом. «Я верую и созидаю, – говорит о себе Попов. – Я укрепляю веру в других. Смягчаю нравы и обстоятельства. Пытаюсь сделать их более человечными… Во мне живет и мною движет страстная сила единения с другими. Она и является главной пружиной моего бытия… Я живу, потому что пьян жизнью, потому что все удивительно и все хочется узнать. Если мои желания и моя воля к жизни – обман, тогда нет истины, тогда нет красоты, нет жизни».
Роман остросюжетный, насыщен интригующими, драматическими событиями. Но основной трагизм перенесен в духовный пласт. Там, в душах героев, происходят убийства и предательства, реабилитация либо утрата ценностей, обретаются или окончательно гасятся Любовь и Красота – главные составляющие Гармонии и Обновления. Попов – максималист, избравший критерием всех поступков, мыслей и стремлений (и прежде всего собственных) служение духовному возрождению человечества. В этом он видит цель и смысл социальных перемен.
Для Попова каждый ребенок – личность. Он будит в учениках стремление мыслить самостоятельно, аналитически относиться к окружающему, не воспринимать слепо сложившиеся стереотипы мышления и взаимоотношений между людьми. «Самое ценное образование, – внушает он школьникам, – это то, какое сам человек добывает без подсказки извне».
Попов убежден, что в каждом человеке живёт художник – каким бы непритязательным с виду он ни казался. И какими бы пороками ни был отмечен человек – в глубине души его непременно есть доброе начало. И если вы по-настоящему верите в это и очень хотите достичь желаемого, то обязательно дойдете до того здорового пласта в человеке, который преобразит его в ваших глазах. Но надо очень верить в это и проявить немало выдержки, невзирая на то, что тот человек мог поначалу вызывать у вас неприязнь, а то и вовсе выразил по отношению к вам недружелюбные действия. Только щедростью вашей души можно вызвать в нем добрый отклик. Напротив, ответное зло с вашей стороны лишь усилит недобрые свойства знакомого вам человека.
Особенно показателен пример с Черновым-младшим, Казалось, это достойный сын своего отца – жестокого тюремного охранника, преследовавшего с собаками людей, пытавшихся бежать из заключения. Провожавший всякий раз отца на «задания» Валерий невольно заражался этим человеконенавистническим азартом, который проявлялся у него во взаимоотношениях с приятелями, за что они мстили ему ответной неприязнью. Единственное, что растопило зачерствевшее сердце подростка – это убийство его любимой собаки Франца. Но, оплакивая гибель овчарки, обученной охотиться на людей, Валерий еще более озлобился, на всех. Быть может, он вырос бы человеконенавистником, а возможно даже, вступил бы на преступный путь (вспомним его мстительный выстрел в лодку, в которой находился Попов, в результате чего тот едва не утонул), если бы не душевное тепло и терпеливое внимание к нему Владимира Петровича. И вот спустя много лет проявленная педагогом чуткость получила благодарный отклик: Валерий не только не ожесточился, не пошел по стопам отца – он становится воспитателем подростков-правонарушителей, подражая во всем, бывшему своему учителю.
Попов, воспитывает в своих подопечных чувство сострадания с несчастным и обездоленным людям. В тот период, когда происходили события романа, это не было официально поощряемым делом – ведь сострадание нередко считалось тогда «буржуазной категорией». А призыв Владимира Петровича к ученикам: «Хорошее чувство надо выстрадать. Каждый человек должен пройти через свою собственную боль» – выглядело в глазах большинства его коллег чуть ли не капитуляцией перед христианской моралью. Поэтому позиция Попова требовала от него не только педагогической принципиальности и последовательности, но и человеческого мужества.
Учитель Попов – герой трех нравственно-философских романов писателя: «Соленга», «Печора», «Новый Свет». Это бунтарь и созидатель. Стремясь к истине, он спорит со всем миром, с философией Запада и Востока, с учениками, с различными сторонами своего «я», с государством, с будущим. Он взвалил на себя, казалось бы, непосильную ношу и несет ее, не жалуясь, хотя и не скрывает, насколько она тяжела. Однако иначе он не мыслит своего существования, ибо ноша эта для него одновременно и мучительна и радостна. Такой образ мыслей и поведения героя исходит из существа его натуры. С ним соседствуют образы Аввакума и Савонаролы, Прометея и Сизифа. Одна из рецензий на романы Ю. Азарова так и называлась: «Сизиф или Прометей?» В ней было отмечено: «Отечественная литература такого героя – деятельного в наиболее тонкой сфере, нравственной, – не знает, не показала… Попов – тот самый новый человек, о котором все говорят и которого ждут, да не ведают, где он и откуда придет. И потому, может быть, не замечают, когда он оказывается рядом, а если и замечают, то лишь по той причине, что он мешает» («Учительская газета», 09.07.88).
«Я разделяю позиции моего героя, – подчеркивает Юрий Азаров. – Ни духовный реваншизм, ни отмщение, ни покаяние с осквернением праха не приведут к желаемой революции в душе каждого из нас. Альтернатива здесь одна: либо мы очистимся и спасем свои души и души наших детей, спасем то, что именуется Идеалом, либо мы погубим себя и дадим повториться истории, может быть, в виде фарса».
Само время в произведениях Ю. Азарова преодолевает монологичность всюду: действительность многоголоса, полифонична. Например, на страницах «Печоры» в спор вступают Фурье и Оуэн, Спиноза и Кант, Макиавелли и Рафаэль, Гегель и Достоевский, Бердяев и Камю…
Не случайно в газете «Московские новости» (04.10.87) Попов назван фигурой «вселенского масштаба», а его учение – «евангелием от учителя».
Свою педагогику Азаров-Попов называет педагогикой гармонического развития. Ее повороты в романах столь интересны и сложны, противоречивы и причудливы, они так пластично соединяются с социальными проблемами, что, читая произведения Ю. Азарова, невольно проникаешься его педагогической верой.
Азаров убеждает нас, что повышенный интерес к истории Родины – это стремление наших современников лучше осмыслить сегодняшние события, ибо нынешние социальные процессы трудно понять, не внимая голосам прошлого. Да и себя самих, как говорит юная героиня «Печоры» Света Шафранова, понять легче, – «понять и представить свою жизнь как частицу всего исторического развития».
Заложенные в романе-трилогии авторские концепции находят дальнейшее, более углубленное выражение в новых произведениях Юрия Азарова.
Только что в издательстве «Молодая гвардия» вышел роман «Не подняться тебе, старик» – о кризисе отечественной духовной культуры, о сложнейших путях формирования полноценной человеческой личности, о проблемах педагогики, о семейном и школьном воспитании. В издательстве «Советский писатель» готовится к печати роман «Групповые люди», где развитие нравственно-философских идей прослеживается в сложной обстановке фракционной борьбы и репрессий 20-30-х годов.
Итак, Азаров-педагог и Азаров-писатель продолжают свою напряженную двувдиную жизнь во имя духовного оздоровления человечества, во имя торжества Гармонии и Обновления во взаимосвязях между людьми и в их взаимоотношениях с миром Природы.
ВИКТОР МЕНЬШИКОВ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
На горячую бантовскую землю я ступил через два дня. На грузовой машине приехали: мама в кабине, а я наверху. За трехстворчатым шифоньером присматривал: шатало этакую громадину на ухабах. Оттого, наверное, и плясали полированные ореховые узоры, чем и воспользовалось мое воображение: выхватило из этих узоров трех мушкетеров – шляпы заломлены, бородки на конус, глаза лучистые из сучков, будто подмигивают. И настроение у меня самое что ни на есть д'артаньяновское: рыцарские доспехи на себе ощущаю, нетерпение белым конем обернулось, и потому вся моя сущность неудержимо мчится к осуществлению давней мечты…
А шифоньер купили по пути, чтобы машину полностью загрузить, чтобы наше богатство в сторону наращивания шло, а не пустого растрынькивания, как мама говорит.
Перед самым Новым Светом, так деревня называлась, где замок бантовский стоял, одно колесо машины провалилось: настил на мосту через речушку Сушь совсем прогнил. Вышли мы из машины. Воды и в помине нет: все пересохло, а дно в трещинах гладких, ил от пыли побелел, кот в теплоте иловой греется, куры хозяйские (на горе – дома) важно похаживают, глядят на нас с удивлением – и куда вас, дураков, занесло? Шофер под мост швырнул фуфайку, что на сидении была, и тут же захрапел, отчего куры в негодовании застучали клювами. А знойность плыла по старому руслу и терялась там, где вода поблескивала в отдалении.
Мама платочек свой развязывает – вспотела от жары, успокаивает меня: что поделаешь. А я иду в замок, который тоже на горе, на окраине, слышу, как трактор фыркает там.
Продираюсь сквозь могучий бурьян: душистое тепло в нем накопилось, шмели летают, мухи коричневые на мою жаркую потность кидаются и так больно жалят, что ознобом все тело берется, а бурьян могучий не кончается, и глазом неба не достать, потому что бурьян выше роста человеческого, и конца и края ему нет.
На горе, откуда тракторный звук шел, стояло двое: один в майке, в тапочках домашних на босу ногу, в штанах цвета того ила, что под мостом был; другой в ватнике, в сапогах резиновых, в шапке-ушанке, с поясом широким, на котором болтались кошки, с какими на столбы забираются.
– У вас тут трактор?
– Каменюка, – сказал тот, что в майке, и руку мне подал.
– Владимир Петрович, – ответил я. – Попов.
– А это Злыдень Гришка, электрик наш. Так вы чем интересуетесь? – спросил Каменюка.
– Трактор нужен, – сказал я.
– Нэма трактора у нас.
– А там что тарахтит?
– А это жестка.
– Что?
– Ну, дизель. А вы по какому вопросу здесь? Заготовитель, може: так у нас и яички есть, и семечки есть, вот шерсти нет, совсем шерсти нет, – и он снял тюбетейку, показывая лысый череп.
– Нет, я исполняющий обязанности до приезда директора. Школу-интернат в этом месте расположим. Вот меня первого сюда и прислали.
– Это как же интернат? А казалы, що музей будет и церкву восстановять. Чуешь, Гришка, интернат таки, – обратился он к приятелю. – А мы думали, музей или как до войны – дом отдыха будет здесь, буфет, пиво в бочках, музыка грае, парочки гуляють.
– И народ на работу оформлять будете? – спросил Гришка.
– Привез я штатное расписание.
Каменюка тут встрепенулся и к Злыдню:
– Опять заглох, скотыняка! А ну глянь, Гришка.
Мотор действительно заглох, и тишина поплыла знойная: остановился мир, даже мухи крыльями не шелестели в покое жарком.
– Та хиба на таки ставки хто пойдет работать? – сказал Каменюка, разглядывая штатное расписание.
– А для чего здесь дизель? – спросил я.
– Воду качаем, – сказал Каменюка.
– А вода для чего?
– Как вода для чего? – удивился Каменюка.
– Ну, может, поливать что?
– Не, поливать нечего. Это раньше тут и сад был, и помидоры, и капуста, и огурчики нежинские. А зараз один бурьян да дизель этот тарахтит.
– А для чего дизель?
– Я же сказал: воду качать.
– А вода для чего?
– Чтоб дизель работал. Мы по сменам тут, на подсобном хозяйстве, а Гришка по электричеству весь…
– А провода оборваны на столбах, – сказал я.
– Так электричества нэма в селе. Еще очередь не подошла наша. Може, дизель приспособим как-то, тогда свет будет. Как до войны: фонари горят, парочки гуляют, музыка играет, пиво в бочках холодное.
Из бурьяна между тем вышла фигура в черном. Гигант нес шпалу под мышкой с такой легкостью, будто она была полая внутри.
– А это сменщик мой идет, Иван Давыдович. Иван, по местной кличке «Десь щось вкрасты», хмурый великан, подошел к нам и, прислонив шпалу к бедру, пояснил:
– Меняют шпалы, бетонные кладуть, а деревянные в сторону…
– Трактор нужен, машину вытащить, – сказал я пришедшему.
Помотал головой Иван Давыдович:
– Нэма трактора.
– Нэма трактора, – повторил Каменюка. – Кони вечером будут, а трактора нэма.
– А как же машину вытащить? Застряла на мосту.
– Глянуть надо, – сказал Каменюка, усаживаясь в тень. Мотор снова затарахтел, и Гришка Злыдень подошел к нам.
– Глянуть надо, – подтвердил Гришка, приседая рядом с Каменюкой.
Я вытащил несколько бумажек.
– Это вы зря, – сказал Каменюка.
– Спрячьте гроши, – оскорбился Злыдень.
– Ходим, – сказал Иван Давыдович, отрывая шпалу от земли.
Шофер спал. Мама сидела в тени. Несколько мальчишек деревенских крутились у колеса, провалившегося в дырку.
– Не, не вытягнуть, – сделал заключение Каменюка.
– Краном бы сверху, – сказал Гришка. Шофер проснулся, набросился на Каменюку:
– Вам бы головы поотрывать за такие мосты! Руки у вас поотсыхали! Полна деревня мужиков, мост не можете починить!
– А на черта мени здався цей мост! – отвечал Каменюка. – Шо я тоби, заведующий цього переезда? Кто вообще тебя просил на мост ехать? Мост для виду, можно сказать. Это вроде бы как памятник старины, черт патлатый!
– Сам ты памятник старины. В музей тебя надо давно уже сдать!
– Ума у тебя нет, – отвечал Каменюка. – Этот мост и есть как раз музейная редкость. Очи у тебя повылазили: не бачишь, де проезжая часть, – и Каменюка указал на следы.
Пока перебранивались шофер с Каменюкой, Иван Давыдович подошел к колесу, клешнями борт машины своими подцепил, дрогнула машина, шифоньер трехстворчатый зашатался наверху.
– А ну подсобить, хлопцы! – крикнул натужно Иван Давыдович.
Облепили мы борт машины, приподнялась она и покатилась, набирая скорость, так что шофер едва успел вскочить в нее.
От бумажек моих снова отказались. И Каменюка отказался, и Злыдень отказался, и Иван Давыдович отказался. Последний стоял уже со шпалой под мышкой, и рядом с ним – его сослуживцы, и лица у них светились добрым светом: дело сделали.
Я обошел с Каменюкой огромную территорию, и он рассказал мне, что главное здание усадьбы построено по проекту архитектора из Петербурга.
– Не то Расстрельный, не то Расстрельнов, – добавил он. – Та их усих писля революции постреляли. А теперь, кажуть, закон выйшов, шоб охранять и восстанавливать все.
Мы вернулись. Мама беседовала с Иваном Давидовичем.
Удивительная способность моей мамы с любым народом общий язык находить. Я прислушался. Она рассказывала о том, как на Севере мы жили, какое молоко там кусками тарелочными продают, на каких оленях ездят. Не преминула сообщить и о том, какая холодина по утрам была в нашей единственной комнате в общей квартире: на одной стенке градусник показывал не выше пяти, а на другой восемь, а все равно можно было жить, рассуждала моя говорливая мама. Я посмотрел на нее строго: не любил я разговоров про бедность нашу. Мир всегда казался мне прекрасным, и я в этом мире ощущал себя бесконечно богатым: жил не иначе как в хрустальных дворцах, где на каждой стенке было не ниже двадцати градусов, а может быть, и вообще никаких стенок в этих дворцах не было, а был один струящийся свет. Так вот, посмотрел я на маму сурово, она ответила мне веселым взглядом: «Не боюсь тебя», а потом растерянно улыбнулась и вздохнула тяжело:
– Везде жить можно, где люди есть.
Я потом побывал в домах Каменюки, Иван Давыдовича, Гришки Злыдня: хоромы. Впрочем, мне и мое новое жилье казалось тогда необыкновенным. Рядом с гаражом в полуразваленных конюшнях Бантова сохранилось что-то почти жилое, напоминающее флигель. Вместо стекол – толстое рубленое железо. Красоты маловато, конечно, но зато защитность надежная. Была в комнатушке и печка, глина на ней потрескалась, кое-где отвалилась, но Каменюка о добротности очага сказал потом, что сам его сложил вместе с Гришкой Злыднем.
Освободили мы комнатку от разной всячины: лопаты и грабли вынесли наружу, цемент оттащить помог Иван Давыдович в мешках бумажных, мама мусор вынесла, пол вымыли и даже две кровати нашли и стол с фанерой облупившейся. Только шифоньер не влезал никак ни в узкие двери, ни в окна так и стоял, клеенкой накрытый, под небом.
В комнате мама половички расстелила, скатерть на стол набросила, занавески и ковер повесили, а еще я забил прямо сквозь ковер два гвоздя, на один повесил ружье, а на другой шпагу, призовое мое оружие, – награда и за личное участие в соревнованиях, и за тренерскую работу.
– А шо це за сабля у вас? – полюбопытствовал Злыдень.
– У всех дети как дети, а мой фехтованием занимается, – ответила мама.
Мы ужинаем, и Каменюка с нами ужинает, и Гришка Злыдень, только Иван Давыдович со шпалой под мышкой ушел: хозяйка ждет.
– Куркуль, – сказал ему вслед Каменюка.
– Дэсь щось вкрасты, – сказал Злыдень осуждающе. – Бачилы, як мишок с цементом в бурьяны кынув?
– А мне нравится Иван Давыдович, – сказала мама.
– А ничего мужик, – ответил Каменюка.
– Мужик что надо, – заметил Злыдень.
– Ну и силища! – поддержал я разговор.
– А шо тому бугаю зробыться? – заключил Каменюка. – Это от у Гришки радикулит – ни встать, ни сесть…
– Потому и в ватнике? – спросил я.
– Ох и радикулит! – ответил Злыдень.
– Ну и что, вправду здесь что получится с интернатом этим? – спросил Каменюка, которому надоело про Гришкин радикулит слушать.
– Приказ есть школы будущего строить, – ответил я.
– У бурьяни прямо? – съехидничал Каменюка.
– Вырвем бурьян. Завтра же начнем рвать, – сказал я.
– Да-да, – улыбнулась мама, обращаясь к Каменюке. – У моего сына фантазии в голове.
– Фантазии – это хорошо, – отметил Каменюка и добавил: – Кажуть, в интернаты одну хулиганью сдают. Как же их, паразитов, тут удержать можно будет?
– Не удержать, – подтвердил Злыдень. – Посбигают.
Каменюка наслаждался тем, что одержал верх в только что родившемся споре: и Злыдень, и мама были на его стороне. И я понимал, что настал момент, когда я должен обнажить шпагу, должен заиграть своими педагогическими доспехами.
– Вот в этих книгах, – сказал я, вытаскивая из ящика Оуэна, Фурье, Песталоцци, Макаренко, – научно доказано, что многие беды происходят оттого, что воспитание строится на паразитической основе. Фурье, например, говорит, что на первом месте стоят домашние паразиты: женщины и дети.
– Так и написано? – спросил Злыдень.
Я показал ему книгу.
– И правда, Петро! – закричал Злыдень. – Я своей Варьке и детворе всегда говорил: «Паразиты!»
– Ну яка ж Варька твоя паразитка? – спросил Каменюка. – И у колхози работает, и по дому как сатана крутится.
– Шо правда, то правда – крутится, паразитка.
– А от детвора отучилась от труда. Отвыкла. Лупить их, барбосив, надо. По печенкам бить, тогда и порядок будет. Или каким другим путем надо идти? – спросил у меня Каменюка.
– Определенно другим, – сказал я совсем уверенно.
– А як? – спросил Злыдень.
– А так, что все дети начиная с первого класса будут участвовать в производительном труде, заниматься искусством, спортом, овладеют разными ремеслами…
Я разошелся. Сыпал цитатами и терминами: гармоническое развитие, хозрасчет, миллионный доход, сельский труд и настоящее производство.
– Производство? – удивился Злыдень.
– Может быть, завод, а может быть, фабрика.
– И шо Омелькин скажет на это? – спросил Каменюка, показывая всем, что знаком с Георгием Ивановичем Омелькиным – начальником учебных заведений железной дороги.
– Омелькин дал нам задание разработать проект соединения труда с учением и искусством, – ответил я важно.
– Ну-ну, – сказал Каменюка, подымаясь из-за стола.
Я проводил моих новых знакомых.
Обворожительная теплая ночь плыла над Новым Светом. Бурьян стоял не шелохнувшись. Черная фигура в нем затерялась: это Иван Давыдович уносил под мышкой мешок с цементом, припрятанный в густой траве.








