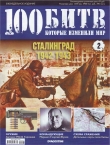Текст книги "Далеко на севере"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Четверг
Весна. Как подробно я раньше писала обо всем, и как мало я пишу сейчас.
Весна. Я уезжаю отсюда. Я еду учиться. Как странно писать такое слово: «учиться». Разве могла я себе представить в начале войны, что я буду учиться?
А сейчас я еду учиться.
Весь вчерашний вечер и ходила по нашим землянкам и четыре раза пила чай в гостях: у Гибрцевой, у Аси, у Анны Марковны (с шоколадом) и еще в двух местах.
И провожали меня до полуторки совсем так же, как маму Флеровскую. Дольше всех расстроен Шурик.
И Тася тоже плачет.
А на развилке нашу полуторку остановил один человек. Милый, милый один человек… Хоть мы и условились, что вы будете поджидать меня на развилке, но все-таки я ужасно волновалась, пока не увидела вас возле нашей машины.
Теперь, после всех приключений, я и не помню, о чем мы говорили тогда. Но о чем-то говорили и поцеловались даже на глазах у изумленных зрителей и поклялись шепотом… Потом мы расстались.
Потом меня бросили в низинке у железнодорожного полотна. Потом я поехала на летучке и о ней хочу немного сказать.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЕТУЧКЕ
Запишу, как мы чуть не попали в плен к финнам, и какие мы герон. Прямо-таки герон мон девчонки, молодцы девочки.
Летучка – это такой санитарный поезд, маленький и быстрый. Он должен всюду поспеть, везде побывать, всех раненых увезти, и все очень быстро. Вот случилось мне попасть в такую летучку. Раненых много, персонала мало. Прямо мы на части разрывались. И довольно темновато в вагонах, ступить некуда, раненые пить хотят, у одного повязка совсем промокла, другого перевернуть надо, вообще хлопот полон рот. Заправляла всеми нами сестра по фамилии Петрова, маленькая, беленькая, немножко шепелявая, энергичная. И младшие сестры Делябова и Холявина. И еще сестра Азарова. Все работали без устали, кроме начальника военврача, который был какой-то больной: его тошнило, он мерил температуру и не очень проявлял себя как начальник. А потом ему стало совсем плохо.
Вот едем, все идет нормально, поезд наш постукивает по рельсам, некоторые раненые угрелись, уснули, другие разговаривают понемножку, вообще летучка как летучка.
Вдруг тормозим, и так внезапно, что я едва не разбила лицо о стенку вагона.
И как-то сразу почувствовала неладное. И раненые забеспокон лись. Что такое?
Я к двери. Там уже Петрова. Спрашивает меня:
– Что слупилось?
В это время как засвистят пули. Мы назад в тамбур, Я говорю: «Ложитесь, Петрова».
Дальше не помню, как было но порядку. Только вижу, стреляют по вагонам по нашим, стекла летят, щепки, пыль, Потом взрыв, один, второй. Сильные довольно взрывы. И совсем темно стало. Лейтенант в темноте рядом со мной ругается:
– Сестра, – говорит, – меня в руку ранило. Что за безобразие!
И не пойму, шутит или серьезно.
Мне то, конечно, самой страшновато. Не хочется в плен попасть, я наслышалась, каково у них там. И думаю, смогу застрелиться или нет? Вот глупости-то. Папу вспомнила, всех вспомнила.
Такие воспоминания печальные, просто плакать захотелось. Неужели, думаю, умирать? Капитан Храмцов, где вы! Вы бы не испугались!
И слышу, как мой лейтенант говорит сердитым голосом:
– Вот что, сестра, запомните: спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. Тут доброго дяди нет. Быстро на разведку. Я бы с вами пошел, да у меня ноги в гипсе, ничего не выйдет.
А финны слева как дадут еще очередь, как дадут, И такая меня злоба вдруг взяла, такая страшная злоба. Ах, думаю, гадины, видят же, что тут раненые, видят, какой тут поезд. Ну, ладно, думаю, попадешься мне, негодяй, я с тобой поговорю… Вдруг Петрова говорит:
– Девушка, я сейчас лазала, смотрела. Финнов много, но все они с левой стороны, а тут справа обрыв крутой, там никого нет. И вообще все это пустяки, раненые, не волнуйтесь, я перед вами за все отвечаю, ведите себя, как подобает бойцам Красной Армии.
И голосок у нее тоненький, шепелявит. Сейчас вспомнить смешно, а тогда было не до смеха.
Сестра Азарова ей отвечает, что надо послать санитара Григорьева в разведку.
– Есть, в разведку, – говорит Григорьев и уходит.
Пока он ходит, нас опять обстреляли. Еще двон х второй раз ранило. Бандиты! Вот пишу, и сердце колотится.
Один артиллерист умер у меня на руках. Я его голову держу на коленях, и руки у меня вдруг все мокрые сделались от крови. И что-то он шепчет быстро так, быстро…
Вернулся Григорьев, рассказал, что они подорвали паровоз и тендер, что теперь все тихо, но, пожалуй, вернутся.
Посовещались я решили пешком пробираться к станции за помощью.
Одни пошли, другие остались, Я тоже осталась. Вот это было жутко, ожидание это: придут за нами наши или финны придут.
Но финны не пришли. Попались, наверное, где-то влопались. А наши пришли. Тут некоторые девчонки даже поплакали.
Вот какие бывают стечения обстоятельств странные.
Иду я но улице и вижу – трое красноармейцев ведут двух пленных. Финны. Оба в куртках, и лыжных сапогах, носки шерстяные вывернуты наружу, на одном маленький картузик, на другом фетровая шляпа. Оба малорослые. Идут, моргают, Я сзади спрашиваю:
– Откуда их ведете, товарищи бойцы?
– Мы, товарищ медик, справок не даем, обратитесь в справочное бюро.
Конечно, глупо спрашивать, но ужасно мне было интересно, не те ли это финны, которые напали на наш поезд. Иду сзади, не отстаю. И поглядываю на бойцов. Обогнала их, смотрю на того, который спереди, и сразу узнала. Говорю ему пароль:
– В шесть часов после победы в Ленинграде, под аркой Главного штаба…
Он смеется и отвечает:
– Только не опаздывать! Я не люблю, когда после войны опаздывают. Здравствуйте, Наташа, – Товарищи его на нас поглядывают, а он им говорит: – Она меня с поля боя вытащила, честное слово, хлопцы, самолично на себе принесла.
Короче, рассказала я бойцам, что думаю по поводу этих финнов. Мой крестник Пилинчук отвечает:
– А вы идите за нами. Приведем куда надо, доложим кому надо.
Вот привели, я жду-пожду. Финны переминаются с ноги на ногу, поглядывают на меня, чем-то я им не нравлюсь. Потом меня позвали, минут через пятнадцать после того, как их опросили. Я вхожу. Так говорят и так. Майор стал с ними по-фински говорить. А они все на меня поглядывают, особенно один, с подстриженными беленькими усиками. Потом говорит:
– Я понимаю по-русски. Я слышал, как эта девушка говорила, что мы обстреляли раненых. Я хочу объяснить – это неправда.
Очень я его беспокоила.
Но с майором шутки оказались плохи. Посмотрел на финна, вздохнул и говорит:
– Первое мое условие – не врать. Вам же будет хуже. Запомните, не сегодня, так завтра мы переловим всю пашу группу и, несомненно будем знать все.
Финн молчит.
Потом тихонько и осторожно заявляет:
– Говорить все – это изменить Суоми.
– Да? А по-моему, вы изменили Суоми еще тогда, когда ввязались в эту войну. Вот когда вы изменили родине. Отвечайте, участвовали вы в налете на санитарный поезд?
Молчание. Финны переглядываются. Майор спрашивает что-то у второго по-фински.
И тот вдруг утвердительно кивает.
Вопрос: Вы видели международные знаки Красного Креста на вагонах?
Ответ: Видели, господин офицер.
Вопрос: Вы понимали, что расстреливаете раненых?
Ответ: У нас было приказание.
Вопрос: Чье приказание?
От в от: Господина обер-лейтенанта.
Я молчу и смотрю на финнов. Сердце мое тяжело колотится. Мне даже трудно дышать. Я вспоминаю всю ту ночь. Я почти не могу сидеть. И я все-таки ничего не понимаю. Я не понимаю, как это могло случиться. Я вижу, ясно вижу, как эти люди, которые сидят сейчас передо мною, как они там, в поле, в снегу, спокойно стояли и били из своих автоматов по нашему поезду, как они переговаривались, может быть, даже пересмеивались. Я больше не могу на них смотреть.
Потом мы сидим с майором вдвоем. Он курит самокрутку и молчит. Я тоже молчу. В комнате тепло, в печке трещат дрова. Майор долго шарит в своем столе и кладет передо мною маленькое, сморщенное яблочко.
– Пожуй, девушка, – говорит он, сдувая с яблока табачные крошки, – пожуй, не расстраивайся. Злее будешь теперь, посмотрела своими глазами, каковы «молодцы».
Я ухожу от майора. Мне тошно.
И все у меня перед глазами лицо финна, востроносенькое, приклеенные его усишки, блеклые глаза. И голос его я слышу до сих пор, старательный голос человека, которому угрожает смерть.
Мне еще раз попадается мой крестник Пилипчук, Он стоит на улице, в шинели, туго подпоясанный ремнем, красный, и протягивает мне фунтик с конфетами.
– Бери, бери, товарищ Наташа, – говорит он, – кушай на здоровье.
Фунтик небольшой, такие фунтики с конфетами вешают на елку.
Это подарочный фунтик. Пилипчук, видимо, получил подарок из тыла и подарил мне.
Мне нечего ему сказать. Я готова заплакать, и мне кажется, что и майор, и Пилипчук утешают меня яблочком и конфетами, утешают за только что увиденную мною подлость.
ПУТЕШЕСТВИЕ К СТАРЧАКОВУ
Поезд идет на север. Наташа Говорова едет учиться. Довольно Наташе быть санитаркой. Она может научиться быть сестрой, медсестрой военного времени. Да-с!
И настроение у меня хорошее.
За эти дни я много повидала, я проехала от передовой по грунту, побывала в полевом госпитале, увидела обогревательно-питательные пункты, санитарный поезд, летучку, увидела транспортный самолет, в котором перевозят раненых в тыл, увидела армейский госпиталь. И в первый раз за все время войны я поняла, какое сложное, огромное, разветвленное дело нашей санитарной службы, как трудно было все это наладить в нашем краю, где валуны, сопки, быстрые речки, озера, болота.
Поезд мчит меня в тыл, которого я не знаю. В кармане у меня командировочное предписание, литер, аттестат. Передо мною на полке разложен сухой паек, который я в данную минуту ем: омуль соленый, сахар в бумажке и хлеб ржаной. Один мой спутник заглянул ко мне на полку и сказал, что так могут есть только девушки. А чего особенного: посыпаю хлеб сахарным песком и закусываю соленым омулем. Очень вкусно!
Омуль соленый завернут в газету. В газете написано, что боец Иванов Григорий был ранен дважды, вернулся в строй и теперь стал известным по всему фронту снайпером. Не без удовольствия я разглядываю лицо Иванова Григория. Знакомое лицо, хорошо знакомое. На груди у вас, товарищ Иванов Григорий, не было тогда орденов…
А помните, товарищ Иванов, как некто Наташа потянула неловко марлю у вас на ноге, на ране, и как вы в сердцах обозвали Наташу «дубовой коровой»? Это все-таки немного обидно для девушки моих лет: корова, да еще дубовая. И как вы извинялись потом перед вышеозначенной «коровой»? Помните?
Спасибо вам за ваше письмо, мне было приятно прочитать его и узнать, что вы уже младший лейтенант, и что в городе Свердловске у вас родилась дочка, которую вы назвали Наташей.
Вывший студент-химик Володя Парабош, помните, как вы стеснялись, что у нас грязные ноги? Все-таки очень хорошо, что я вам сияла тогда сапог – невеселый вид был у вашей ноги. А военврача Русакова вы помните, Володя Барабош? Это его руки возвратили вам здоровье, это его искусство полностью вернуло вас к жизни, и вот вы уже командуете батальоном, и у вас такой же орден, как у военврача Русакова. Поздравить вас от его имени?
Поздравляю.
А его от имени Володи Барабоша? Тоже поздравляю.
Сержант Фоменко? Военинженер Духовкин? Лейтенант Разуванко?
Что передать от вас военврачу маме Флеровской? Военврачу Русакову? Операционной сестре Анне Марковне? Санитарке Тасе? Санитарке Наташе? Санитарке Варе?
А наш договор не забыли: в шесть часов после победы и Ленинграде, под аркой Главного штаба?
Боец Кулибаба Евграф, помните, как вы лежали у нас в медсанбате, тихий, бледный, грустный, как мы вас оперировали и как затем я встретила вас в колонне войск, шедших на фронт? У вас размоталась обмотка, когда я вас увидела, а вы так и шагнули ко мне с размотавшейся обмоткой, шагнули и закричали:
– Здорово, Наташа! Здорово, сестрица!..
А какое вы нам письмо написали, как поразили нас всех своими знаниями анатомии: «Рана в области „фибули“ загранулировалась, и рана на тибен тоже закрывается».
…Они проходят передо мною – все наши раненые, я вижу их лица, их голоса, взгляды, жесты, помню, как они стонали, когда им было плохо, и как постепенно в землянках возникал смех, слышались шутки, а то вдруг кто-то запоет пли замурлычет песенку… А как вдруг они просили есть, курить, разрешения встать, выйти на воздух… Товарищ Иванов Григорий, помните, как захотелось вам поколоть дрова, и как вы попросили у меня разрешения поработать по хозяйству?
Я вас помню и никогда ничего не забуду.
Когда навстречу мне, или Тасе, или Варе, или Капе идут красноармейцы, мы всегда всматриваемся в их лица, ищем знакомых, и найти знакомого, шагающего с песней в строю, это наша первая, лучшая, высшая награда – вспомнить и сравнить, чем он был и кем стал. Мы помашем вслед рукой, громко окликнем по фамилии или просто по имени – вот и все, больше ничего не надо.
Папа мой дорогой, а что, если я влюбилась?
Папа, ты бы сам в него влюбился!
Один мой знакомый, где вы? Война нас познакомила, и война нас разлучила.
Может быть, вы в бою? И что в вас такого особенного, объясните мне, наконец? Жили вы в Сибири, преподавали математику, ходили на охоту, читали разные книжки. Ну я-то тут при чем? А теперь я должна за вас беспокоиться, думать про вас, сны мне всякие снятся…
И главное, ужасно у вас противная манера писать – раз в год. Отвратительная. Вот подождите, я вам сейчас такое письмишко напишу, что вы долго будете охать.
СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ, НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
Кругом тут горы. Свистит и воет пурга, все замело, в двух шагах ничего не видно. Тут еще совсем зима, сердитая и холодная… Совсем недавно вышел из нашего госпиталя один боец по фамилии Утыкач. Вышел, прошел шагов сто, и напал тут на него медведь. Вышеозначенный медведь был застрелен красноармейцем насмерть, сам Утыкач был поцарапан медведем, а медвежатиной угощала меня… Кто бы вы думали? Мама Флеровская. Она здесь.
Начальник госпиталя – военврач первого ранга Старчаков. Высокий, гладко выбритый, суровый человек, молчаливый, прямой, редко улыбающийся.
Начальник наших курсов – военврач второго ранга Москвин.
А теперь я запишу про Лену Орлову, которая живет в городке рядом с госпиталем и которая… В общем по порядку…
ЛЕНА ОРЛОВА И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ
Жила-была девочка, у девочки была мама Людмила Ивановна. Мама служила, Лена училась в школе. Папа умер давно. Жили мама и Лена скромно и тихо. Даже более чем скромно.
Потом началась война.
Людмила Ивановна, как и многие другие женщины этого прифронтового городка, стала ходить в госпиталь, что-то там помогала, стирала белье, работала по мере сил и возможностей. Вечерами дома Лена говорила матери:
– Мам, возьми меня с собой в госпиталь. Мам, возьми, а? Мам, пожалуйста, возьми.
– Да что ты там будешь делать?
– Не знаю.
– Ну и я не знаю. Занимайся-ка лучше.
На другой день повторился тот же разговор. Девочка смотрела на мать умоляющими глазами и уговаривала ее со всем пылом красноречия, которое бывает у десятилетних детей.
– Да нечего тебе там делать, – говорила мать, – там раненые, которым и так тяжело, они и так мучаются, а тут ты еще явишься с разговорами. Учи лучше арифметику.
Лена придвигала к себе книжку, а через полчаса на мать вновь смотрели умоляющие серые глаза:
– Мам, а если нанемножко. Я нанемножко пойду. Я ненадолго. Я только посмотрю.
Людмила Ивановна рассказала, шутя, о просьбах дочери военкому госпиталя, женщине умной, рассудительной.
– Ну и приходите с ней вдвоем, – сказала военком, – придете, там посмотрим.
Лена пришла.
– А что ты умеешь делать? – спросила военком. Лена ответила тоненьким, но спокойным и серьезным голосом:
– Умею петь, танцевать и рассказывать.
Подходящего по росту халата для Лены не оказалось. Ей дали длинную мужскую ночную рубашку вместо халата и кусок бинта – подпоясаться. Маленькая, пугливо озираясь по сторонам, вспоминая мамины слова, что тут раненые, которым и так тяжело, которые и так мучаются, Лена шла по длинному полутемному коридору госпиталя.
Все тут было ей чуждо, непонятно, странно: и запах медикаментов, и тележка на колесах с клеенкой, и яркий свет в белой перевязочной, и длинные стоны, которые доносились из раскрытой в палату двери.
Внезапно из палаты навстречу Лене вышел раненый с костылем, нагнулся к девочке и спросил густым басом:
– Это что за привидение?
Лена молчала, прижавшись к стене.
– Что это за привидение? – еще раз спросил раненый.
– Я не привидение, – собравшись с силами, топким голосом сказала Лена. – Я девочка и пришла к вам петь, танцевать и рассказывать…
– Ну? – удивился раненый.
Постукивая костылем, он привел Лену в большую палату, в которой стояло четырнадцать коек. Тут были тяжелые. Под серыми одеялами кое-где вздымались возвышения – позднее Лена узнала, что это за возвышения, узнала даже, что их называют зенитками. Кое-где в полу-сумерках она видела что-то странно белое, почти бесформенное, позже она узнала, что это загипсованные руки и что ничего страшного в этом нет. Один раненый лежал навзничь, ноги его были покрыты колпаком, в колпаке горела электрическая лампочка – эта лампочка просто ужаснула Лену, и она никак не могла отвести глаз от раненого с лампочкой.
Тот, с костылем, который привел ее, вызвался быть конферансье, и это очень помогло Лене.
– Вот, – сказал раненый, – тут к нам пришел ребенок по имени… Как тебя зовут-то, привидение?
– Лена.
– Ребенок Лена. Она говорит, что может петь, танцевать и рассказывать, Вроде оно артист. Что ж, просим?
– Просим, – донеслось с одной койки.
– Пускай попробует.
– Давай, девочка, не робей.
Не зная, куда себя деть, Лена подошла к одной из коек, взялась руками за изножье и сказала:
– Песня. Под названием «Золотые вечера».
Кашлянула и запела топким, чистым, слегка дрожащим голоском;
Пахнут медом,
Пахнут мятой
Золотые вечера,
Сели вечером ребята
У веселого костра.
Пела и смотрела серыми, немного испуганными главами на раненого, у которого над ногами горела электрическая лампочка. А раненый смотрел на Лену. Смотрел просто и серьезно, а когда она кончила, сразу же сказал:
– Бис, браво, бис!
Лена спела еще. В дверях теперь стояли госпитальные сестры, санитар, дежурный врач. Пришло несколько ходячих раненых. И у всех были серьезные лица, все глядели доброжелательно, приветливо. И те раненые, которые только недавно казались Лене страшноватыми, теперь были самыми обычными людьми, только лежащими в каких-то странных позах. И лица у них были никакие не таинственные, а самые обычные лица.
– А теперь я вам расскажу стихи, – сказала Лена. – Хотите, чтобы я вам рассказала стихи?
Бойцы захлопали, а те из них, которые не могли хлопать, потому что были ранены в руки, закричали:
– Просим! Давайте стих!
Все так же держась пальцами за изножье кровати, Лена принялась рассказывать про старушку.
Старушка несла продавать молоко,
Деревня от рынка была далеко,
Устала старушка, и, кончив дела,
У самой дороги вздремнуть прилегла.
Дальше в стихотворении Маршака рассказывалось много смешного про старушку, и бойцы громко и весело хохотали, а у того, который грел ноги электрической лампочкой, даже слезы выступили от смеха. Он утирал слезы ладонью и долго еще причитал:
– Ну и старушка! Это всем старушкам старушка! Это да!
– А теперь я вам станцую, – сказала Лена, покончив со стихами.
Третья часть программы – танцы – прошла хуже, чем предыдущие. Оказалось, что доски пола в палате не очень прочные, и, когда Лена начала прыгать, осуществляя различные сложные повороты, па-де-де и просто па, иол очень затрясся, и некоторые раненые застонали. Танец «Кабардиночка» был прекращен Леной на половине, и она очень сконфузилась, но они тотчас же стали хвалить и объяснять, что танцевать лучше в коридоре, что танцы хорошая вещь, но поскольку тут имеется такая специфика, постольку тут танцевать не надо, а лучше еще спеть.
И Лена спела.
На это второе пение ей аплодировали значительно больше, чем в первый раз, вероятно, за то, что пришлось оборвать «Кабардиночку».
А потом она ушла.
Раненый с костылем проводил ее до самого госпитального парадного и попросил обязательно завтра приходить еще. Она сказала, что придет, подпрыгнула и убежала, а раненый еще долго стоял у двери, покачивал головой и улыбался…
На следующий день в это же время Лена пришла опять, но раненые из другой палаты перехватили ее и повели к себе, тайком от той палаты, в которой она выступала вчера. Тут ей тоже аплодировали и хвалили. Репертуар у нее был большой: и «Катюша», которая, как известно, выходила вечером на берег, и веселая песенка «Ни туда и ни сюда», в которой Лена прохаживалась насчет Гитлера, и «Песня Харитоши» из фильма «Трактористы» – ради этой песенки Лене пришлось несколько раз подряд ходить в кино, и «Метелица», и даже «Я на подвиг тебя провожала».
Раненые водили Лену из палаты в палату, под конец вечера она совсем осипла и измучилась, ей везде хлопали, всюду ее хвалили, а в одной палате веснушчатый боец даже выразил ой специально благодарность от имени всех и пожал Лене маленькую, перемазанную школьными чернилами лапку своей большой рукой.
На следующий день Лена опять пришла, потом опять, потом еще и стала ходить каждый день, как на службу, к определенному часу, со всей присущей ей аккуратностью, минута в минуту. Теперь она знала военврачей, знала, что суровая с виду военврач Антонина Владимировна Орловская вовсе не суровая на самом деле, а удивительно добрая и ласковая женщина, знала, что бояться Орловской нечего, если ни и чем не виновата, знала военврача маму Флеровскую, знала смешно ей подмигивающего начальника Старчакова. Знала Анастасию Алексеевну и многих других военврачей, сестер, санитарок…
И мало-помалу госпиталь сделался для Лены вторым домом, второй семьей, а может быть, и первым домом, главной, хоть и немного великоватой, семьей.
Как-то однажды старшая госпитальная сестра сказала Лене:
– Хорошо, что ты сейчас пришли, у нас в это время всегда обед, помогай.
– Как помогать-то? – спросила Лена.
– Очень просто. Многие раненые сами не могут есть, а мы не поспеваем всех кормить сразу, из-за этого некоторые должны есть холодное. Вот займись-ка!
И Лена занялась. Серьезная, маленькая, тоненькая, в своем собственном халате (у нее теперь был свой халат), с аккуратно подстриженной челкой, с широко раскрытыми серыми глазами, деловитая и неторопливая, она подходила к раненому с тарелкой супа и говорила:
– Здравствуйте, приятного аппетита. – И принималась кормить.
Очень скоро у нее выработались свои навыки в этой работе, свои привычки, своя тактика кормления. Если раненый отказывался есть, она говорила, что нельзя не есть, что ей будут неприятности, что ей попадет, что есть надо обязательно. У нее было свое всегда чистое полотенце, которое она клала на грудь раненому, чтобы не залить супом, по-своему она ставила тарелку, по-своему брала хлеб. И так как самой ей бывало скучновато (нельзя забывать, что ей всего десять лет – одиннадцатый), то во время кормления она рассказывала, развлекая рассказами и себя, и своего раненого. Рассказывала разные истории: про маму, про школу, про учительницу, про то, как трудно научиться танцевать танец «Матрешки», про военврача-рентгенолога, какой он хороший человек и как к нему приехала из Ленинграда дочка.
– Худенькая-худенькая, прямо одни косточки, бледненькая такая, ужас! Он как встретил ее, чуть не заплакал, я видела.
Историй было много, истории были разные, и раненые теперь называли Лену «живой газетой».
С каждым: днем все ближе и ближе становился ей госпиталь.
К ее маленькой фигурке все привыкли, ее полюбили и раненые, и врачи, и санитарки, и сестры. Теперь бывало нередко, что военврач Орловская остановит Лену и потреплет ее за челку, за светло-коричневые мягкие волосы, потреплет и спросит:
– Ну как, Лена Орлова?
– А никак, – ответит Лена и побежит дальше.
Раненые, которые поначалу казались ей страшными со своими гипсом, шинами, зенитками, лубками, теперь стали привычными, своими людьми, с которыми можно было разговаривать, как с мамой или даже еще ближе, потому что мама нет-нет да и скажет:
– Помолчи ты, Лена, со свои ми глупостями!
А раненые все слушают и на все улыбаются и кивают головой, все им интересно, все их занимает.
Как-то однажды Лена привела в госпиталь с собой двух своих подруг – Инну и Галю. Подруги жались к Лене, оглядывались с опаской, а Лена им говорила:
– Ну что за вздор! Чего вы боитесь! Сами же просились, чтобы я вас привела. Ну, госпиталь как госпиталь, люди как люди, раненые бойцы… Я сначала тоже боялась, а теперь я все знаю. Вон там с лампочкой лежит – это ожог. У него нога обожжена, и лампочка ему обогревает ноги и держит одну температуру. А вон там – это зенитка. Зенитка – по-нашему, как мы говорим, а по-настоящему это не зенитка, а костное вытяжение…
– Так ему же больно! – сказала Галя.
– Ужас какой, – сказала Инна. – У него иголка через всю кость проткнута!
– И ничего ужасного нет, – с превосходством заявляла Лена, – этот боец не испытывает сейчас боли. И вообще, ко всему надо привыкнуть, Я вот привыкла и ничего этого не замечаю.
Потом Инна, Галя и Лена пришли в палату, в ту самую палату, где когда-то давно в первый раз пела, танцевала и рассказывала одна Лена.
Сюда же пришла Тамара Кириллова с баяном. И три девочки под аккомпанемент баяна стали разыгрывать пьеску, сочиненную ими всеми вместе. Пьеса была довольно бестолковая, не все в ней было понятно, но бойцам понравилась. Понравились и сами детские голоса, и смешные танцы, и то, как кто-то из девочек забыл слова споей роли, и басни, и стихи, и знакомые мотивы с новыми словами. Все поправилось, и раненые долго аплодировали детскому ансамблю.
Как-то девочки придумали натаскать в госпиталь свежей зелени и натаскали веток хвои и разных северных растений со странными названиями: копытень, погремок, бодяк…
Натаскали, и в палатах сразу же запахло лесом, жизнью, здоровьем…
Но это все было но главное, это были развлечения, а не работа. Работа же оставалась работой – накормить раненого обедом, ужином, завтраком, подать костыль, дать воды, принести судно, купить марок и конвертов, отправить письмо, телеграмму.
И несмотря на то что эта работа не менялась из месяца в месяц, Лена продолжала делать ее любовно и добросовестно, точно и просто, аккуратно и деловито.
А однажды Лениной маме позвонили на службу из госпиталя по телефону.
Мама подошла к телефону и сказала;
– Да, я слушаю. Орлова слушает.
Людмилу Ивановну поздравили.
– С чем? – спросила Ленина мама.
– Ваша дочка Лена Орлова награждена медалью.
Ленина мама немножко побледнела.
– Спасибо, – сказала она, – большое спасибо!
Это было не такое уж простое дело, если припомнить, что Лене шел всего-навсего одиннадцатый год.
Член Военного совета вручил Лене медаль «За боевые заслуги», Лена сказала: «Спасибо вам, товарищ начальник», – и пожала руку генерала.
И с медалью, привинченной к старенькой кофточке, пошла в школу – учиться арифметике, русскому языку, истории.
А из школы – в госпиталь, как всегда, как каждый день.
В госпитале она перевинтила медаль на халат, в ее десять с половиной лет она могла позволить себе поносить медаль на халате.
Был час обеда. Лена занялась обедом. Потом она развлекала раненых альбомами марок, которые она набрала у товарищей школьников.
– Вот это марка английская, – говорила Лена, сидя возле раненого командира, – красивенькая, правда? А это уж я не знаю какая, забыла. А это тоже забыла. А это пирамида. Вы знаете, что такое пирамида?
– Нет, – сказал раненый командир, который до войны был преподавателем истории в высших учебных заведениях, – нет, девочка, не знаю, что такое пирамида. Ты уж мне расскажи.
Лена рассказала довольно правильно.
– Такая могилка древняя, – сказала она, – из камней. Сюда ихних царей укладывали, мертвых. Они тут себе и лежали. А строили пирамиды рабы. Тяжелая, наверно, была работа, да?
– Да, – согласился командир.
После марок Лена показала командиру альбомчик советских киноактеров.
– Товарищ Янина Жеймо, – говорила она, – уж она мне нравится. А это товарищ Макарова Тамара, мне так девочки говорили, что она всю войну на фронте была автоматчиком и ничего не боялась. Верно? Будто фрицы ее очень хотели убить, но не вышел номер. Да?
– Не знаю, – сказал комапдир.
– А это товарищ Жаков. Всегда, говорят, создает хорошие типы. А это…
– Ленуша, – позвал командир из угла палаты. – Ленуша, дай покурить, пока никого нет.
– Заругают нас с вами, – сказала Лена.
– Ну дай!
– Какие вы! – ответила Лена. – И чего в нем хорошего, в дыму!
– А ты сама не курила и не знаешь. Дай, Леночка! Вот возьми у майора папироску и принеси мне. И спичку.
Потом, когда раненый старший лейтенант покурил из Лениных рук (он был ранен в кисти и сам курить не мог), Лона под его диктовку стала писать письмо крупными, толстыми буквами.
«Моя дорогая Катюша, – писала Лена, – дорогая моя, я шлю тебе мой пламенный привет из самого сердца и желаю тебе помнить своего Николая, как он тебя помнит, как он помнит все твои родинки и всю твою фигуру, которая ему во сне снится,…»
– Дочке пишете? – спросила Лена.
– Почему дочке? – спросил лейтенант и, спохватившись, сказал: – Ну да, дочке, маленькая у меня дочка, вроде тебя, чуть побольше.
– Ленуша, утку, – окликнули от окна.
– И давно пора, – сказала Лена, – давно пора. Сейчас сестре скажу, что пошло у вас, а то с самой операции хоть бы что…
С уткой в одной руке и с пером в другой она вошла к сестре и сказала ей, что капитан Одинцов все сделал по-хорошему, сам попросил, а сейчас хочет есть.
Сестра посмотрела утку на свет и велела кормить Одинцова обедом.
– Есть, обедом, – сказала Лена.
Вечер. Я стою в коридоре госпиталя, начальником которого работает военврач первого ранга товарищ Старчаков. Дверь в палату открыта. Лена с новенькой медалью поверх халата поет тонким, свежим, негромким голоском:
Пахнут медом,
Пахнут мятой
Золотые вечера,
Сели вечером ребята
У веселого костра…
Раненые тихо слушают. Лица у всех задумчивы и грустны. У многих есть дети, где-то далеко, такие же, может быть, девочки с челками.