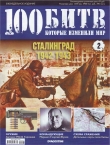Текст книги "Далеко на севере"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Среда
Как прекрасен Ленинград в эти последние дни! А мне даже некогда с ним как следует попрощаться. И на Зимнюю канавку некогда сбегать, и на мосты посмотреть некогда и в Новую Голландию некогда заглянуть.
Да, сенсация!
Шура Зайченко поймал на трамвайной остановке парашютиста, оказавшегося певцом из оперы. Артист страшно обиделся и назвал Шуру полным идиотом. Вообще, это, должно быть, была картина – Зайченко ловит парашютиста.
Мы на днях уезжаем. Мы – это целый эшелон. Мы грузимся, грузимся, грузимся. Северный фронт – вот куда мы едем, Карелия. Я никогда там не была, а пана был, он служил там в молодости земским врачом и говорит, что ничего красивее этого края не знает. Красота красотой, а покуда я принимаю белье, одеяла, ночные туфли, халаты, пижамы и прочее. Борис мне сказал по телефону, что я здорово устроилась – светло, тепло и не дует.
Странный человек!
А бедный Шура все ходит, и никто его никуда не борот по состоянию здоровья. Вчера я была с ним вместе у одного большого начальника, и тот спросил, не был ли Шура ранен.
– Я не ранен, – сказал Зайченко, – а меня уронила няня.
Самое печальное заключается в том, что его действительно уронила няня под колеса извозчика, и покалечило его еще в детстве.
– Что же вы можете делать? – спросил Шуру большой начальник.
– Не знаю, – последовал печальный ответ.
– Чего же вы от меня хотите?
– Совета.
– Какого же, например, совета?
– Я прошу вас посоветовать, как мне попасть на фронт для участия в боевых действиях, направленных на уничтожение фашистской заразы.
Так ничем и не кончился этот разговор.
Вторник
Мама уехала на Урал еще в воскресенье, а сегодня я проводила отца, Руднев привез ему на вокзал большой букет цветов и холодно преподнес. Прощаясь, они не поцеловались, не сказали друг другу ни единой мало-мальски теплой фразы, не обменялись никаким значительным словом. А ведь я знаю, как отец любит Руднева и как Руднев предан отцу.
А я поплакала. И когда он входил в вагон, мне вдруг показалось, что я никогда больше его не увижу. И помолодел он в военной форме: живот куда-то убрался, плечи широкие, руки сильные, сухие и горячие.
Его провожало очень много народу, и я испытывала чувство гордости за своего отца.
До свидания, папа! До свидания, милый мой, единственный, дорогой, самый лучший нала!
Шурка тоже прослезился и сказал отцу на прощание какую-то сложную фразу, в которой участвовало слово «диалектика» – отец мой оказался диалектической личностью в высоком смысле этого слова.
– Ну, спасибо, Шурик, – ответил отец, – обрадовал ты меня, старик! Это я надолго запомню.
Дома у нас теперь совершенно невыносимо: пусто, темно, уныло. Сразу запахло нежилым. Гланя ворует мои и мамины вещи и рыдает, Вещей мне не жалко, зачем вот только рыдает и жалеет меня, «сиротку». Я не могу смотреть ей в глаза.
Теперь и мы вот-вот уедем.
Понедельник
Наш эшелон идет на север, Положим, как раз сейчас мы стоим и я пишу свой дневник. Шура Зайченко едет с нами в банно-прачечном отряде. Взяли! Он счастлив, но боится, что наш состав будут бомбить.
Очень интересная история с нашим «оптимистом» и «воякой» Борисом.
Зайченко ему позвонил в день отъезда и выяснил, что этот здоровенный негодяй совместно с папашей и мамашей отбыл в город Ташкент как незаменимый специалист по тутовым деревьям! Откуда, почему, отчего, с каких пор?
Кроткий и честный Шура Зайченко до сих пор не понимает, в чем дело.
А вот и воздушная тревога. Нас будут бомбить, рука у меня дрожит, но я допишу начатую фразу и докончу мысль, иначе я не дочь своего отца, а ничтожество и дрянь.
Кончаю мысль: Шура Зайченко не понимает, что за парень Борис, а я, кажется, поняла, что он за человек, и записываю раз и навсегда черным по белому в своем дневнике: «Наташа, бойся оптимистов-говорунов. Пуще всего бойся этих людей, не водись с ними, не считай их за товарищей, за друзей, даже знакомых таких не держи, Наташа».
Я кончила мысль.
В моем вагоне вылетели стекла, а между тем я кончила мысль.
Отец, я не осрамлю тебя, будь покоен.
Я продолжаю писать после бомбежки. Это особенно неприятно, когда бомба хлопает – есть такая секунда в ее падении. Говорят, что значит, что она падает прямо в тебя. И как они свистят противно!
Руднев вышел из вагона и сел на рельс. Я все время нечаянно видела его лицо – он был очень бледен, но ни разу не шевельнулся.
Бедный Шура убежал в лес, но там оказалось болото, он провалился и вымок до костей. Все над ним смеются, Шура чувствует себя очень неловко, старается держаться развязно и громко говорит:
– Да, я действительно очень боюсь бомб, вы все тоже боитесь, но вы держитесь, а я убежал. И еще убегу. Ведь я никому не помогу, если буду сидеть на рельсе, как Руднев или торчать возле вагона, как Наташа.
Говорит и обдирает с себя тину. Бедный Шурик!
И красный как рак.
Я не сужу его, хотя если анализировать свои поступки, то я меньше боялась, чем он, и все-таки я не беру на себя смелости осуждать Шуру Зайченко.
А наш поезд опять стучит колесами как ни в чем не бывало: на север, на север, на север. Мимо серебристых озер, через болото, через овраги и реки, по мостам бежит наш поезд. На север, на далекую, непонятную северную войну.
Нее больше и больше замечаю я следы войны: свежие черные воронки вырыли германские бомбы на полотне дороги. Говорят, даже трава долго-долго не растет в земле, разрытой взрывом. Оборванные провода. Развороченные рельсы и шпалы. Железнодорожники уже работают, восстанавливают полотно, волокут шпалы, а лица у работающих еще испуганные от прошлой бомбежки, и нет-нет кто-нибудь да и посмотрит на небо. Не видать ли самолета.
На север! На север!
Шла мимо купе, в котором едет доктор Руднев. Он остановил меня и дал мне книжку, на которой золотом написано: «Отморожение». Я вначале подумала, что это роман.
– Прочитайте, – сказал Руднев, – тут, на севере, вам это может пригодиться.
Читаю и делаю выписки.
ГЕНЕРАЛ ЗИМА
Вот с чем мне придется иметь дело, когда я буду знать побольше, чем знаю сейчас, – с отморожениями. Тут, на севере, это дело, по всей вероятности, очень серьезное. Записываю кое-что из трагических цифр прошлого: когда-то, в Крымскую кампанию, на стороне противника насчитывалось тысяча сто девяносто четыре случая обморожения, в общем четыре с лишним процента всей армии, а смертность доходила почти до четверти, А однажды под Севастополем были две такие ночи, в которых замерзли две тысячи восемьсот человек, и девятьсот из них – смертельно. Вот что значит генерал зима. Теплая зима, крымская. Вот еще из теплых зим: в Болгарии на один корпус было почти пять с половиной тысяч обмороженных, в Алжире на одну колонну было двести восемь обмороженных. Это в Алжире! Что же предстоит нам тут, на севере! При наступлении французов под Верденом было три тысячи шестьсот обморожений, а в одной дивизии на тысячу девятьсот семьдесят одного раненого было тысяча восемьсот шестьдесят девять обморожений. А вот про турок в прошлую мировую войну: на склонах Алла-Икпар в один день замерзло десять тысяч человек – половина всего корпуса. Вот страх-то! А японцы во время оккупации Маньчжурии почти сплошь имели признаки обморожений.
Заявляю с полной откровенностью, дорогая Наташа, что нам много предстоит впереди разных мелких и крупных неприятностей.
Читаю зеленую книжку и, к сожалению, далеко не иго в ней понимаю.
Шура делает такой вид, как будто ему все ясно, а на самом деле ничего ему не ясно, и вообще нам с ним следует забыть, что мы медики. Какие мы медики!
А поезд все еще идет на север. Но чаще стоит на станциях и полустанках.
Нас не бомбят после того раза.
Вторник
Навстречу нам идут поезда, в которых везут раненых. Это совсем не такие поезда, к каким я привыкла по плакатам и картинкам за последнее время. Это тяжело груженные поезда с измученным персоналом, с уставшими от передвижений ранеными, с прицепленными теплушками, и далеко не все вагоны кригеровские, как я представляла себе раньше.
Я отправила две открытки – маме и Борису. Борису написала массу гадостей, а маме все, что полагается писать маме, – жива, здорова, в полной безопасности, буду всегда в глубоком тылу – это решено.
Мы приехали.
И сразу же вместо ожидаемых мною величественных подвигов вот что: подходит будущая операционная сестра – толстая Анна Марковна – и неприятным голосом заверяет:
– Интересные новости. Пока что мы не собираемся разворачиваться. Мы тут немного, а может быть, и много поспим. И я вам, девочки, не завидую…
– Почему?
У Анны Марковны таинственное выражение лица.
– Скоро узнаете.
Она ложится на свою полку, курит, пускает дым через ноздри и вздыхает. Мы – я и мои товарки Капа, Тася и Варя – выходим из вагонов узнавать. Никто ничего не знает.
Черный, тяжелый дым стелется на горизонте, там что-то взрывается, ухает, точно стонет. Там пожар, вызванный бомбежкой. От каждого взрыва мои девушки вздрагивают, да и мне тоже не но себе. Иногда далеко в небе что-то гудит, тогда вес смотрят вверх и прислушиваются.
– Опять полетел, – говорит Тася и зябко ежится.
– Страху-то, страху… шепчет Капа.
А Варя молчит и только бледнеет так, что голубые её глаза кажутся темными.
– От дыма, который несет к нам, от запаха гари трудно дышать, першит в горле, поет голова.
Тут мы прощаемся с Рудневым. Он выходит из вагона в шинели, в фуражке, с солдатском мешком за плечами. Узкий рот его крепко сжат, под тонкой розовой кожей возле уха ходит желвак. Ему жарко в шинели, лоб покрылся мелкими каплями пота. Пистолет не очень ловко висит у него на боку.
– До свидания, девушки, – говорит доктор Руднев.
– Куда вы?
Он коротко отвечает:
– Пора! Больше я не могу ждать.
– Но куда же вы?
Руднев рукой показывает вот туда, по шпалам, туда, где пожары, туда, откуда тянет дымом, туда, где падают бомбы.
Что мы можем ему сказать?
Мы прощаемся с ним за руку, и я чувствую вдруг, какие у него отличные, сухие, крепкие, жесткие руки с длинными пальцами, сильные, сильные.
– Ну… – говорит он, и больше ему нечего сказать. А мы кричим ему вслед:
– Счастливого пути! Ни пуха ни пера! Будьте здоровы! Пишите!
Он шагает по шпалам в своих тяжелых сапогах, в шинели, с пистолетом на боку, и внезапно делается вдруг таким же, как шагающие навстречу бойцы. Больше он не доктор Руднев, щеголеватый, читающий Анатоля Франса, читающий лекции в академии, он вдруг делается солдатом и идет, как солдат, туда, по шпалам, к войне.
Таким я и запоминаю его. Он делается все меньше и меньше, идет не оглядываясь, туда, к далеким пожарам, к огромным воронкам, к разбомбленным домам…
А потом мы узнаем обещанные Анной Марковной новости. Их нам сообщает Шурик Зайченко под величайшим секретом. Новости заключаются в том, что пока мы будем стирать. Мы все.
Прихрамывая, Шурик Зайченко ходит перед нами и показывает.
– Банно-прачёчный отряд – это серьезное дело, – говорит Шурик.
А мне отчаянно хочется плакать.
Мы будем стирать? И это все? Стирать? И больше ничего? Для этого я ехала сюда? Для этого я бегала по Ленинграду:, подавала заявления, умоляла, упрашивала?
– Какие глупости, – говорю я. – Какой вздор, какие пустяки! Я не для этого ехала сюда. Я не для этого…
Шурик смотрит на меня жалкими глазами.
– Ну что ты смотришь? – спрашиваю я, и голос мой срывается от злобы. – Ну, чего ты уставился? Ты думаешь, что ты…
Я не договариваю: грубые, страшные, оскорбительные слова чуть не сорвались у меня. Но Шурик угадал их и отвечает, слегка заикаясь от волнения:
– А я для этого сюда ехал. Да! Для этого! И я ничем не хуже вас! А то, что я хромой, ну и что! И я буду стирать! И буду копаться в вонючем белье! И не вижу в этом ничего зазорного! Ничего! Вы все герои, а я не герой. Я… да… я… – Он захлебнулся от волнения.
Мы не успеваем помириться, а нас уже вызывают в вагон и сообщают все официально. Потом мы переезжаем в сараи.
Потом нам везут бельё. Его везут на подводах и грузовиках – его множество. Это ужасное, серое, заношенное белье воюющих людей. Тяжелый запах все время стоит там, где трудится Шура Зайченко, в старом сарае тяжелый запах застарелого пота, гнили, нечистоты. И когда я вижу эти огромные груды, эти тюки, узлы – все то, что нам предстоит выстирать, я не понимаю, как это возможно. А белье везут и везут, и Шурик Зайченко уже просто утопает в нем, его не видно в сарае, и когда я вхожу туда, то кричу, как в лесу:
– Шурик, ау! Шурик, где ты?
И Шурик, заикаясь, отвечает:
– От тебя слева. Сейчас я начну вылезать. Подожди, Наташа.
В другом сарае стоят бучильники. В них вываривается белье до того, как мы начнем его стирать. Тут всегда много воды, мокро, и тут тоже стоит тяжелый, сырой, неприятный запах, еще сильнее, чем в приемке у Шурика.
А потом мы стираем в корытах. Когда-то у меня был маникюр, и сейчас я с удивлением рассматриваю свои руки: они распухли, кожа лоснится, ладони загрубели – это не мои руки, их не узнать. Поясница у меня ноет целыми ночами, плечи болят, и мне почти невыносимо трудно и тяжело. И моим девочкам тоже трудно. Так трудно, что мы засыпаем сразу же после работы и спим как убитые, долго и крепко, и даже охаем, не просыпаясь полностью.
Так идет наша военная жизнь.
Мимо нас, грохоча, проходят эшелоны, проходят санитарные поезда, груженые пульмановские вагоны. Война проходит мимо нас. Настолько мимо, что мне даже нечего написать папе. Разве только бомбежки. Но ведь бомбежки – это то, что касается также и мирного населения, и тут не напишешь, что в километре от нас упала бомба и убила корову.
В общем, мы стираем. Мы стираем грязное белье бойцов и командиров – вот чем мы причастны к войне, ж завидуем…
Но теперь нам немного легче. Мы привыкли, мы научились стирать. Мы не так уж плохо стираем и не так уж плохо гладим. Кроме того, мы зашиваем, штопаем, чиним и теперь иногда вечерами поем в нашем сарае. Топится железная печурка, пахнет глаженым бельем, Шурик, полузакрыв глаза, дирижирует поленом, а мы хором поем:
Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка…
Все жарче и горячее от печурки, хочется спать и лень петь, и песня поется как-то сама по себе. Потом мы ужинаем кашей или супом. Пьем чай, А по крыше нашего сарая барабанит дождь, унылый осенний дождь.
Среда
Машинально написала день, а не все ли равно, какой день. Положим, не все равно. Нас заменили более пожилыми женщинами, А мы едем к переднему краю. И Шурик тоже умолил взять его туда. Мы уезжаем – Тася и Капа, я и Шурик. И Варя. Нас комплектуют, и нам везет; мы все вместе. Глухой ночью, на разбомбленной дороге, над какой-то кручей, под которой грохочет речушка, мы отыскиваем свой автохирургический отряд. Мы тыкаемся в грязи между горячими радиаторами автомобилей, мы слышим незнакомые голоса, незнакомые и мена, и нам жутковато – среди этой чужой, заведенной военной налаженной жизни, среди грохота моторов, суровых, хрипловатых голосов, среди привыкших к войне.
Потом мы рассаживаемся по машинам. Меня берут в санитарку. Я так устала, что ничего не соображаю. И есть мне тоже ужасно как хочется. В санитарке темно, тесно, я еле втискиваюсь и уже сквозь сон слышу где-то неподалеку голос Зайченко:
– Разрешите доложить, товарищ военврач второго ранга…
Вероятно, во сне я опустила голову на плечо моей соседки и теперь при свете аккумуляторного фонаря разглядываю маму Флеровскую. Мама Флеровская – фамилия, известная на нашем фронте, и даже у себя в прачечной я не раз слышала эти два слова: «мама Флеровская».
Сейчас я вижу ее в профиль. Крупные черты лица, воротник шинели поднят, стриженые, совсем седые волосы. Внезапно мама Флеровекая оборачивается ко мне, и я вижу ее глаза, карие, горячие, совсем молодые, почти юные.
– Есть хотите?
Голос у нее грудной, глубокий.
– Медсестра?
– Санитарка, – отвечаю я.
Мама Флеровекая продолжает смотреть на меня пристальным, точно оценивающим взглядом. Фонарь гаснет, машина вновь начинает прыгать но ухабам и рытвинам. А я засыпаю, тесно прижавшись к моей новой знакомой, и испытываю при этом неизъяснимое чувство доверия к ее плечу, к запаху ее шинели, к горячему взгляду ее юных глаз.
Масса работы. Мы разворачиваемся. Совсем неподалеку идут бои. Воздух дрожит от орудийного грохота, визг и вой от пролетающих снарядов стоит над валунами, над озером, над корявыми, низенькими деревцами. Там, где мы таскаем оборудование, мучается раненая лошадь. В ее золотистом глазу дрожит слеза. Когда мы проходим мимо, лошадь поднимает к нам морду и точно просит о помощи. Вдруг я вижу, как мама Флеровская подходит к лошади, вынимает из кобуры пистолет и стреляет лошади в ухо. За грохотом недалекого боя почти никто не слышал выстрела, а мама Флеровская молча, не оглядываясь, скрывается в одной из палаток медсанбата.
Потом налет. Потом еще налет. Мы лежим в камнях, я и Тася, и я слышу, как плачет от страха Тася, я чувствую, как она прижимается ко мне, как она дрожит всем телом, какая это крупная дрожь, почти судороги.
Мы прощаемся. Крепко целуем друг друга, что-то шепчем, в чем-то клянемся.
Еще налет. Теперь с нами и Варя, и Капа. Прижавшись всем телом к сырым, холодным, влажным камням, я вижу неподалеку от себя Тасино лицо и вдруг понимаю, какая она красивая, Тася, какой у нее рот, и какая шея, и какая стремительность, широта, прелесть в ее тонких, разлетевшихся бровях, сколько… Я не успеваю додумать. Воет фугаска. Мы вжимаемся в камни, нас засыпает щебенкой, землей, грязью, щепками…
А потом мы снова работаем, и я слышу, как Тася шепчет мне:
– Я не выдержу! С ума сойти! Ната, я не выдержу! Ната, я убегу…
Наш старый хирург, толстый и лысый человек с торчащими грозными седыми усами, сидит на ящике и курит самокрутку из деревянного мундштука. Во время бомбежки его ушибло камнем в поясницу, и теперь он ходит почти на четвереньках. Его зовут Петр Андреевич. Мне сказали, что у него какая-то сложная болезнь, я забыла название, что у него бывают припадки этой болезни, и тогда он катается от нечеловеческой боли и совершенно теряет разум.
Сколько я не спала?
Не знаю. Ничего не помню. В голове стучит, руки онемели, в главах песок.
Холодный вечер. Свистит ветер, свистит и завывает в овраге, в валунах, в куцых деревцах. Ливмя льет дождь. Скорее спать, только спать, только лечь или сесть где-нибудь, где сухо и где не дует ветер. А места нам нет. Мы слоняемся полуживые от усталости, промокшие, иззябшие. Спать негде. И вот мы сидим и дремлем в закуте возле нашей будущей перевязочной. Нам хорошо, как в раю. Нам хорошо до тех пор, пока над нами не раздается металлический голос какого-то военврача третьего ранга:
– Санитарки, тут не спят! Санитарки, вы слышите!
Мы слышим, но мы не можем пошевельнуться, у нас нет сил.
– Санитарки, кому я говорю! Санитарки, встать!
Я медленно поднимаюсь. Если бы этот хлыщ знал, кто мой отец!
Поднимаюсь и вижу – это Лева, один из папиных учеников. Он краснеет. Я молчу и не здороваюсь с ним. Так начинается наша вражда.
Я всегда терпеть вас не могла, многоуважаемый Лева!
– Наташа, не сердитесь, – говорит Лева.
Мы молча уходим под дождь и долго мокнем там, пока на нас не натыкается мама Флеровская.
Среда
Писать трудно, но я буду писать при всех условиях, я буду писать обязательно, во что бы то ни стало. Я буду писать подробно, без сокращений, буду писать все.
Солнечный, прозрачный день поздней осени.
Где-то за деревьями жужжит вражеский корректировщик. Он жужжит более часа кряду.
Что-то высматривает, охотится, подстерегает. Изредка я поглядываю в небо. Жужжит или не жужжит – все равно. От этого ясного, прозрачного северного неба мы не ждем ничего хорошего: там часто лазают немцы и оттуда часто с воем летят бомбы.
Но сейчас мне не до этого. Я работаю в операционной. У меня в глазах радужные круги от усталости, от запаха эфира, бензина, от вида крови, от страданий, среди которых проходит мой день.
Наша операционная в землянке. Над нами несколько накатов. У нас немного душно. Военврач Петр Андреевич Русаков, слегка согнувшись, стоит над столом. Прямо стоять он не может от давешнего удара камнем. Глаза у Русакова красные, щеки ввалились, даже усы как-то повисли, потеряли прежнюю лихость. И в красных, слегка выпученных глазах сердитое и страдальческое выражение.
Сколько человек может не спать?
Сколько врач может оперировать?
Когда хирург замертво падает у стола?
В операционной тихо. Сюда, к нам под землю, не доносятся никакие посторонние шумы. У нас тут своя жизнь, отдельная, особая.
Анна Марковна стоит у своего стола с инструментами. Лицо ее закрыто, видны только измученные, старые глаза. Теперь никто не поверит, что ей тридцать девять лет. Теперь всем видно, что ей под пятьдесят. Но ее измученные глаза все время следят за хирургам.
– Сестра, пеан!
Он еще не договорил, а пеан уже у него.
– Шарик!
И шарик тут.
– Щипцы Листова!
Весь ход операции ясен Анне Марковне. Неотрывно она следит за хирургом. Ловкие, короткопалые, пухлые ее ручки никогда не запаздывают, никогда не задерживаются, никогда не ошибаются.
Ассистирует Русакову мама Флеровская. Я вижу ее блистающие кротким светом глаза, вижу ее руки в перчатках, вижу ее голову, повязанную белым платочком – низко по брови, – вижу, как она растягивает сверкающими инструментами рану, чтобы Русакову было удобнее работать, и вспоминаю, что мама Флеровская стоит тут вторые сутки.
Вторые сутки!
Прошлые сутки она оперировала, теперь ее сменил Русаков, но она не ушла, остались. Я слышу сиплый голос Русакова:
– Наталья, пойди посмотри, сколько их там.
Пока Русаков, сидя на табуретке, пьет холодную воду, я выхожу из операционной по ступенькам наверх. От, воздуха, от света, от ветра, от солнца, от прозрачной голубизны неба у меня кружится голова и перед глазами мелькают золотые мухи. Тут на носилках и просто так, на шинелях, лежат раненые. Почти никто не стонет. Тихо, только ветер посвистывает да жужжит за сопками самолет. В сортировке я считаю раненых, назначенных на операцию. Четверо, Один высокий, горбоносый, заросший черной щетиной. Ему коротки носилки, и ноги его в грязных хромовых разодранных сапогах свешиваются с носилок.
Другой, с тяжелыми скулами, о маленькими медвежьими глазами, страдает невыносимо и говорит мне негромким голосом:
– Нельзя ли морфию, сестрица. Или пантопону!
Тут работает Варя. Шепотом она говорит мне:
– Нельзя ему. Ничего ему этого нельзя. Давали ему, все время давали, только что давали…
Два других раненых в забытьи, один что-то шепчет белыми губами, другой дремлет.
– Четверо, – докладываю я Русакову, – один грузин, один капитан, два бойца.
Русаков кивает усталой головой.
Несколько секунд он спит. Я вижу, как он проваливается туда, в сон. Это происходит мгновенно. Голова Русакова свешивается, шапочка падает; с его лысой головы, он всхрапывает и тотчас же испуганно открывает глаза.
– Да, – быстро говорит Русаков, – да, да, да…
Вытирает губы ладонью и идет мыть руки к умывальнику. Моясь, он поет:
Белой акации гроздья душистые…
Голос у него хрипловатый, глаза закрываются г сами собой.
Маму Флеровскую вызвали. Теперь Русаков будет оперировать почти один. «Белой акации…» – напевает он, подходя к столу. Потом спрашивает:
– Фамилия?
– Капитан Храмцов, – следует ответ. – Игорь Николаевич.
– Артиллерист?
– Пехотинец.
Это тот самый капитан, который просил у меня морфию или пантопону.
– Так-с, – тянет Русаков, – так-с, молодой человек, так-с…
Я стою на своем месте возле стола. Я вижу, как дрожит кожа на груди раненого, я вижу, как струится пот по его лицу. Он лежит, голый, ширококостный, и все его большое тело покрыто большими и маленькими ранами. На нем почти нет живого места, только лицо и голова не ранены.
– Так-с, капитан Храмцов. – тянет Русаков, – так-с… А вот знал я одного… прозектора… тоже Храмцов… Это не родственник ваш?
Анна Марковна дает маску. Храмцов дышит и ругается. Тяжелая, злобная ругань вылетает из его горла. Он ругается, борясь с наркозом, и Русаков не без удовольствия бормочет:
– Боевой капитан…
Начинается операция.
Моя ладонь вся мокрая от пота. Этот капитан весь взмок, пока его готовили к операции. Я все время гладила его по широкому лбу. Я не знала раньше, что люди могут так потеть от боли.
– Так-с, – кряхтит Русаков под своей повязкой, – вот мы сейчас таким путем…
Его могучие руки с осторожной и умной силой работают где-то в брюшной полости. Его зоркие, немного рачьи глаза в кровавых прожилках смотрят туда, где работают пальцы. Глубокое молчание, почти ничем не прерываемое, царит в нашей операционной. И вдруг я вижу, как большое усатое лицо Русакова внезапно искажается, дикая гримаса пробегает возле глаз, выражение смертельного страдания сменяет нелепую гримасу, и все, что не закрыто шапочкой и повязкой, бледнеет в одно мгновение.
– Морфий! – слышу я хриплый голос.
Кому морфий? Что случилось?
Никто ничего не понимает. Со звоном падает и разбивается какая-то склянка.
– Морфий, – опять хрипит Русаков.
И тут я догадываюсь. Я вспоминаю то, что я слышала о странной болезни хирурга. Я понимаю – с ним припадок. Я понимаю – его руки в брюшной полости, на нем стерильный халат, он весь стерилен, к нему нельзя притронуться. И бросить операцию он не может.
– Морфий, морфий, морфий, – хрипит Русаков, и его рачьи глаза почти лезут из орбит, – морфий, дуры, скорее!
Судороги сводят его лицо.
Я хватаю шприц. Где-то на пути я встречаюсь с взглядом Анны Марковны. Я захожу к руке.
– Назад, идиотка, – хрипит Русаков, – не подходить ко мне!
Я останавливаюсь со шприцем. Я запуталась, я пропала.
– Куда же? – спрашиваю я. – Куда колоть?
– В зад!
– Но вы же одеты… брюки…
– Через штаны…
Он отставляет круглый, большой зад.
– Левее, – как сквозь туман слышу я голос Анны Марковны, – выше!
Я колю левее и выше и надавливаю поршень. Мое сердце страшно колотится. Бегут секунды. Все мы – несколько пар глаз – уставились на Русакова. Мы видим, как он дышит. Мы видим, как он ждет. Еще несколько секунд – и мы слышим голос:
– Сестра, салфетку.
Операция продолжается. Я смотрю на Русакова и ничего не могу понять: он, толстый и пожилой человек, некрасивый, с носом картофелиной и рачьими глазами, сейчас вдруг стал так дорог и мил мне, так неизмеримо громаден по сравнению со всеми нами, что мне кажется, будто это не он, а другой, не тот, которого я знала уже нисколько недель, а совсем, совсем иной человек.
Но это он, он. Опять он противно кряхтит, как кряхтел раньше, двадцать минут назад:
– Так-с, так-с…
Опять ругается:
– Сестра! Черт! Санитарка! Дура! Поросятина!
Я слушаю это, и чувство моей преданности к нему все растет, мне хочется, чтобы он меня выругал, если это доставляет ему хоть каплю удовольствия. Операция закончена.
Рудаков выходит из операционной и ложится на камни. В халате, с короткими ногами, усатый и краснолицый, ой теперь напоминает мне толстого и плутоватого кота из какой-то позабытой детской сказки. Особенно, когда храпит:
– Куррр-муррр, куррр-мурр.
Кот, нарядившийся в белый халат для каких-то своих проделок.
Я опять считаю раненых и не верю своим глазам.
– Было четверо, оперирован один, осталось двадцать восемь.
Как же это так? Я снова считаю. Этого просто не может быть.
Я бужу Русакова. Он встает мгновенно и мягко, и мне кажется, что он еще должен потянуться, как кот, но он почему-то не потягивается.
– Двадцать восемь, – говорю я, – еще двадцать восемь.
– Двадцать восемь, – покорно повторяет Русаков.
Ему приносят кружку чаю, он медленно пьет и спускается в операционную. На столе уже новый раненый. Потом еще и еще.
– Сестра, кетгут, – слышу я как сквозь сон, – какого черта, идиотские свиньи…
Собственно, он ругает не нас. Он просто бормочет, это почти как бред.
А ночью я опять докладываю:
– Двадцать один.
Мама Флеровская становится на место Русакова. Он спит, сидя в сенях землянки, и курлычет:
– Курр-мурр, куррр-мурр.
Я сажусь на пол и тоже засыпаю.
И просыпаюсь от холода. Утро. Там, наверху, хлещет дождь. Шатаясь, я выхожу. За огромным валуном разгружается машина. Я плохо соображаю. Шурик Зайченко разгружает раненых и, заикаясь, покрикивает:
– П-полегче! Разом!
Это очень странно, но Шурик зарос бородой. Никогда не думала, что у него растет борода.
– Устал, Шурик? – спрашиваю я.
– Ч-чепуха! – отвечает он. – Вздор! – И вновь командует: – П-полегче! Дружно!
Легкораненые приходят сами. Тяжелораненых привозят. Мы все разделены на бригады. Мы работаем еще сутки. Мы сортируем, оперируем, перевязываем, лечим, кормим, грузим в машины и отправляем. Все это называется поток.
Поток кончился.
Немцы и финны наступают. Везде, всюду они наступают, лезут вперед, прут. Отовсюду дурные вести. Валит снег. Холодно. Я простужена. Доктор Русаков стоит у двери своей землянки и свистит про белую акацию. Я знаю, что это значит; он думает о семье, которая пропала без вести где-то на западе.
Мой пана ничего не пишет. Свистит осенний, холодный ветер.