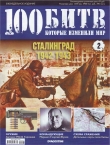Текст книги "Далеко на севере"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Декабрь
Немцев бьют под Москвой. Немцы отступают. Немцев можно бить. Вот в чем все дело. Теперь доказано, что немцев можно бить. И теперь их будут бить все сильнее и сильнее, все жестче и жестче, потому что есть пример.
Наши раненые лежат с просветленными лицами.
Мы все ходим от человека к человеку и рассказываем все то немногое, что знаем сами. Но с нас спрашивают, как с очевидцев, и сердятся, что мы еще не знаем подробностей, что мы лаконичны и что рассказ наш короток.
– Да вы, сестра, позвоните туда, что ли, – раздраженно говорит молодой артиллерист, – куда ж такой рассказ, только в общем и целом. Мы люди военные, нам поподробней надо…
С переднего края пришла машина, привезла двух раненых. Один сердито спрашивает:
– Может, тут кто знает, побили немцев под Москвой?
– Побили.
– Честное комсомольское?
– Честное…
– Ну, брат, – кричит боец своему товарищу, – ну, брат Серега, живем!
Я веду обоих в перевязочную – так называется у нас землянка возле обрыва. Военврач Русаков велит положить Серегу на стол и моет руки – удалять инородные тела из Серегиной ноги.
– Что же, отрезать будете? – уныло спрашивает Серега.
– Зачем же такую ножку отрезать, – следует ответ, – такую ножку отрезать не надо. Прелестная ножка. Вот мы ее сейчас почистим, раскроим кое-что, возродим к новой жизни… Так-с!
Во время операции Серега ведет себя спокойно и мужественно, а военврач разговаривает. В своей землянке военврач не договорил до конца, не обсудил полностью стратегические и тактические планы немцев, подготовку нашего удара, результаты удара, и сейчас ему так же необходимо разговаривать, как дышать. Он высказывает предположения, Серега подтверждает предположения военврача хмыканьем и коротким междометиями.
– Вот тебе и Гудериан, – говорит Русаков, близко наклонившись над раной и точно бы ловя там осколок, – вот и Гудериан… Есть, поганец!
– Еще? – спрашивает Серега.
– Еще.
– Большой?
– Маленький, крошечный. Да ты, брат, не волнуйся, я все тебе сохраню на намять. Вы ему, сестра, все осколки заверните, он любимой девушке после войны будет показывать, знаю я их.
Серега хмыкает, но тут же стонет.
– Ну, не стонать, – ворчит Русаков, – нечего тут стонать. Ничего особенного не происходит, пустяки, вздор. Сейчас мы его, сейчас… Так-с.
Это «сейчас» тянется довольно долго. Отыскать все осколки не так просто и легко.
– Есть? – спрашивает Серега.
– Не торопитесь, не на свадьбу, – сердится Русаков, – нетерпеливый, право, какой!
Моя руки после операции, Русаков продолжает говорить о Гудериане. Серега подает реплики. Реплики его обнаруживают в нем живой ум, какой-то особенный, сердитый юмор, острую наблюдательность. Русаков идет за носилками, на которых несут Серегу, размахивает руками, громко объясняет:
– Великий писатель русский Лев Николаевич Толстой словами князя Андрея говорил, что на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты. Относительная сила войск никому не может быть известна. Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни от числа, а уж меньше всего – от позиции. Успех зависит от того чувства, которое есть в каждом солдате. Понятно?
– Непонятно, – отвечает Серега.
– Почему же?
– Набуравлено тут чего-то, потому что я могу вас заверить – вооружение нынче тоже в дровах не валяется.
– Да брось, – громко и сердито кричит Русаков, – брось, тут в высшем смысле, в самом наивысшем, тут не в смысле ППШ или ППД, тут другой, высший смысл…
– Дай боже такого смысла, как в ППШ, – говорит Сергей, – хорошая вещь, чего там…
Они скрываются в землячке, и Русаков приходит назад через час, разъяренный и злой.
Входит – и в ту же секунду начинается огневой налет по нашему медсанбату.
Пятница
Сколько у меня уже знакомых, приятелей, друзей – это даже невозможно себе представить.
В вагоне железной дороги, на маленькой разбомбленной станции, на шоссе, в городишке, на батарее, в полку, у связистов, в штабе, на КП дивизии, у пограничников, просто на лесной военной дороге – всюду, всегда, постоянно я встречаю друзей и товарищей, которые сторицей расплачиваются со мной за те часы, которые я провела с ними, когда им было плохо, когда они стонали, хрипели, ругались, охали.
Иногда я не помню, они мне напоминают.
Иногда они не узнают старых знакомых.
И как пароль произношу заветные слова:
– После победы ровно в шесть часов…
Что только тогда делается! Какие слова произносятся! Сколько извинений я благосклонно принимаю. Как меня угощают, сколько милых и незаменимых услуг мне оказывают. И вообще мне легко и просто живется именно из-за этих людей, из-за товарищей моих, из-за друзей.
Вот этот – Маслов Алеша, был ранен в грудную клетку, ему было довольно плохо, его долго лихорадило, лежал с «телефончиком», я писала письма его девушке и даже помню, как ее зовут: Туся. И ему я сказала:
– Здравствуй, Туся!
Мы встретились с ним на лесной дороге. Он шел на лыжах, румяный, крупный, сильно вышагивал длинными ногами, и я крикнула ему:
– Здравствуй, Туся!
Все вокруг было в инее: и сосны, и телефонные столбики, и провода. Маслов посмотрел на меня дикими глазами, потом просиял, потом бросился ко мне.
– А как «телефончик»? – спросила я.
Захлебываясь, он начал рассказывать мне про свою Тусю, как она приехала на фронт, как она сейчас тут неподалеку работает санитаркой, как они встречаются, как он ей говорил про меня, как он меня искал и не мог найти. Я слушала его, смотрела на него и самонадеянно думала, что, может быть, я немного причастна к тому, что он сейчас здоров, идет на лыжах, рассказывает про Тусю, воюет – ведь все-таки я сидела по ночам над ним, я перевернула его тогда, на заре, когда ему сделалось совсем плохо, я…
По будем хвастаться, дорогая Наташа, не будем прикидываться добрым доктором Гаазом.
А все-таки…
Не будем же, Наташа!
А один в меня влюбился, поздравляю вас, узнал бы об этом мой папа! Но как влюбился! И хоть мне это было в общем смешно, но все-таки немножко приятно тоже было. Только он очень красиво об этом мне рассказывал. Прямо почти и стихах. А я стихи не люблю. Я слушала, слушала, потом спрашиваю:
– Товарищ лейтенант, а помните, как вы кричали: «Нянька, судно! Нянька, утку! Нянька, сейчас рвать буду!»
Он смотрит на меня обалделыми глазами.
– Что вы хотите этим сказать?
Я отвечаю:
– Ничего особенного. Просто вспомнилось. Нянька-то ведь я была. А у вас сделалось расстройство потому, что вам какая то рябенькая девушка орехов принесла, и вы ими объелись. Помните?
Сразу перестал лейтенант красиво говорить, И сделался парень как парень. Веселый, простой.
И его я встретила на военной дороге; кого я только не встречала: то возле нашей медсанбатовской развилки, то внизу, где мост, то на заставе, где проверяют наши документы, то в кузове попутного грузовика, то на дровнях…
Вот недавно финны почти на дорогу выскочили. А их решили отрезать. Всю эту группировку, которая к нам влезла. Завязалось дело. А я как раз по этой дороге ехала в дровнях, ящик крови везла. Вроде чемодана такой ящик.
Есть у нас учреждение – называется «Служба крови». Учреждение это поставляет кровь для переливания туда, где эта кровь нужна. Сложное учреждение, умное и вместе с тем простое. И самое дело интересное – служба крови. А дружинницы, которые возят кровь в ящиках и собирают назад посуду от крови, называются экспедиторшами.
Вот пришлось мне стать экспедиторшей на два дня, потому что Лидочку, экспедиторшу, ранило на дороге. И чемодан ее с кровью разбили. Вообще это дело опасное работа экспедиторши. Кровь обычно нужна там, где бои, а если бои, то дороги и обстреливают, и бомбят. Только ведь кровь не ждет, ее нужно быстро-быстро доставлять, вот девушки и несут эти чемоданы под любым обстрелом, под любой бомбежкой.
Короче говоря, Лидочки нет, а кровь нужна. Вот я и отправилась с дозволения нашего Телегина. Туда благополучно, а назад застряла. Нет проезда. И кругом не проехать – все простреливается. Как быть?
Заехали мы с дровнями на какие-то кочки и встали. В лесу так и визжит все. Возница мой совсем скис, старый дед, маленький, мохнатый. «Пропадем, – говорит, – нельзя дальше ехать, убьют нас с тобой».
Уговаривала и его, уговаривала – никак. Рассердилась, взяла чемодан и пошла пешком одна. Где пройду, где проползу, где посижу – отдышусь. И вот так сижу – вдруг слышу, по-фински говорят. Батюшки мои! Что делать? Куда деваться? Часа полтора ждала, пока они не ушли. Очень было неприятно. А потом опять шла-шла – и встретилась с нашим боевым охранением.
До смерти обрадовалась, залепетала что-то, как старуха: «Миленькие мои, дорогие!»
Они на меня глаза выпучили, Откуда? Как? Почему? А один меня сразу узнал – из бывших моих раненых.
– Ну и девка, – говорит, – отчаянный экземпляр человеческой породы. Чего в чемодане-то?
– Кровь.
Отправили меня на КП. А я уже еле иду. Совсем измучилась. Пришла, а там и командир знакомый – Анохин некто, сразу на меня закричал:
– Таскаются тут, управы на вас нет, кто разрешил, безобразие…
Я села и сижу, и все у меня перед глазами так и ходит. И не заметила, как уснула. Вдруг кто-то меня будит:
– Покушай, девушка!
Расставили на ящике угощение и сами все сели – три командира: командир части, комиссар и еще один из саперов, пожилой, Евтихий Семенович. А самое интересное, что несколько месяцев назад они все лежали у нас, а теперь я их встретила.
– Кушай, – говорят, – кушай поскорей.
– Некогда мне, – отвечаю, – я и так проспала.
И так мне хорошо, тепло тут, дымом пахнет, чай крепкий, сладкий-пресладкий. Ну просто не сдвинуться. Все-таки стакан выпила и встала. А Евтихий Семенович и спрашивает:
– Умеешь, дочка, верхом ездить?
– Плохо, – отвечаю. – Не ездила.
Вышли они все меня проводить, там уже двое верховых меня дожидаются, и для меня лошадка, мохнатая, пузатая, тихая. Я на нее взобралась, чемодан мой мне за спину пристроили, и поехали. А командиры мне вслед руками машут. Очень мне было хорошо той ночью.
Ехали-ехали и приехали. Кто-то в нас стрелял, но благополучно все обошлось. Чуть не забыла, когда прощались с командирами, я им сказала:
– В шесть часов…
– После победы… – сказал Анохин.
– После войны… – добавил комиссар.
– В Ленинграде, под аркой Главного штаба, – засмеялся Евтихий Семенович.
– И не опаздывать, – заключила я, – терпеть не могу, когда после войны опаздывают.
От верховой езды долго потом болели ноги. Трудно без привычки, как сказал у нас один боец, когда ему ампутировали палец.
Среда
У нас вновь поток. Не такой, как тогда, но все-таки поток. И насколько иначе все это организовано. Иногда мне даже кажется, что это не мы, что это другие люди работают. Все изменилось, все стало четче, определеннее, яснее, мы многому научились, и Телегин, вообще скупой на похвалы, вчера вечером нам сказал, что мы молодцы. Шурик Зайченко тут же попытался что-то философски обобщить, но номер не прошел, его никто не стал слушать.
Одно плохо – заболел Русаков: лежит у себя в землянке под тулупом, лицо сморщилось, шевелит усами и кашляет. Слабость у него ужасная, смотрит в стену, слова от него по добьешься. Тася, я, Капа, Варя по очереди дежурим у него. Он нас точно не замечает.
Мама Флеровская совсем измучилась. Не спит, час за часом работает у операционного стола. Но глаза ее так же блестят юным и теплым светом, голос глубок и ровен, и не меркнет ни на секунду та сила любви к раненым, из-за которой весь наш участок фронта называет Флеровскую матерью.
Она никогда ни с кем не сюсюкает, не произносит сладких слов, не называет раненых «миленьким», «сыночком», «лапушкой», но вся точно светится состраданием, теплом, любовью и не в пример иным, для которых раненый есть тот или иной медицинский случай – «спина», «живот», «грудная клетка», – для нес каждый раненый имеет имя, фамилию, характер, человеческие и гражданские качества. Я не раз от нее слышала:
– Вы с ним поосторожнее, он очень обидчивый человек.
Или:
– Афанасьев сам ничего не попросит. Он вчера спал, когда сахар разносили, его нечаянно обнесли, он и не попросил – самолюбив очень.
Или так:
– Я вчера заметила, Тася, что вы изволили назвать Невкушенко просто раненым. А он вас назвал в ответ Тасей. Очень сожалею, что мне приходится говорить вам об этом, но Невкушенко, который вынес с поля боя своего командира, закрыл его своим телом и был ранен, имеет право, чтобы некая Тася знала его фамилию.
Тася стоит красная, в глазах у нее слезы, она кусает губы и хрустит пальцами.
Сегодня ночью маму Флеровскую, простоявшую у стола ровно восемнадцать часов кряду, Телегин отправил спать. Флеровская ушла, и я была уверена, что она спит, когда вдруг увидела такую картину: в полутемной землянке, при свете красных отблесков от времянки, на коленях у койки раненого стоит Флеровская и кормит раненого с ложки компотом. Я выскочила и позвала Телегина. Мы оба встали с ним в дверях и услышали тихие слова мамы Флеровской.
– Вы, Николай Иванович, человек молодой, и все еще у вас впереди. Если эта девушка разлюбила вас во время войны, то это значит, что она вас попросту никогда и не любила, и встретите вы другую девушку, лучшую, полюбите ее еще крепче… Ну-ка, съешьте – это абрикос, а косточку сюда выплюньте.
Так Телегин ей и не сказал ничего в эту ночь, а когда спросил ее наутро, почему она, вместо того чтобы спать, кормит раненых компотом, она вспыхнула и ответила:
– Его супом покормили и вторым покормили, а про компот забыли. Я прохожу, вижу – стоит компот…
– Ну?
– Я и решила быстро покормить Егоркина.
Глаза мамы Флеровской смотрят прямо на Телегина, и взгляд ее так и лучится мягким, горячим светом. Вот таким и должен быть доктор.
Сколько бы лет жизни я отдала, чтобы быть чуточку похожей на маму Флеровскую. Хоть чуточку. Хоть немножко.
Сегодня вечером Русаков вышел из своей землянки. Он очень похудел, щеки его обвисли, под глазами мешки, взгляд неподвижен. Что-то с ним случилось. Анна Марковна ночью плакала и вздыхала, Телегин ходит мрачный, даже Шурик не философствует, не обобщает.
А раненых все подвозят и подвозит.
Поток продолжается.
На наш участок приехала групна усиления – есть такие подвижные группы на фронте. Вместе с группой приехал главный хирург. Я пошла вместе с ним; меня послал Телегин. Александр Евгеньевич – человек среднего роста, широкоплечий, необыкновенно вежливый, никогда я не слышала от него приказания. Говорит он обычно так:
– Видите ли, на мой взгляд, стоило бы поступить так-то и так-то.
Или:
– Я считаю, что это будет не совсем правильно.
Или еще:
– Было бы отлично, если бы вам удалось попытаться…
Как-то ночью, ветреной и сырой, мы попали в место, где разворачивался полевой подвижной госпиталь. Было темно, хоть глаз выколи, врачихи, приехавшие из тыла, нервничали, одна, молоденькая, плакала и говорила:
– Баранов, почему вы меня не слушаете! Баранов, вы должны меня слушать! Баранов!..
Александр Евгеньевич позвал к себе этого невидимого в темноте Баранова и что-то сказал ему негромко и вежливо. Я не расслышала, что сказал, но сказал так, что Баранов весь вытянулся и дрожащим голосом забормотал:
– Есть, товарищ начальник! Будет выполнено, товарищ начальник!
Потом мы работали в подвале станции Л. Станцию непрерывно бомбили, Александр Евгеньевич оперировал под бомбежкой, и я надолго запомнила секунды, когда он выжидал, пока вокруг все сыпалось, трещало, падало, выжидал, стоя над раненым в перчатках, в халате, в шапочке, а потом опять продолжал оперировать, плести тончайшие кружева своими замечательными руками, удалять инородные тела, ампутировать, обрабатывать раны…
Странные дни и ночи, Мы подолгу идем пешком. Тут нигде не проедешь, все простреливается, и мы ходим, точно маленькая бродячая труппа. Нас везде встречают с распростертыми объятиями, мы везде дорогие гости, мы везде нужны. Но никому не приходит в голову, что Александр Евгеньевич страшно устал, что он только что прошел восемь километров, а перед тем как пройти эти восемь километров, тоже оперировал, а до этого прошел одиннадцать километров и ночью не ложился спать ни на минуту.
Однажды Александр Евгеньевич попросил:
– Нельзя ли рюмку водки…
Но за грохотом канонады никто не расслышал этой просьбы. Александр Евгеньевич вздохнул и принялся мыть руки для операции.
Оперировал раненого майора-одессита. Операция была длинная и мучительная. Майор молчал. Мучился он ужасно. Потом, под конец, громко и внятно произнес:
– Ой, мама-мамочка, возьмите меня из этой гимназии.
ШУРИК ЗАЙЧЕНКО ВСТРЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИКА
– Ты понимаешь, Наталья, я ехал в грузовике, и вдруг пробка. Много машин собралось. А небо какое-то неспокойное. Я достаточно повоевал, для того чтобы ощущать небо, спокойное оно или на него нельзя положиться. Это очень тонко, это почти необъяснимо, но для военных ясно. Одним словом, я на небо посматривал и ждал от него всяких гадостей. Оно потенциально было мне враждебно. Так и оказалось. И пробка. И машины с боезапасом. И передние машины встали безнадежно. Первая там буксует, объехать невозможно, а немцы тут как тут. Отвратительное ощущение. И как назло, в первой машине шофер психопат. Разнервничался и совсем засадил свой грузовик.
Ну вот, я иду, иду возле обочины и слышу ужасно знакомый голос. Тут бомбы надают, и я не то чтобы уж очень прямо шел, я шел, слегка согнувшись, потому что глупо же умереть ни за понюшку табаку, и вдруг вижу: наш начальник в своей шипели, в фуражке, совершенно так же стоит, как тогда у нас в медсанбате во время артналета. Только тогда он молчал, а тут ругается. Ну, я должен тебе прямо заметить, что он довольно сильно ругался, настолько, что мне сразу пришла мысль, все ли у меня в порядке и по нужно ли мне податься в сторонку.
И вдруг вижу – залезает начальник в грузовик, садится за баранку и начинает ее крутить, А я в канаве сижу. Тут как засадит бомба неподалеку, потом вторая…
А бойцы помогают машину вытащить.
И посмотрел, потом тоже полез помогать. Вообще состояние у меня было нервное.
Короче говоря, вывез начальник первую машину, разбросал остальные, ликвидировал пробку и поехал дальше. И самое интересное, что машина его была впереди пробки, он мог уехать из зоны бомбежки, вовсе не занимаясь тем делом, которым он занимался.
Вообще я тебе должен сказать, Наталья, что наш начальник, если вдуматься ж обобщить, если проанализировать, как должно нам, материалистам и марксистам, если не скользить эмпирически, если…
И пошли «если» и всякие Шурины «измы».
Вторник
Мама Флеровская сказала мне, что жена и взрослая дочь Русакова убиты немецкой бомбой. Вот в чем дело. Анна Марковна, которая знала семью Русакова, плачет по ночам. Русаков молчит, Вчера от него пахло спиртом.
Еще три часа, и будет Новый год.
Здравствуй, новый год! Что-то ты принесешь нового, новый год? Чем нас порадуешь?
Ночь морозная, лунная, я сижу на корточках возле печурки и топлю, топлю, подкидываю маленькие поленца, мешаю самодельной кочережкой, думаю…
Девушки за моей спиной потихонечку гадают, и до меня доносятся слова о бубновом короле, о казенном доме, о дальней дороге, о письме.
А он не приходит и писем не пишет, и никто ничего про него не знает.
Как мне жить без него? Как?
Пришел Шурик Зайченко и пригласил меня гулять.
Так мы и прогуляли с ним почти до самого Нового года и ввалились в землянку, когда девушки наши уже выходили нам навстречу – идти к раненым встречать Новый год.
Встретили, а потом долго сидели в полутьме и вместе с докторами и сестрами пели песни, пели про костер, который в тумаке светит, пели «Выйду-выйду в рожь я высокую», а потом Анна Марковна пела «Синий платочек».
Русаков выпил несколько рюмок водки, и я заметила, когда Анна Марковна пела про синий платочек, из выпуклого глаза хирурга выкатилась слеза и медленно поползла по щеке в усы.
С Новым годом! Здравствуй, мой замызганный, старый, грязный дневник, в новом году. И все мои друзья и знакомые, здравствуйте! С Новым годом, папа! С Новым годом, некто капитан Храмцов! С Новым годом, все мои далекие друзья, все, кто помнит меня сейчас, в эту морозную, студеную ночь!
Мне грустно почему-то.
Должно быть, потому, что Шурик Зайченко объяснился мне в любви. Ну что я могу сказать? Ах, если бы эти слова мне сказал не Шурик, а другой человек, совсем другой и совсем непохожий.
А Шурик говорил, говорил, а потом поскользнулся и упал. Я засмеялась, а он обиделся.
Тася сказала:
– Жалко, нет нашего капитана. С ним бы повеселее было.
Почему – нашего?
Я против Таси ничего решительно не имею, она хорошенькая девушка, которая так хрустит пальцами и при мужчинах смеется совсем иначе, ненатуральным смехом, а при своих – натуральным. Кроме того, у нее сломался зуб, и она пришепетывает.