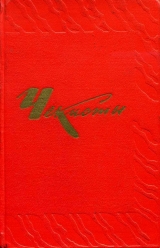
Текст книги "Чекисты"
Автор книги: Юрий Герман
Соавторы: Аскольд Шейкин,Михаил Николаев,Владимир Дружинин,Владимир Дягилев,Василий Васильев,Елена Серебровская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
13
«Он ненавидел во мне прежде всего – коммуниста...»
(Из рассказа следователя)
Откуда же взялась такая упорная, деятельная ненависть? Какими соками питалась, чем поддерживалась? Судьба вела Федора Гришаева по закоулкам, по задворкам, звериным тропам. Мрачным событием отмечено его раннее детство: отец – алкоголик, опустившийся человек, покончил жизнь самоубийством. Федор попал в дом сельского богатея, возможно, что именно там он впитал первые капли яда собственнической психологии; еще подростком, одаренным, энергичным, понимающим свое превосходство над сверстниками и обделенным судьбой, Федор решил, что только силой, обманом и нахальством можно добиться лучшей доли. Зависть к чужому богатству разъедала его душу, как ржавчина. Пожалуй, в тех обстоятельствах вышел бы из него матерый беспощадный кулак.
Революция согнала тринадцатилетнего подростка с места, а в детприемниках, колониях, приютах для беспризорных он долго не задерживался: привлекала его жизнь бродяги и вора. К великому его несчастью, не встретился ему на пути человек, подобный Макаренко, не нашел он и хороших друзей-ровесников... Из мест заключения Федор ухитрялся бежать. К работе, к честному труду он относился с отвращением – гордился тем, что прожил жизнь не работая.
Вот его идеал «хорошей» жизни:
«В лагере (в американской зоне) были хорошие условия, даже публичные дома». «В Германии я жил неплохо, занимался спекуляцией». «В Мюнхене... имел большие барыши от контрабанды, было на что погулять». «Только в войну я понял, какая может быть настоящая жизнь...»
Война дала ему власть над людьми – одно из самых сильных искушений для неустойчивых душ. Не случайно фашисты почувствовали в нем своего человека. Его похлопывали по плечу, когда он из леса приносил одежду и обувь убитых, его угощали коньяком за то, что он предательски убивал своих соотечественников. Ему вручали награды, его взяли с собой в Данию, когда пришла пора уносить ноги с советской земли. Он еще немало послужил своим хозяевам и в дальнейшем: врываясь на русском танке под видом советского командира в расположение наших частей, он давил гусеницами наших солдат, а затем хитростью и обманом возвращался к своим, за линию фронта. Но после войны фашисты попрятались, а ему пришлось устраиваться самому. Он и о них говорит со злобой: «Они меня обманули...»
Он предпринимает новый ход: с букетом цветов является в советскую комендатуру в одном из австрийских городов и поздравляет с праздником Победы... Он продолжает лгать, скрывая свое прошлое и в фильтрационном лагере и позже, после освобождения. И вот он «скатился»: «букашка», «хрюкалка», как говорит он о себе с раздражением.
Кого же винить в своих неудачах, в бесславном существовании под конец «бурной» жизни? Кого же, как не коммунистов, считающих доблестью труд; кого, как не их, всегда утверждающих, что силы добра непобедимы, кто считает проявлением высшего человеческого долга отдать свою жизнь за равенство, братство и счастье всех людей? Кто, как не они, коммунисты, вместе со всем советским народом победили фашизм в Великой Отечественной войне? Как ни ругает Гришаев и фашистов, но все же помнит, что они его когда-то пригрели...
И вот он очутился лицом к лицу с одним из коммунистов, следователем Алексеем Михайловичем. Если бы тот был только слепым исполнителем закона, тогда Федор мог бы еще понять! Нет, это был противник, глубоко убежденный в том, что таким людям, как Федор, нет места на нашей земле!
Невозможно даже перечислить все уловки, все хитросплетения, которые придумывал Федор в своей борьбе со следователем. Он, ненавидящий Советскую власть, цинично пытался использовать советский закон, чтобы запутать следствие, опорочить и следователя и свидетелей. Читаешь многотомное дело, и вдруг начинает казаться, что ты уже бредишь: откуда-то вдруг всплывает вязальная машина... При чем тут она? Оказывается, Федор пытается опорочить свидетеля, якобы забравшего у Милки эту машину и потому заинтересованного в том, чтобы Федора осудили. То возникает переписка о каких-то трехстах рублях, взятых взаймы свидетелем у Федора, и человека начинают вызывать в партийное бюро, спрашивают, обсуждают... Он пишет жалобы прокурору, пишет в Военную коллегию Верховного Суда. Куда только он не пишет! И вот – последний его «заход», уже после суда: просьба о помиловании.
Передо мной большой лист с круглой красной печатью Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик:
«...В просьбе о помиловании о т к а з а т ь».
Федор Гришаев был приговорен к высшей мере наказания – суровой, справедливой каре, заслуженной убийцей и предателем.
И вот еще одно небольшое служебное письмо, адресованное в псковскую деревню: матери девушки Тани сообщается, что плюшевый черный жакет, взятый как вещественное доказательство, теперь может быть возвращен...
«Высшая мера, – перечитываю я. – Высшая мера». И сами собой рядом с этими словами возникают в памяти другие слова из партизанской грозной песни:
«...За великие наши печали, за горючую нашу слезу...»
ВАДИМ ИНФАНТЬЕВ
У САМОГО КРАЯ
Людям свойственно увлекаться. Одни целиком поглощены своей работой, из таких вырастают крупные ученые, художники, мастера; другие одержимы страстью к музыке, к рыбалке или коллекционированию, это счастливые люди – в них горит любовь, она не подвластна ни возрасту, ни обстоятельствам.
Но когда видишь на улице Бродского у Европейской гостиницы или на Исаакиевской площади у «Астории» молодых парней, заискивающе поглядывающих на иностранцев, мысль об увлеченности как-то не приходит в голову, испытываешь чувство стыда и брезгливости, хочется подойти и сказать: «Послушай, ты же человек, гражданин, а не бездомный пес, обнюхивающий чужие ноги».
Есть что-то ущербное в поведении и облике этих парней, будто отрыгнулись в них через полстолетия раболепство трактирного лакея и продажность мелкого фискала.
Их мало в нашем большом городе, и поэтому они еще резче бросаются в глаза.
Невольно задумываешься о судьбе такого парня. Как он будет жить дальше? Может, сам опомнится и станет трезво смотреть на окружающее. А если не опомнится? К каким последствиям приведет его собственное неуважение к себе?
Хорошо, если в последний момент его остановят у самого края и не дадут стать преступником, о чем рассказано в этой документальной повести. А если не успеют?..
1
Он ожидал всего, только не этого. Он вздрагивал при отрывистых звонках трамваев, доносившихся с улицы. Несмотря на запрещение звуковых сигналов, водители нет-нет, да и грешили, отпугивая вышедших на рельсы зевак. Конечно, звонок должен быть не такой. Он явственно представлял, какой это будет звонок, – длинный, настойчивый, властный. Он раздастся обязательно ночью. Мать сбросит цепочку, откроет дверь, и сразу в квартиру войдут люди в шинелях, в штатском, за ними дворник и кто-либо из соседей с испуганно-заспанными лицами.
Однажды звонок раздался именно ночью. Сергей вскочил с постели. Звонок был продолжительный, долгий, он не прекращался. Он звенел и звенел. Сергей думал только об одном: «Пусть мама откроет дверь, она проснется, и это будет для нее какой-то подготовкой, хуже, если она с постели увидит ночных посетителей». Но мать не вставала, а звонок все звенел. В квартире было тихо, – шумело в ушах, колотилось сердце, и звенел звонок. Он доносился с улицы. Почему с улицы?
Сергей подошел к окну, распахнул, и сразу стало холодно. Блестели мокрые от росы трамвайные рельсы. На панели метались милиционер и несколько не совсем трезвых мужчин. Они размахивали руками и смотрели в одном направлении. Наверно, на дверь кафе «Улыбка» в соседнем доме. Сергей побоялся высунуться из окна. Он вспомнил, что над дверью кафе был укреплен большой электрический звонок.
Тело тряс озноб, воздух на улице был влажный. Звонок не унимался. На панели собиралась толпа.
Сергей до утра не заснул, ворочался с боку на бок, курил до тошноты, пил воду из горлышка графина.
Утром мать спрашивала, что с ним, почему не ест и вид утомленный. Сергей сослался на бессонницу, подождал до одиннадцати, когда откроется кафе, спустился на улицу, заказал стакан томатного сока и спросил знакомую буфетчицу о звонке. Та отмахнулась:
– Ерунда получилась, кто-то не закрыл на шпингалеты окно, ночью поднялся ветер, рама распахнулась, и сработала сигнализация.
Эта ночь почему-то запомнилась надолго. Звонок был похож на тот, которого Сергей ждал. Еще он предполагал, что где-нибудь на улице его крепко возьмут за локти и скажут: «Гражданин, пройдемте». Хотя, так говорят милиционеры. Эти, наверное, действуют по-другому.
Сергей ожидал всего, что угодно, только не этого. Это было до нелепости невероятным и неожиданным.
– Сережа, газеты будешь смотреть? – спросила мать, войдя в комнату. – Да, вот еще письмо тебе от какой-то девицы.
Она протянула серый тонкий конверт с четырехкопеечной маркой, надписанный ровным круглым женским почерком.
Сергей подумал: «Неужели опять?» Разорвал, вынул вдвое сложенный листок, развернул и оторопел. На бланке Управления Комитета государственной безопасности было написано:
«Гр-н Болдырев С. П., прошу Вас прибыть в Управление на Литейный, 4 (вход с ул. Каляева), в комнату № 430 на 4-м этаже 11 августа с. г. от 10 до 18 часов. Если Вы не сможете прибыть в указанное время, то сообщите по телефону, когда сможете это сделать. Капитан Половцев».
В горле Сергея задергалась какая-то жилка, захотелось расхохотаться, наверно, это чья-то «покупка», ну, например, Бориса Самарова. Он прозвал Сергея «Янки» и смеялся над его увлечением всем американским. Но такими вещами не шутят, и бланк вряд ли достанешь.
Одиннадцатого августа. Значит, в распоряжении полдня сегодня и весь завтрашний день. Неужели это просто случайность и вызывают по другому вопросу? Но вдруг они всё знают? Нет, тогда не стали бы вызывать, тогда раздался бы длинный, настойчивый звонок у двери. Тут что-то не то, не то...
Когда прошло оцепенение, Сергей заметался по комнате, снимая с полок книги, потом, бросив их, стал рыться в столе, лихорадочно просматривая бумаги, которыми был набит весь ящик. Скрутил в жгут журнал «Лайф», попытался запихнуть его в пустую консервную банку с надписью «Кока-кола». Банку подарили ему супруги Старк, после того как он объехал с ними на машине весь город, показал буддийский храм, мечеть и баптистский молитвенный дом... Да, еще они подарили две душеспасительные брошюрки, изданные в Чикаго. А эту книжку тоже надо уничтожить: Жозеф Джастроу «Фрейд – его мечты и сексуальные теории». И еще... где же она? Сергей стал выбрасывать из шкафа книги, пока не нашел нужную: «Обеспокоенный воздух», ее тоже подарил Митчелл...
Черт дернул их переехать в новую квартиру! Здесь нет даже печки, газовой колонки тоже нет – горячая вода поступает от теплоцентрали. Мать, как назло, звенит посудой на кухне. Письмо можно сжечь в уборной и спустить в унитаз, а книги? Они же толстые.
Сергей выглянул в коридор. С кухни доносился звон посуды.
Хотя бы мать вышла куда-нибудь. Она же спросит: «Что ты так много спускаешь в уборной воды?» А книг сколько! И соседи обратят внимание на непрерывный шум сливного бачка.
Вынести в мусорную бочку на заднем дворе? А вдруг за Сергеем следят и сразу схватят с поличным. Остается одно – изорвать и выбросить в мусоропровод.
Часто оглядываясь на дверь, Сергей начал рвать страницу за страницей на мелкие клочки, бумага скользила под вспотевшими пальцами. Раздался звонок, второй, третий. Это не дверь, это телефон.
– Сережа, тебя! – крикнула мать.
Сергей не узнал голоса звонившего.
– Привет, Янки! Приходи сегодня в Эрмитаж к пяти часам, познакомлю с группой англичан. Ты что, оглох, что ли?
Эрмитаж? На что он намекает?
– Янки, ты понял меня или нет, чего сопишь в трубку?
Звонил Борис Самаров. Его голос. Но почему он говорит об Эрмитаже? А может, это не он...
– Я плохо себя чувствую, не могу.
– Жаль. Довольно интересные люди будут, а одна – такая симпатяшка!
Впереди была ночь, день, еще ночь и...
Утром одиннадцатого августа в полупустой трамвай вошел парень с красными от бессонницы глазами, он долго и рассеянно искал в кармане монету, бросил ее в кассу, оторвал билет, сел к окну.
Мимо поплыла улица с витринами магазинов, с прохожими, с детскими колясками и газетными киосками. Номер трамвайного билета был несчастливым. Сергей смотрел в окно, ничего не видел и думал, думал, предполагал, рассчитывал...
2
В бюро пропусков Управления КГБ по Ленинградской области пришел мужчина, выложил паспорт на имя Макарова Василия Васильевича, потребовал свидания с начальником управления, показав два письма, полученные из Нью-Йорка. Дежурный просмотрел их, сказал, что из-за этого не обязательно идти к начальнику. Позвонил какому-то Григорию Павловичу.
В кабинете за столом сидел пожилой человек в коричневом в полоску костюме. Встал, поздоровался, предложил сесть и сказал:
– Слушаю.
Макаров выложил на стол паспорт. Григорий Павлович его не взял и еще раз сказал:
– Слушаю, слушаю.
Макаров стал шарить по карманам, ища письма, он их только что держал в руках и... на тебе. Наконец вытащил из бокового кармана пиджака два конверта и протянул их Григорию Павловичу. Тот взял, не глядя положил рядом и еще раз сказал:
– Я вас слушаю. В чем дело?
Макаров поерзал на стуле, хотел встать, потом неопределенно помахал руками и начал:
– Я родился и вырос в Ленинграде. Ни родственников, ни знакомых за границей у меня нет. Понимаете, нет. И вот получаю письмо из Нью-Йорка от какого-то Стоуна, в конверте еще конверт распечатанный и обратный адрес на нем указан мой, и фамилия моя. Понимаете?
– Понимаю.
– Английский я учил когда-то в школе. Сейчас немногое помню, но понял, что этот Стоун обращается ко мне не очень-то любезно: «Господин Макаров!» Понимаете, не «уважаемый господин», а просто «господин». И в конце письма подпись – Дж. Стоун. Если бы это было вежливое письмо, то он перед подписью поставил бы что-то в этом духе. Я хотел взять словарь и перевести, но решил посмотреть второе письмо, в открытом конверте с нью-йоркским адресом. Оно оказалось написанным по-русски печатными буквами, и это такая дрянь, что я не стал переводить и поехал к вам. А обратный адрес указан мой, и фамилия моя...
Григорий Павлович посмотрел письмо, написанное по-английски, потом долго разглядывал конверт, на котором по-русски был указан обратный адрес ленинградца Макарова. Пробежав страницы этого письма, он усмехнулся, покачал головой и снял трубку:
– Ирина Васильевна, найдите Комарова, пусть зайдет.
Положив трубку на рычаг, обратился к Макарову:
– Автор этого письма, видимо, ошибся адресом, и оно попало другому человеку, который возвратил его...
– Но не мог же я...
Григорий Павлович согласился.
– Конечно, если человек скрывает почерк, пишет печатными буквами, то свой истинный адрес он не укажет.
Пока ждали, Макаров сидел и рассматривал кабинет. Откуда-то из-за стены донеслись приглушенные возбужденные голоса. Там играли в настольный теннис. Макаров взглянул на часы:
– Простите, у вас, наверно, обеденный перерыв...
– Да, обед, но мы скоро. Вот и Комаров.
Вошел невысокий смуглый молодой человек. Григорий Павлович сказал:
– Виктор Александрович, познакомьтесь. Это товарищ Макаров. Ему возвратили из Нью-Йорка якобы им отправленное письмо и препроводительная есть. Переведите ее.
Комаров пробежал глазами письмо, усмехнулся и посмотрел на Макарова.
– Ясно, что адрес подставной. Ну ладно. – Он несколько минут молча читал письмо, еще раз усмехнулся. – В общем так: «Господин Макаров! Ваше письмо я прочитал по ошибке, поскольку адрес указан мой. Я вернулся из поездки, нашел в ящике много писем и торопливо вскрывал их. На Вашем письме я не обратил внимания, что фамилия указана не моя. Поскольку в тексте могло быть разъяснение по поводу истинного адресата, то я показал Ваше письмо моему товарищу, который перевел его со словарем, и я решил его возвратить Вам. Я человек деловой, и у меня нет времени искать истинного адресата. К тому же О. Кларков в Нью-Йорке не меньше, чем у Вас Ивановых. Постарайтесь внимательней надписывать адреса на Ваших посланиях. Поскольку я прочитал Ваше письмо, то хочу сообщить, что у нас и не такое пишут о Вашей стране. Но врать надо тоже уметь. Ни я, ни мой товарищ не поверили, что Ваши крестьяне жалеют об уходе немцев с советской территории. Да и вряд ли это кого-нибудь в мире убедит. Возвращаю Вам письмо. Прошу внимательно надписывать адреса и учесть, что мужчине не пристало жаловаться кому-либо на порядки в собственном доме. Дж. Стоун».
– Н-да, – сказал Макаров. – Отчитал. – Он вдруг вскочил: – Вы непременно найдите этого мерзавца! Ведь мое имя треплет! Надеюсь, быстро разберетесь?
– Не думаю. Во всяком случае, мы вас известим.
Макаров долго еще говорил, прежде чем уйти.
Григорий Павлович полистал письма и подал их Комарову:
– Заготовьте постановление о назначении экспертизы, возможно, письма содержат тайнопись.
– Вряд ли...
– Все может быть. За бездарным антисоветским текстом может быть скрыта более серьезная информация, хотя я тоже в это не верю...
Пока машинистка печатала текст постановления, Комаров еще раз прочитал письмо. «Н-да, значит кого-то в городе втягивает иностранная разведка. Еще не втянула как следует, но уже начинает. И этот кто-то, по всей вероятности, молодой парень. Грамотный и не очень умный. Неужели он не знает, что свойственный человеку почерк никак нельзя исказить? Даже в «Технике молодежи» рассказывалось, как привязывали карандаш к запястью, к локтю, писали левой, и все равно характер почерка сохранялся. Парень глуп еще потому, что неумело подделывается под малограмотного. Пишет: «...Наступает оттепель, просыпается природа и человек, усыпленный зимней стужей. Бодрость и веселье пробиваются сквозь усталость и безразличие к жизни... Холод я ненавижу. Я так страдаю от него зимой. И когда о нем думаешь, то даже в жару по телу бегут муражки...» Он так хотел сделать ошибку, что букву «ж» вывел четче и старательнее, чем остальные. Парень глуп еще и потому, что действительно, как подметил этот Дж. Стоун, врет бездарно... «Крестьяне, которые жили в оккупации, делятся приятными впечатлениями о том времени. Они так страстно говорят, что жалели об уходе немцев и с нетерпением ждали прихода американцев. С этой надеждой они живут и поныне...» Да, развесистей клюквы не придумаешь... Интересно, далеко ли этот тип успеет зайти, пока его не обнаружат? И кто его обрабатывает? Ясно, что идет обработка, втягивание, и парня этого надо разыскать...
3
В кабинете Григория Павловича шло совещание. Решался вопрос, что делать с гражданином Болдыревым Сергеем Петровичем, 1942 года рождения, беспартийным, окончившим Электротехнический институт, работающим в лаборатории одного из ленинградских заводов.
На столе лежала тоненькая папка. Письмо, принесенное Макаровым, к делу подшито не было, оно лежало на столе рядом. Григорий Павлович листал дело.
– По-моему, его надо арестовать и судить, – сказал Комаров. – Есть за что. В конце концов нетрудно доказать, что письмо, принесенное Макаровым, написано Болдыревым. И еще, видимо, он отправлял письма такого содержания. Любой человек, собираясь зимой опустить в почтовый ящик письмо, обязательно снимет перчатку, потому что в перчатке просто неудобно достать конверт. Болдырев прихватывал письмо бумажкой, потом рвал ее и бросал в урну.
Половцев потушил в пепельнице окурок и, продолжая глядеть в окно,сказал:
– Хорошо. Допустим, мы выяснили, что он написал это письмо и еще несколько. Раз он искажает свой почерк, значит, опасается, что письмо может быть вскрыто. Но что он пишет? Нечто подобное этой ерунде. Более серьезную информацию он дать открытым текстом не рискнет, а тайнописи не знает. Средства для нее были ему оставлены в тайнике, он знал об этом, но к тайнику не прикоснулся. И даже в Эрмитаж перестал ходить. Не будем гадать, струсил или раскаялся, думаю, что скорее струсил. За что же будем его судить? За связь с американской разведкой, но он тайник не взял. Письмо он получил, наверняка проявил, обязательно уничтожил и будет отрицать, что в нем было скрыто сообщение о тайнике...
– За клевету на Советскую власть, на правительство, на нашу страну, – вставил Комаров.
Представитель прокуратуры думал иначе. Прокуратура не возражает против прекращения дела.
– Я согласен с вами, – вмешался Григорий Павлович, – Болдырева надо доставить к нам, поговорить, разъяснить и предупредить. А дело прекратим. – Григорий Павлович повернулся к Комарову: – Он, видимо, боится, что вот-вот засыплется?
Комаров встрепенулся. Он думал: сколько времени отнял этот жалкий клеветник, согласный работать на иностранную разведку, и вот, пожалуйста, проводи с ним профилактическую беседу. Нечего церемониться. За клевету так за клевету, виноват – отвечай по закону. Комаров попытался сосредоточиться, потер подбородок:
– Заметить наблюдение он не мог, мы действовали осторожно. Но за последние месяцы проявляет явное беспокойство, аж с лица спал. И все старается познакомиться с большим числом иностранцев. Прямо после работы едет на Невский или к «Астории», настойчиво ищет знакомств, причем не обязательно с американцами. И французы ему годятся, и финны, и итальянцы... Иногда по два знакомства в день заводит...
Половцев заметил:
– Это значит, что тайнопись он проявил и догадался, что вступает в связь с американской разведкой. Вот и начал петлять, запутывать следы...
– Так ка́к решим? – спросил Григорий Павлович, оглядывая присутствующих. Половцев заметил:
– Я свое мнение изложил...
Представитель прокуратуры добавил:
– Мы не возражаем...
Григорий Павлович повернулся к эксперту:
– Федор Иваныч, значит, ничего нового в присланных для Болдырева средствах тайнописи нет?
Высокий крупнолицый мужчина не спеша ответил басом:
– Обыкновенные средства. Для более серьезных агентов у них есть другие. А это так... – эксперт махнул рукой.
– Ну вот, значит, решим, – сказал Григорий Павлович. – Вы, Виктор Александрович, или вы, Игорь Семенович, берите завтра с утра машину, до начала работы езжайте к Болдыреву и привезите его сюда. Объясните, что для беседы...
Комаров не слушал Григория Павловича, торопливо что-то соображал.
– Понятно, товарищи?
– Нет! – сказал вдруг Комаров. – Я предлагаю не ездить за ним, а послать письмо с вызовом. Срок назначить с запасом. Я знаю этого типа. Он самолюбив, мнителен и труслив. Пускай сутки или двое помучается, пораскинет мозгами. Представляю, что с ним будет твориться.
– А если он повесится в уборной?
– Мы же госбезопасность, а не благотворительное общество. Раз напакостил – пусть переживает. Не волнуйтесь, он на себя руку не поднимет, а вот штаны раза два сменит.
– А если рванет куда-нибудь?
– Куда? За границу?.. Лично я хотел бы, чтоб он туда драпанул. Ему бы там всыпали. Более двух месяцев не брал тайник. И это он прекрасно понимает...
Когда эксперт и представитель прокуратуры ушли, Комаров невесело рассмеялся.
– Припоминаю, как дежурил у тайника. Приходят люди, постоят, посмотрят в окно, отдохнут и дальше. Вдруг является молодая мама... И на кой черт ребенка тащить в Эрмитаж? Ему еще рано, устал он. Сначала и так изгибался и эдак, капризничал и чего только не вытворял, а потом стал запускать руки за батарею парового отопления. Дети же наблюдательные. Ну, думаю, сейчас все испортит: вытащит контейнер, мамаша поднимет шум, сбегутся люди, и полтора месяца работы пошли прахом, а мне еще холку намылят: куда, мол, смотрел. Ничего другого не оставалось, как подойти, завести разговор. Между прочим, заметил, что один мой друг, санитарный врач, недавно обследовал с комиссией помещения, где бывает много народу: метро, кинотеатры, музеи, – и, представьте, в самых неожиданных местах они обнаруживали болезнетворные микробы... Мама хвать чадо за руку, шлепнула его и потащила в туалет...
Григорий Павлович заметил:
– Болдырев мог колебаться неделю, ну – две. Раз больше месяца не шел, значит, решил не брать. Он же понимал, что за это время контейнер могут случайно обнаружить, и он не знал точно, что в нем заложено. А может, что-нибудь такое, что поможет найти его след? Письмо он наверняка уничтожил и скажет, что не получал.






