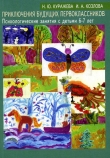Текст книги "Особо опасны при задержании"
Автор книги: Юрий Мишаткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
14
Калинкин, не желая теснить Кацмана и Петряева, оставался висеть на подножке. Шапка съехала у него на затылок, готовая упасть с головы, но интендант не поправлял ее.
«Солдатик умен и расторопен, – покосился на Калинкина певец. – Я бы мог остаться в церкви или у подвод, и комиссар, из опасения, что шум поднимет казаков, не посмел бы настаивать на моем отъезде. Да, мог остаться! Но это было бы в высшей степени неблагородно с моей стороны по отношению к остальным и граничило с предательством. Именно так!»
Дорога бежала на взгорье к виднеющейся вдали дубраве.
«Один чистокровный дончак с хорошим экстерьером, – отметила Добжанская. – Если надеть на него гурт и пустить по манежу в галоп – можно вольтижировать. Впрочем, о чем это я? Разве сейчас время и место думать и мечтать о манеже?»
– Армия Краснова захватила Ростов и Батайск, планирует взятие Царицына, – не оборачиваясь, сказала Людмила.
– Откуда известно? – встрепенулся Магура.
– Еще они перерезали железную дорогу. Наступает лишь Донская армия. Деникин не примкнул к ней, – не отвечая на вопрос, продолжала девушка. И, чтобы комиссар не сомневался в точности сведений, добавила – Я запомнила почти дословно.
Все на тачанке уставились на Людмилу. Магура с восхищением, Добжанская с удивлением, Калинкин с уважением. Мало что понявший Кацман захлопал глазами. А Петряев, услышав о планах белогвардейцев, которые перечеркивали его надежду наконец-то сытно поесть и отоспаться, прошептал:
– О боже!
– Красный Царицын им не взять, – твердо сказал Магура.
– Ни в жизнь! – согласился Калинкин. – Пусть хоть две ихние армии идут, все равно Царицын нашенским останется!
– В царицынском цирке братьев Никитиных я имел удовольствие работать весь летний сезон 1906 года. Сборы были довольно приличными, – желая вставить в разговор о Царицыне и свое слово, сказал Кацман.
– На дрова его разобрали, – сообщила Людмила.
– На что? – переспросил Кацман.
– Пришлось тамошний цирк минувшей зимой пустить на растопку. В городе было катастрофически плохо с топливом, мерзли, в первую очередь, дети.
– Покончим с беляками и разрухой – новый построим, почище старого, – пообещал интендант.
Тачанка мягко покачивалась, вздрагивала на ухабах.
От тишины и спокойствия вокруг невольно клонило ко сну. Первым уснул, уткнувшись в спину Магуры, фокусник, вторым езда укачала Петряева: он погрузнел, обмяк, уронил голову на грудь. Задремал в обнимку с винтовкой устроившийся в ногах у певца и Калинкин. Не спали, не позволяя себе расслабиться, лишь трое: Магура – он зорко смотрел на убегающую назад дорогу – и Добжанская с дочерью.
Проселок стал круче – тачанка с трудом одолела пригорок. Когда же дорога легла под уклон, дубрава стала совсем близко и под колесами снова закурилась пыль, на плешивом кургане, привстав на стременах, замаячили всадники в фуражках с красными околышами. Грохнул, разрывая полуночную тишину, выстрел.
– Казаки, пропади они пропадом! – в сердцах чертыхнулся Калинкин.
– Они самые, белопогонники… – сквозь сжатые зубы процедил Магура и приник к прорези прицела «льюиса».
15
«Краснов стремился овладеть Царицыном потому, что этот город был центром сбора краснопартизанских сил. Красные партизаны тянулись к Царицыну, так как в лице царицынского пролетариата видели своего союзника в жестокой борьбе с объединенными силами белогвардейцев… Не было тогда на юге России города, равнозначного Царицыну. Знали это и красные и белые, знали и стремились во что бы то ни стало – одни удержать его, а другие овладеть им».
Комбриг С. М. Буденный.
Не дожидаясь приказа, Людмила стегнула дончаков, и те понеслись, разбивая копытами дорогу, утрамбованную колесами проехавших прежде бричек.
Один из казаков свистнул, пришпорил коня и ринулся с кургана. За ним поскакали остальные. В лунном свете матово сверкали клинки.
– Восемь, девять… Десять! – подсчитал преследователей Калинкин. – И не спится же вражьей силе! – Он попытался устроиться с винтовкой рядом с «льюисом» и Магурой, но мешали Кацман с Петряевым. – Геть с сиденья! – приказал артистам интендант.
Конный казачий разъезд спустился с кургана, копыта коней коснулись дороги.
Магура давно поймал в прорези прицела вырвавшегося вперед чубатого казака, давно держал на мушке круп его норовистого коня.
«Рано. Пока рано, – приказал себе комиссар. – Еще чуток…»
Когда же рядом с первым казаком замаячил пригнувшийся к седлу с шашкой наголо и второй, Магура задержал дыхание и нажал гашетку. «Льюис» словно проснулся: вздрогнув и задрожав в руках пулеметчика, он сухо и отрывисто выпустил короткую очередь, за ней – другую. Пули подняли с дороги фонтанчики земли. Куцехвостый мерин споткнулся, подогнул передние ноги и, подминая казака, свалился.
– Один есть! – обрадовался Калинкин. – С почином тебя, комиссар!
Сам он не стрелял, не желая напрасно тратить патроны. Наконец интендант мягко, без рывка, нажал на спусковой крючок. А увидев, как один из всадников взмахнул руками и выронил клинок шашки, проговорил:
– Есть и второй!
В прорези прицела «льюиса» появился яростно нахлестывающий коня казак. Магура собрался было вновь дать очередь, надавил гашетку, но пулемет не ожил, остался немым.
– Заело? – спросил Калинкин.
Магура вырвал из патронника диск и, когда понял, что заклинило патрон, выхватил вороненый маузер.
Стрелять прицельно было невозможно: тачанку встряхивало на выбоинах, раскачивало, заносило из стороны в сторону. А казаки, пришпоривая коней, были совсем рядом. Магура видел конские оскалы, выступающую на губах дончаков пену.
– Не нервуй, – посоветовал Калинкин. Он стрелял редко, помня, что надо беречь патроны.
Еще один казак, а с ним и конь, остались на дороге. Упавший конь пытался подняться, хрипел, рвал из закостеневших рук недвижимого всадника повод.
– Третий! – подсчитал Калинкин и поймал на мушку в прорезь прицельной рамы папаху с кокардой.
И еще казак слетел с седла. Оставшись без седока, вороная кобыла припустилась к тачанке, но тут же свернула в сторону и, раздувая ноздри, понеслась в луга.
– А ведь отобьемся, а? – вслух подумал Калинкин. – Семь их осталось. Как патронов в обойме.
– Господи! Господи! – не уставая повторял Петряев. Он лежал в ногах Магуры и Калинкина и вздрагивал при каждом выстреле, всей своей тяжестью придавливая Кацмана.
Когда маузер сухо щелкнул – все патроны были расстреляны, – Магура отбросил его (перезаряжать не было времени), достал единственную гранату «лимонку» и приготовился выдернуть кольцо с чекой.
«Поближе надо подпустить, – решил комиссар и вовремя спохватился: – Нет, своих тогда осколками заденет».
Тачанку сильно рвануло и накренило. Магура оглянулся.
Одного из коней – пристяжного – задело пулей и волочило по дороге. Он пробовал подняться, но все его попытки были напрасны.
– Нож! – крикнула Людмила.
Ножа ни у Магуры, ни у Калинкина под рукой не было, но интендант первым понял, зачем понадобился нож, снял с винтовки плоский австрийский штык и отдал его Людмиле.
Девушка прыгнула с козел на потный круп с трудом тянущего тачанку и спотыкающегося коренного коня и начала обрезать сбрую пристяжного. И вовремя: казаки начали обходить тачанку с двух сторон.
Калинкин выстрелил в спину обогнавшего их казака с пикой у седла, и тот стал клониться набок.
– Шесть – не десять, – проговорил Калинкин.
Справа поубавившую ход тачанку начал перегонять еще один казак, но стрелять в него Калинкину было несподручно: мешала спина Добжанской.
«Я-то живым не дамся, – подумал Магура. – А над артистами, жаль, измываться станут – беляки в таком деле мастаки».
Вокруг лежали необозримые поля. Молодые всходы пшеницы купались в лунном свете, нежились под ним. Неколышимая дубрава чернела на фоне белесого неба.
Под самым ухом у Магуры раздался выстрел. Это продолжал стрелять Калинкин.
«И его жаль. Вроде бы зазря погибнет. Говорил, что семьей, как и я, не успел обзавестись. Но почему зазря? Троих сейчас на тот свет к праотцам отправил. Выходит, помог революции. – Магура чувствовал плечо интенданта, слышал его дыхание. – А мать и дочь лихо с конями обращаются. Позавидовать можно, я бы так не сумел».
Комиссар скомандовал себе «пора!», выдернул из «лимонки» кольцо, занес гранату над головой и начал ждать, чтобы казаки съехались кучнее, но враги вдруг стали сдерживать коней, отставать и поспешно поворачивать назад.
Магура оглянулся.
От дубравы приближался эскадрон. У скачущего впереди всадника на кубанке наискосок алела красная лента.
– Наши!
Казаки яростно нахлестывали коней, спеша быстрее подальше уйти от буденновцев.
Вспомнив, что в ладони «лимонка», Магура размахнулся и кинул гранату. Она взорвалась в самой гуще казаков.
Тачанка встала. Взмыленный дончак устало поводил головой, прядал ушами, вздувал ребристые бока, еще не веря, что бешеная скачка прекратилась и его никто не погоняет.
Магура помог подняться певцу и фокуснику.
– За то, что растрясло вас, извинение приношу.
– По мне, лучше пусть растрясет, нежели в ящик сыграть. – Калинкин начал собирать разбросанные по тачанке еще теплые патронные гильзы.
Лицо интенданта покрывал слой пыли. Она хрустела на ослепительно белых зубах.
– Увидишь колодец, приостанови, – попросил Магура. – Умыться надо. Да не тебе одному.
16
Приказ № 2 по агитотделу уездного комиссариата искусств
За проявленную высокую революционную сознательность, за находчивость и смелость при выходе из вражеского тыла через линию фронта объявить благодарность в приказе товарищам артистам Добжанской А. И., Добжанской Л. С., Петряеву К. Е., Кацману И. Б., а также интенданту тов. Калинкину, и дать им для отдыха сутки.
Комиссар Н. Магура.
Артистам, их комиссару и интенданту выделили для ночлега саманную халупу с обвалившейся печной трубой. Кацман с Петряевым улеглись на полу на соломе. Две лавки заняли мать и дочь Добжанские. Калинкин, в обнимку с винтовкой, устроился в углу. В ставшей тесной комнате не осталось места лишь для Магуры.
Комиссар дождался, когда все улягутся, вышел во двор и присел у порожка. Привалился спиной к стене, вытянул ноги и начал подремывать.
Рядом у погасших костров смотрели сны бойцы 1-й Донской дивизии.
Луна долго бледнела на небосводе, словно споря с ранней зарей и не желая ей уступать место. Полная, она висела над самой крышей халупы, зацепившись за трухлявый скворечник на шесте.
Когда первые лучи солнца начали высвечивать вершины холма и бойцы, окружив колодец, стали весело плескаться, из халупы вышел заспанный Кацман. Он встал у порога и принялся жевать соломинку. Вскоре проснулись Добжанские и Петряев. Продолжал сладко спать и при этом чему-то улыбаться во сне лишь Калинкин.
Запылал костер, в котле забулькал кулеш.
– Присаживайтесь. Чем богаты, – пригласил артистов отведать пшенной каши перепоясанный патронташем боец.
После сытного завтрака командир пехотного полка отвел в сторону Магуру.
– Пулемет, извини, друг, у себя оставляю. Твоему комиссариату он теперь уже без надобности. А у меня с оружием бедновато. Так что не взыщи. Вместо пулемета бери тройку добрых коней.
Магура не стал спорить и, простившись с командиром полка и его бойцами, сел на козлы тачанки. Рядом примостился Калинкин.
– С ветерком? – спросил артистов комиссар.
– Увольте! – взмолился Петряев. – Еще раз пережить бешеную скачку я буду не в силах! Как выразился ночью товарищ интендант, сыграю в ящик.
– Пожалуйста, без ветерка, – попросил и Кацман: при одном воспоминании о том, как он ехал ночью на полу тачанки под певцом Петряевым, фокусник вздрагивал, его начинало мутить.
Миновали черное от пепла гумно. У переезда через линию железной дороги, где возле путей лежал взорванный красновцами при отступлении семафор, Магура резко натянул вожжи.
– Глядите-ка!
За стрелкой, неподалеку от станционного здания из красного кирпича, стояли паровоз с развороченным взрывом гранаты котлом и одинокий вагон с ярким, во всю стену, лозунгом «Даешь искусство в массы!».
Калинкин соскочил с тачанки, первым бросился к вагону.
За ним по шпалам поспешили мать и дочь Добжанские, Кацман и Петряев. Последним шел Магура.
– Теперь и концерт наконец-то закатим! Целое представление в честь победоносного наступления нашей доблестной Красной Армии.
– Что касается необходимого для демонстрации фокусов реквизита, то он всегда при мне, – сказал Кацман, растопырил пальцы руки и, словно из воздуха, достал два ярких шарика.
– Бывший магистр черной магии, факир Али-Баба, а нынче революционный артист товарищ Кацман! – объявил Магура и подмигнул фокуснику.
– Раз есть кони, можно попробовать показать высшую школу верховой езды. Но для этого необходимы репетиции, – робко сказала Людмила Добжанская.
За спиной у нее кашлянул в кулак Петряев.
– Я не говорю о пианино или рояле. Но если товарищ комиссар поможет заполучить гитару – обыкновенную, семиструнную, – я исполню романсы.
– Добро, – кивнул Магура.
Он поправил на боку деревянную кобуру маузера, отряхнул бушлат и шагнул к подножке вагона специального назначения.
В тот же день из Царицына в Москву по телеграфу передали:
Противник разбит наголову и отброшен за Дон. Положение в Царицыне прочное. Наступление продолжается.
19 сентября 1918 года В. И. Ленин и председатель Военно-революционного совета Южного фронта И. В. Сталин прислали защитникам Красного Царицына приветственную телеграмму.
Передайте наш братский привет геройской команде и всем революционным войскам Царицынского фронта, самоотверженно борющимся за утверждение власти рабочих и крестьян. Передайте им, что Советская Россия с восхищением отмечает героические подвиги коммунистических и революционных полков…
…Держите красные знамена высоко, несите их вперед бесстрашно, искореняйте помещичье-генеральскую и кулацкую контрреволюцию беспощадно и покажите всему миру, что социалистическая Россия непобедима.

ОСОБО ОПАСНЫ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
1
Начало второй декады апреля 1942 года выдалось в междуречье Хопра и Медведицы по-весеннему ясным. Под еще нежарким солнцем таяли, сочились вешними ручьями снега. В высоком, бездонном от голубизны небе проносились кулики.
13 апреля Совинформбюро сообщило:
«В течение ночи на 13 апреля на фронте каких-либо существенных изменений не произошло.
За 12 апреля сбито в воздушных боях 8 немецких самолетов. Наши потери – 3 самолета.
Группа наших бойцов, оперирующая в тылу противника на Западном фронте, уничтожила 250 немецких солдат и офицеров.
С наступлением весенних дней в городах Германии резко возросло количество заболеваний брюшным и сыпным тифом. Особенно много заболеваний среди иностранных рабочих, которые живут в переполненных и грязных бараках…»
«Мы убедились, что дальше продолжать борьбу с русскими бесполезно. Русские храбрее, чем мы, и они победят нас – это внутренне сознает каждый немецкий солдат. Вы защищаете свою страну, а мы представляем только „канонерфуттер“ – пушечное мясо в руках Гитлера», – признал на допросе один из пленных офицеров.
В этот же день германское информационное бюро передало:
«Учитывая тяжелые бои на советско-германском фронте, начальник германской полиции Гиммлер распространил запрещение, касающееся танцев, на танцевальные кружки, не имеющие общественного характера».
«Мы скорбим о тысячах немых крестов на полях сражений, – писала газета „Франкфуртер цайтунг“, – о раненых в лазаретах и на улицах, о мертвецах Берлина, Маннигейма, Любека и бесчисленных других городов».
Другая немецкая газета «Данцигер форпостен» вынуждена была признать:
«Атаки большевиков ставят германские войска в критические положения и являются тяжелым испытанием для нервов солдат и командования…»
С 12 на 13 апреля 1942 года, как зафиксировали немецкие синоптики, над всей северо-западной Германией стояла низкая облачность и лил не утихающий ни на минуту дождь.
Он страдал мучительной бессонницей и впадал в чуткую дремоту лишь под утро. Зная, как недолог у генерала сон, седовласый и медлительный хорунжий Егорычев, оберегая покой хозяина, отключал телефон и шел спать в прихожую на диван.
Последние годы, стоило лишь Краснову погрузиться в такую желанную дрему, как в памяти воскрешались образы и события далекого прошлого, которые семидесятитрехлетний генерал старался забыть. Снилось многое и, в первую очередь, осень семнадцатого года, неудача его корпуса с походом на Питер для разгрома большевистских Советов и провозглашения в столице и повсеместно в стране военной диктатуры. Престарелый генерал видел во сне паническое отступление своих казачьих войск, которое с болью в сердце наблюдал с окраины деревни Редкое-Кузьмино близ Пулковских высот 30 октября того же семнадцатого года. Генерал вспоминал министра-председателя Временного правительства Керенского, объявившего себя верховным главнокомандующим России. В Царском Селе, где тогда размещалось правительство, Керенский окружил себя экспансивными девицами и не уставая требовал немедленного продвижения вперед, не желая считаться с малочисленностью 3-го конного корпуса. Снова (в который раз!) перед взором Краснова проходили похожие на сцену из дешевого водевильчика бегство Керенского из Гатчинского дворца через потайной ход и своя капитуляция представителям новой власти Советов. Керенскому удалось, скрыться. Он же был доставлен в Питер, в Смольный, где дал честное слово впредь отойти от всякой политической и контрреволюционной деятельности, и был отпущен большевиками.
Следом за министром-председателем во сне непрошенно являлся поднявший на Дону мятеж казачий атаман Каледин. Стараниями представителей Антанты (в частности, главы британской военной миссии генерала Шора и американского консула Смита) Каледину было переслано из Нью-Йоркского банка пятьсот тысяч долларов, англичане ассигновали для белого движения двадцать миллионов фунтов стерлингов. И что же? Казаки, на кого уповали, на кого так надеялись Каледин, Корнилов, Алексеев и Деникин, не пожелали внять призыву. В станице Каменской Военно-революционный комитет донских казаков во главе с большевиками Подтелковым, Кривошлыковым и Голубовым потребовал от генералов передать всю власть Военно-революционному правительству. В Таганроге восстали рабочие, и калединским отрядам пришлось отойти к Новочеркасску, где возомнившему себя казачьим вождем атаману Каледину ничего не оставалось, как только застрелиться…
Словно все это было лишь вчера, старый генерал видел на полу особняка грузное тело атамана, его неестественно вывернутую правую руку и, поодаль, револьвер. Но, странно, стоило приглядеться к застрелившемуся Каледину, как сдавливало дыхание: в трупе на полу гостиничного номера генерал узнавал… себя, Краснова.
Как от толчка, Краснов просыпался в холодном поту. Некоторое время он лежал неподвижно, прислушиваясь к учащенному сердцебиению, затем трясущейся рукой вытирал со лба капли холодной испарины.
«Опять этот навязчивый сон! К чему воспоминания, напрасное копание в невозвратимом, канувшем в Лету прошлом?» – спрашивал себя Краснов, не в силах успокоиться.
Зловещий сон был знаком до мельчайших подробностей, и каждый раз Краснов чувствовал себя после него разбитым, гудела голова, ныла поясница, скованная мучительным ревматизмом.
Он пробовал вновь уснуть. Но стоило закрыть глаза, как, словно на белом полотне экрана, перед генералом проходили чередой кадры давно пережитого, о чем Краснову было больно и стыдно вспоминать. И, в первую очередь, юг России, где в мае восемнадцатого года он был избран «Кругом спасения Дона» атаманом Войска Донского. Призвав казачество к сплочению и решительной борьбе с властью Советов, Краснов мечтал расчленить Советскую Россию, создать на Дону самостоятельное государство со старым укладом и старыми законами. Самому, без чьей-либо помощи, этого вряд ли удалось бы достигнуть. Благодаря представителю германской военной миссии при Войске Донском фон Кокенхаузену генерал связался с кайзером Вильгельмом II, прося его увеличить военную помощь, обещая за это создать в южных районах России немецкую полуколонию и передать Германии исключительное право вывоза с Дона за границу зерна, шерсти, жиров, скота, отдать германским промышленникам в концессию русские промышленные предприятия, эксплуатацию водных и иных путей сообщения.
Припоминалось и так отлично начатое осенью восемнадцатого года наступление на Царицын. Вооруженная немцами армия тогда вплотную подошла к городу на Волге, с трех сторон блокировала его. Артиллерия уже обстреливала окраины Царицына, когда бригада Буденного неожиданно нанесла удар на правом фланге и полностью разгромила отборный корпус генерала Гусельникова. Пришлось снять с передовой часть войск, бросить их против наступающей Красной Армии и, когда контрнаступление захлебнулось, начать отход.
Лента воспоминаний раскручивалась медленно. Особенно резко высвечивалось последнее сражение с красными под Царицыном, потому что позже, на большом Войсковом Круге в Новочеркасске, под давлением казачьей верхушки и Антанты, которые объявили его германофилом, Краснову пришлось проститься с остатками армии, сложить с себя полномочия командующего… Что было затем? Прозябание вдали от родины, долгое мучительное безделье, сотрудничество с РОВС («Российский общевоинский союз») генерала Кутепова, занятого засылкой в СССР с террористическими заданиями офицеров-эмигрантов, сближение в Шуаньи близ Парижа с великим князем Николаем Николаевичем.
За стеной спальни часы глухо пробили семь раз, но Краснов продолжал лежать под периной с закрытыми глазами. Когда же понял, что больше не уснет, тронул у изголовья, на тумбочке, звонок.
Отворилась дверь, и на пороге вырос Егорычев.
– Одеваться! – приказал генерал.
Умывшись и облачившись в мундир с неизменным Георгиевским крестом, он вошел в кабинет, где один из книжных шкафов занимали написанные им, Красновым, книги. Рядом с томиками мемуаров «От двуглавого орла к красному знамени» стояли романы «Белая свитка», «За чертополохом».
Краснов задержался у шкафа и подумал, что свой последний роман «Выпаш» надо непременно послать в презент с теплой дарственной надписью главе имперского министерства по делам оккупированных областей на Востоке Альфреду Розенбергу. Генералу охранных и штурмовых отрядов СС нацистской партии будет несомненно приятно прочитать страницы, полные ненависти к большевистскому строю и клеветы на Ленина.
В столовой генерала ждал завтрак.
– Семен звонил? – раскладывая на коленях хрустящую от крахмала салфетку, спросил Краснов.
– Никак нет, Петро Николаевич. На той неделе было дело, а нонче господин полковник не изволили звонить, – ответил хорунжий.
Краснов чуть скривился:
– Сколько можно повторять: племянник произведен в генерал-майоры вермахта! А ты по старинке все зовешь его полковником. Не брякни этого при Семене.
Семен был единственным оставшимся в живых близким родственником Краснова, к тому же единомышленником, верным делу освобождения России от большевиков. Начальник личного конвоя главнокомандующего вооруженными силами юга России барона Врангеля во время его отплытия из Крыма на крейсере «Генерал Корнилов», Семен Краснов долгие годы состоял членом «Российского общевоинского союза» и других белоэмигрантских организаций. Позже, уже в Париже, при содействии оккупировавших Францию немецких властей он был одним из заправил «Комитета по делам русской эмиграции». На Семена Краснова можно было смело положиться, что генерал и делал, хотя приходилось частенько оплачивать его счета. Последнее время Семен, правда, не очень частый гость у дядюшки, звонить и справляться о здоровье и то забывает. Поднялся, как говорят, «на волну», позабыл, что в тридцатых годах был вынужден во Франции не брезговать профессиями грузчика, водителя такси.
После завтрака генерал прошел в прихожую, и Егорычев услужливо подал шинель.
– Станут звонить – скажешь, что вернусь к обеду.
Хорунжий отворил тяжелую дверь подъезда, и Краснов вышел на улицу под колючий и мелкий дождь. Был вторник, а по вторникам старый русский генерал отправлялся на прием к начальнику русского отдела германской контрразведки господину Эрвину Шульцу. Это стало для Краснова неписаным правилом с 22 июня 1941 года.
«Опять может случиться, что без толку проторчу в коридоре, – подумал Краснов. – Опять Шульц не соизволит принять, как это было на прошлой неделе, и месяц, и два назад. Впрочем, не стоит показывать неудовольствия».
Он поднял воротник и взмахом руки остановил такси.
На тихой Фридрихштрассе, в доме 22 с высокими потолками и деревянными панелями, Краснов попросил дежурного секретаря записать его на прием к герру Шульцу и занял место для посетителей в коридоре на диване.
«Мое счастье, что аудиенцию ожидаю у немца, – невесело подумал генерал. – Было бы обидно просиживать у дверей, скажем, Завалишина. Офицеришка в армии Врангеля, позже рядовой переводчик на заводе „Демберг“, а – вишь-ты! – вознесся до заместителя начальника русского отдела! Забыл об уважении к старшему по званию. Чему его только учили? В девятнадцатом посчитал бы за честь для себя услужить мне…»
Находиться в роли просителя было не очень-то приятно, но Краснов отличался терпеливостью и сдержанностью. Этому его научили армейская служба и многолетняя жизнь в эмиграции.
Генерал чуть повел головой, словно его тронул нервный тик, и остановился взглядом на портрете фюрера, который занимал весь простенок. На портрете Гитлер был в своем неизменном строгом коричневом пиджаке с Железным крестом 1-й степени.
«Был ефрейтором, а ныне глава государства, да еще какого!» – откровенно позавидовал фюреру Краснов.
Русский генерал-эмигрант не подозревал, что в Мюнхенском полицай-президиуме в старой, тщательно охраняемой картотеке бывших тайных осведомителей одна из карточек коротко и сухо, с полицейской лаконичностью, сообщала, что незаконнорожденный сын австрийского таможенного чиновника Алоиса Шикльгрубера безуспешно пытался стать художником, был исключен из школы, участвовал в разгроме Баварской республики и вступил в новую и малочисленную по тем временам фашистскую рабочую партию (ДАП) – родоначальницу национал-социалистической, получив членский билет за номером 55, и позже заведомо лгал, что имеет билет № 7.
С протокольной краткостью карточка зафиксировала произнесенную Адольфом Гитлером (осведомителем по кличке Луд) шовинистическую речь на учебных курсах штаба мюнхенской дивизии, назначение его офицером по вопросам просвещения, участие в розыске и уничтожении руководителей Баварской республики. Заканчивалась карточка тайного осведомителя полиции строкой:
«30 января 1933 г. – рейхсканцлер Германии».
О чудесном взлете отставного ефрейтора, его небывалой карьере Краснов размышлял часто, не показывая при этом своего удивления. Особенно осмотрительным и предельно осторожным Краснов стал после вступления в члены НСДАП – немецкой национал-социалистической партии. Отныне, при каждом удобном случае, русский генерал громко провозглашал фюреру славу, для чего выбрасывал вперед правую руку.
Генерал продолжал пристально всматриваться в маленькие и бесцветные, выглядевшие стеклянными глаза Гитлера, в его свисающую на узкий лоб черную прядь, широкие скулы, щеточку усов. Портретист изрядно польстил бывшему ефрейтору, который на самом деле был мельче, хлипче, с вечно бегающими глазами.
…Гладко выбритый, с нафиксатуаренными усами, Краснов еще долго торчал в коридоре подле написанного в полный рост фюрера. Время катило к двум, пора было ехать обедать.
«Видимо, еще не удосужились прочесть мою докладную записку. Что ж, прочтут завтра или через пару дней. А может, и через неделю…»
Краснов тяжело поднялся и, по-старчески сутулясь, шаркая и чуть волоча правую ногу, двинулся по коридору к выходу.