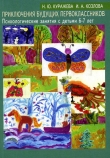Текст книги "Особо опасны при задержании"
Автор книги: Юрий Мишаткин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Юрий Иванович Мишаткин
Особо опасны при задержании
Приключенческие повести
От автора
О моих земляках – участниках гражданской и Великой Отечественной войн, удостоенных многих правительственных наград и среди них знака «Почетный чекист», – я узнал, когда рассматривал бесценные реликвии и документы героической истории органов ВЧК – КГБ и знакомился с архивными материалами. Позже посчастливилось лично, познакомиться со многими ветеранами незримого фронта. О себе, своей жизни и работе чекисты рассказывали очень скупо и сдержанно. Было это, как я понял, оттого, что работа разведчика и контрразведчика (по словам полковника Р. И. Абеля)– «кропотливый и тяжелый труд, требующий больших усилий, напряжения, упорства, выдержки, воли, серьезных знаний и большого мастерства», она приучила чекистов никогда и ни при каких обстоятельствах не быть многословными.
Я уже рассказал читателю о борьбе верных рыцарей революции чекистов Царицына – Сталинграда с врагами нашей Родины на разных этапах ее истории на страницах приключенческих повестей «Расстрелян в полночь», «Схватка не на жизнь» и в поставленной Театром юного зрителя пьесе «Тайна подлежит разглашению» (герой их – чекист Магура, в основу образа которого легла биография товарища М.). Ныне продолжаю свой рассказ. Как сказал поэт: «Здесь вымысел документален и фантастичен документ».

ВАГОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1
В начале жаркого июля 1918 года вдали от Москвы, в станице Суровикинской Царицынской губернии, был подан рапорт:
«Требую незамедлительно, без проволочек, выписать меня из лазарета и отпустить обратно на фронт в родной полк.
К сему Николай Магура».
В тот же день на рапорт была наложена резолюция:
«Направить тов. Магуру до полного выздоровления в распоряжение военного коменданта станицы».
Подпись неразборчива.
Почерневшие от времени и непогоды дома Суровикинской вросли в землю, а глухие ставни на окнах да высокие заборы надежно спрятали станичников от посторонних глаз. Станица Суровикинская как бы притаилась в ожидании чего-то. Тишина стояла тягучая, до звона в ушах. И если бы не красный флаг над подъездом особняка бывшего купца второй гильдии Ерофеева, укатившего со всем семейством еще в начале лета в неизвестном направлении, можно было подумать, что идет не восемнадцатый год, а конец девятнадцатого века.
По утрам через всю станицу, распугивая кур и гусей, катила телега с бочкой воды. Правил конем хмурый с сонным лицом возчик. Временами он придерживал конягу и лениво стучал черпаком по бочке, созывая людей за ключевой водой по цене гривенник за ведро. Стук водовоза разносился по Суровикинской, эхом отдаваясь вдали.
В станицу Николай Магура попал по ранению. В одном из боев с белоказаками рядом с недавним балтийским матросом, подняв столб песка, разорвался снаряд. Магуру накрыло вздыбившейся землей и швырнуло на дно окопа. Очнулся он уже в санитарной теплушке. В тяжелой голове стоял непрекращающийся гул, не переставая стучали надоедливые барабанные палочки.
– Парень ты с виду крепкий, – успокоил Магуру его сосед по палате Калинкин – низкорослый конопатый солдат со смешливыми глазами. С утра и до отбоя он неугомонно скакал между коек на костылях. – Неделька пройдет, и снова в свой полк вернешься. Не журись и не сомневайся.
Но минула неделя, за ней другая, а Магура все продолжал отлеживать бока, глотать пилюли да порошки. К концу третьей недели, когда он уже был готов бежать в казенном белье на фронт, доктор наконец-то смилостивился:
– Надоело рапорты подавать? А мне, признаюсь, осточертело ваше нытье слушать. Получайте одежду и паек на трое суток.
– И меня, гражданин доктор, выписывайте! – взмолился Калинкин. – На пару с ним! Вместе до передовой доберемся – вдвоем сподручнее. А не выпишите – сбегу, как есть сбегу!
Доктор покачал головой, растрепал бородку:
– О фронте пока придется забыть: воевать вам еще рано. С остаточными явлениями контузии много не навоюете. Есть указание направить товарищей Магуру и Калинкина к военному коменданту.
На прощание доктор настоятельно потребовал от Магуры строго соблюдать режим, больше бывать на свежем воздухе и не нервничать. А Калинкину подарил костыль, который солдат поспешил оставить за воротами лазарета.
День был жаркий, солнце в поднебесье пекло невыносимо. Суровикинская словно вымерла – ни людей, ни телег на улицах. Куры и те спрятались под заборы, перестав купаться в пыли.
Духота стояла и в кабинете коменданта, хотя окна были распахнуты. Увидев на пороге Магуру с Калинкиным, комендант усадил их под кумачовым лозунгом «Все на борьбу с Красновым!».
– Хотел лично в лазарете познакомиться, да все недосуг было зайти, – сказал комендант, рассматривая Магуру. – Про твою боевую биографию знаю. Потому и к себе вызвал. Держи.
– Что это? – удивился Николай, получив листок с печатью.
– Мандат, – сказал комендант. – Назначаешься, согласно приказу, комиссаром. С людьми у нас, сам понимаешь, не густо – фронт почти всех забрал. А ты человек проверенный, в партии не первый год. Так что поработай комиссаром до полного выздоровления.
– Мне же в родной полк надо! – напомнил Магура.
– Успеешь, – сказал, как отрезал, комендант.
Магура поднял к глазам мандат. Скачущие буквы пишущей машинки выстраивали на листке короткий текст:
«По решению станичного Совета тов. Магура Н. С. назначается комиссаром уездного агитотдела по делам искусств, что и удостоверяется настоящим мандатом».
– Шутки шутишь? – поднял матрос брови.
– И не думаю, – серьезно ответил комендант. – Организуешь агитотдел, подберешь себе замену – тогда не стану больше задерживать. А пока, – комендант развел руками, – не взыщи: дело превыше всего.
Что вменялось в обязанности комиссару по искусству, какими он наделен правами и полномочиями, комендант не знал. Пришла установка организовать агитационный отдел – и комендант установку выполнил. А что делать комиссару – это уже забота самого комиссара. Подспудно чувствуя за собой вину, комендант на прощанье сказал:
– Товарища Калинкина в помощники даю.
Из комендатуры новоиспеченный комиссар и Калинкин вышли подавленными. Разговаривать не хотелось. Они брели по улице и не смотрели друг на друга. Лишь у гостиницы Калинкин сказал:
– Хуже нет, когда впереди полная темнота, как нынче. Знать бы точно, что делать, – тогда и жить веселее.
Оказавшись в гостиничном номере на две койки, Калинкин первым делом обследовал обои и успокоился, не обнаружив под ними скопления клопов.
Магура подошел к окну.
«Был бы комиссариат дельный, а то – нате вам! – „по искусству!“ Ну какое в этом захолустье искусство? Плюнуть на все и на фронт махнуть?» – подумал Николай, но тут же понял, что бегство от комиссарства будет похоже на форменное дезертирство.
Окончательно упав духом, Магура присел на подоконник. Из первого этажа гостиницы, где располагалась ресторация, доносилась песня. Попискивала скрипка, расстроенно бренчало фортепиано, и томный женский голос выводил:
Мне все равно – коньяк или сивуха,
К напиткам я привык давно.
Мне все равно, мне все равно!
Мне все равно – тесак иль сабля,
Нашивки пусть другим даются,
А подпоручики напьются!
Мне все равно, мне все равно…
– Вот заладила! – в сердцах чертыхнулся Калинкин. – Нет чтобы строевую или походную затянуть! Публику – ишь ты! – пением зазывает. А какая нынче публика? Цены в ресторане кусаются. А кто с великим удовольствием раскошелился бы, тот нынче в ресторацию трусит идти и дома отсиживается. Неужели это самое и есть искусство?
– Нет, это не искусство, – твердо и упрямо сказал Магура.
Ложиться спать не хотелось. И он продолжал смотреть на улицу, где в пыли купалась пестрая хохлатка, а у забора дремал мужик в картузе.
И тут, когда на душе скребли кошки и весь свет был не мил, к Магуре пришла спасительная идея, осуществив которую можно было вырваться из тылового захолустья.
– На фронт хочешь? – спросил комиссар Калинкина.
– Спрашиваешь! – ответил солдат.
– Выберемся из этой дыры, не сомневайся! – пообещал матрос. – По всем правилам, согласно мандату. Поет певичка? Танцует?
– Кажись, так, – кивнул солдат.
– Ну, и мы с тобой песни да танцы организуем! Для фронтовиков!
Калинкин потер переносицу:
– Боюсь, что петь да ногами кренделя выделывать у меня не получится.
– Чудак! – рассмеялся Магура. – Не мы будем петь и танцевать, а настоящие артисты. Отыщем их и вместе с ними на передовую махнем! Там и концерт дадим, чтобы бойцы радовались. Ясно?
Что будет после концерта на передовой, Магура не договорил, потому что Калинкин был понятливым. Главное, из Суровикинской вырваться и на фронте среди однополчан оказаться, чтобы биться там с беляками за мировое царство социализма.
2
«Уездный агитотдел искусств приглашает на вокзал в комн. № 12, сознательных, верных революционному долгу артистов на предмет участия в концертах»
Объявление в суровикинской газете «Коммунар»
– Думаешь, придут? – с недоверием спросил комиссара Калинкин.
– Куда им еще деться? Прослышаны, что на службе искусству паек положен.
Магура с Калинкиным шли по железнодорожным путям, отыскивая на станции выделенный их комиссариату вагон. Тот стоял за семафором на запасных путях и был старым, обшарпанным.
– Где в окнах стекол нет – фанерой забьешь. А чтоб сам вагон поприглядней выглядел – нарисуешь на нем лозунги. Вроде: «Искусство – в массы!» или еще что-нибудь. «Буржуйкой» разживись, чтоб готовить в пути на ней было можно. В общем, будь за интенданта, ведай хозяйством, – приказал Магура, а сам вернулся на станцию, где его ожидал явившийся по объявлению горбоносый сутулившийся старик в мятых брюках и лоснящемся сюртуке.
– Профессия? – спросил Магура.
– Пардон, не понял, точнее, не расслышал. Если можно, погромче, – попросил старик и приложил к уху ладонь.
– Что делать умеете? – повысил голос комиссар.
– Дело в том, что я музыкант. Так сказать, скрипач. В тринадцатом году играл в кафешантане «Поющая ласточка» в Мелитополе. Позже имел удовольствие участвовать в оркестре Ваганьковского кладбища…
– Что играть можете?
– Сейчас, к сожалению, ничего. Я лишился своей скрипки. Пришлось продать, точнее, обменять на крупу. Попал, в некотором роде, в переделку, в пренеприятнейшую историю…
– Инструмента, значит, нет? – перебил Магура.
– Нонсенс, – развел руками старик. – Но если вы обеспечите меня подобающим инструментом…
– Инструмента у меня нет. Значит, не могу принять на работу, – решил комиссар и добавил: – Нонсенс по-вашему.
Еще кого-нибудь из желающих участвовать в концерте и встать на довольствие не было, хотя Магура с Калинкиным прождали на вокзале целый день.
И когда они уже собрались вернуться в свой вагон, перед ними в сопровождении милиционера выросла фигура грузного человека в серой и мятой манишке.
– Вот, безбилетного одного задержали, – сказал милиционер. – Называет себя настоящим артистом и утверждает, что работал прежде в театрах и известен как певец Петряев.
– Где прежде служили? – спросил Магура.
– В Императорском оперном, в Петербурге. Имел там ангажемент три сезона. С вашего позволения – баритон.
– Что пели?
– Сочинения маэстро Россини, Верди, Леонкавалло. Участвовал в постановках, давал сольные концерты. Впрочем, вы можете не верить на слово.
– Разберемся, – решил комиссар.
3
Воинская часть грузилась в теплушки. Бойцы таскали ящики, мешки, спрессованный фураж, переговаривались с торговками семечек и яблок, которые выстроились со своим товаром вдоль перрона.
В последнюю в составе теплушку по двум проложенным доскам проводили коней.
– Н-но, Ясенька! – пробовал успокоить каурого жеребца боец, но конь упрямо мотал головой, пробуя вырвать у красногвардейца уздечку, бил копытами и недовольно ржал. Стоило бойцу на миг зазеваться, ослабить узду, как жеребец взвился на дыбы и опрометью понесся по путям.
– Бешеный! – взвизгнула одна из торговок.
– Убьет! – истошно крикнул еще кто-то.
Наводя панику на запрудивших перрон людей, жеребец бежал резво, переходя в галоп, и уже был возле пакгауза, когда на его пути выросла женщина.
Хрупкая, в добела вылинявшей ситцевой кофточке, она бесстрашно стояла перед несущимся на нее конем.
Жеребец сбавил бег и попытался свернуть в сторону. Но женщина схватила его под уздцы.
Почувствовав сильную руку, жеребец замер, продолжая трепать головой и нервно поводить ноздрями.
– Шалишь! – похлопав коня, сказала женщина.
С опозданием подбежал запыхавшийся боец. Не успев отдышаться, он торопливо заговорил:
– Здорово вы его! Прям удивление берет! Наш Ясенька никого к себе из чужих не подпускает – сильно характерная коняга. Как не испугались? Ведь запросто мог убить.
– Нет, не мог, – улыбнулась женщина.
– Это как? Иль слово какое секретное знаете?
– Я много лет работала с лошадьми в цирке.
Вокруг женщины, бойца и коня начали собираться оправившиеся от испуга любопытные.
– Раньше была наездницей, позже стала заниматься дрессурой коней, а в танцах на коне и верховой езде меня заменила дочь. – Чувствуя, что ей не очень верят, женщина обернулась и позвала: – Люда, продемонстрируй. Ты жаловалась, что скучаешь по коням.
Толпа расступилась, пропустив девушку в косынке.
Ласково потрепав коня по холке, девушка подобрала юбку и, оттолкнувшись от земли, вскочила на круп жеребца.
– Оп! – скомандовала женщина, и дочь ловко соскочила на перрон.
По толпе пронесся вздох восторга:
– Точно, как в цирке!
– Ну и здорово же!
Лишь боец ничего не сказал: от изумления у него перехватило дыхание.
– Простите! – Сквозь толпу пробрался Магура. – В цирке, говорите, работали?
– Да, – кивнула женщина. – Вместе с дочерью. Служила у Чинезелли соло-жокеем. Дочь работала на манеже гротеск-наездницей.
– Документы в порядке?
– Конечно, – ответила бывшая наездница, еще не зная, куда клонит широкоплечий матрос в бушлате.
– Давайте знакомиться, – Магура посмотрел на девушку, встретился с ней взглядом, кашлянул и представился: – Комиссар по искусству. Предлагаю работу, а с ней положенный паек и денежное довольствие. Разговор не для улицы. Прошу в вагон.
Мать с дочерью переглянулись.
– Прошу, – повторил приглашение Магура и, дождавшись, когда две артистки цирка возьмут баул и чемодан, повел их к вагону, возле которого хозяйничал Калинкин, а чуть поодаль, нахохлившись, стоял певец Петряев.
В купе Магура вытер платком шею, собрался закурить, но раздумал.
– Предложение у меня такое: служить революции и трудовому пролетариату, который сейчас борется на всех фронтах с гидрой мирового капитализма и белогвардейцами. Люди вы в искусстве опытные, дело свое знаете, а вынуждены бездельничать, вместо того, чтобы радовать и поднимать бойцов и командиров доблестной Красной Армии на новые победы.
– Пардон. Имеются вопросы и сомнения, – перебил певец Петряев, исподлобья смотря на комиссара. – Как прикажете считать ваши слова: за просьбу или же за приказ? Прошу разъяснить.
– Как желаете, так и считайте, – ответил Магура. – Пора, товарищи артисты, помочь своим мастерством революционному народу. Одним словом – искусство в массы рабочих и крестьян.
– Меня интересуют вопросы зала и публики, – снова заметил певец. – Где, по-вашему, нам предстоит выступать, в каких театрах, на каких сценах? И кто обеспечит публику и сборы?
– О публике не беспокойтесь. Публика будет отличная. А о сборах придется забыть: концерты даем бесплатно. Что же касается сомнений… Имя и отчество ваши узнать можно?
Петряев передернул плечами:
– Константин Ефремович.
– Так вот, гражданин Константин Ефремович. У меня насчет вас больше есть возражений и сомнений. Беру на работу, а не знаю, что вы умеете. Как говорится, кота в мешке покупаю. Думаю, что доверие оправдаете. Кстати, на каком инструменте можете играть?
– У меня всегда была аккомпаниатор на сольных концертах. А в опере пел, как положено, под оркестр.
– На гитаре умеете?
– Да, но…
– Вот и ладно, – Магура положил ладонь на крышку столика, словно поставил точку или пришлепнул печатью. – Гитару обещаю раздобыть. А с роялем или пианино придется повременить. Громоздкие инструменты в вагон не влезут. А сейчас… – Магура взглянул на цирковых артисток, – прошу получить крупу, воблу и хлеб. Пайки выдаст товарищ Калинкин, он у нас за интенданта.
– Позвольте! – вновь собрался вступить в пререкания певец, но Людмила его перебила:
– Можно распаковывать реквизит?
– Чего? – не понял комиссар.
– Костюмы. Они измялись. Надо все выгладить.
– Значит, согласны?
– Честно признаюсь, у нас нет выхода, – сказала бывшая наездница. – Цирк, где мы работали, закрылся, хозяин, некто Перепеловский, сбежал с выручкой, забыв с нами расплатиться. Пришлось продать коней: ни нам, ни тем более им нечего было есть… Я только не понимаю, что мы у вас будем делать без коней?
– Будут кони, – пообещал Магура, – а пока устраивайтесь как дома. Утром подадут паровоз.
4
Приказ № 1 по комиссариату искусств
1. Принять на работу в агитотдел и взять на полное довольствие с сего числа тов. артистов: Петряева (он же Веньяминов-Жемчужный) К. Е., Добжанскую А. И., Добжанскую Л. С.
2. Назначить тов. Калинкина И. И. интендантом комиссариата со всеми вытекающими из этого полномочиями и обязанностями.
3. Считать вышеупомянутых товарищей членами фронтовой бригады агитотдела.
Комиссар Магура
Ушел на запад эшелон красноармейцев, и вокзал замер, утих, запрудившие его люди улеглись в здании на лавках и на полу, надеясь, что утром им удастся наконец-то уехать.
В стоящем на запасных путях одиноком вагоне никто не спал. Калинкин помешивал кистью в банке с алой краской, Магура, устроившись на лесенке, слушал тишину. Певец Петряев был занят стиркой носков и при этом мурлыкал под нос какую-то мелодию, Людмила и Анна Ивановна Добжанские развешивали в купе свой небогатый гардероб.
– Обратила внимание, какой был жеребец? – спросила Людмила мать. – Хоть сейчас выводи на манеж.
– Может быть, со временем у нас снова будет своя конюшня… Когда закончится война, люди обязательно вспомнят о театре и цирке.
– Уже сейчас вспомнили. Комиссар вспомнил.
– Он выглядит вполне интеллигентным. Ты заметила?
– Ложись, пожалуйста. Мы еще не знаем, что нас ждет утром, спустя сутки.
Тишина вокруг вагона нагоняла спокойствие, безмятежность, а вместе с ними сон.
– Завтра допишу, – решил Калинкин, подойдя к Магуре. – Еще можно гидру контрреволюции, Краснова или Деникина, нарисовать. Как они от наших штыков улепетывают.
– Всего трех артистов нашли, не мало ли? – пожаловался комиссар, думая о своем. – Для полного концерта, боюсь, не хватит. К тому же коней нет, и гитары тоже…
– Это ты правильно с концертом придумал. При теперешнем положении искусство, – Калинкин сжал кулак, – во как республике нужно. А то что артистов маловато – не беда. Приедем на фронт, бросим клич – и среди бойцов артисты найдутся.
Темная беззвездная ночь обступала станцию, заглядывала в окна агитвагона.
Утром прибыл закопченный, яростно пыхтящий паром и стреляющий из трубы искрами паровоз. Подцепив вагон, он без свиста покатил к светлеющему горизонту. И побежали за окнами телеграфные столбы, застучали под полом вагона специального назначения (так вагон числился в железнодорожном ведомстве) колеса.
Первым проснулся Калинкин. Протерев глаза, он с удивлением осмотрелся, не сразу вспомнив, где находится, затем оделся и прошел по тендеру в будку паровоза, где шуровал в топке кочегар, а у рычагов и манометров стоял машинист.
– С топливом худо, – пожаловался кочегар. – На сотню только верст уголька хватит.
– Чего-нибудь придумаем, – успокоил его Калинкин и выглянул из будки, подставив лицо упругому ветру.
– Сам тоже из артистов? – покосившись на интенданта, хмуро спросил машинист.
– Я-то? Разве похож? – улыбнулся Калинкин. – Мы этому делу не обучены. Мы больше к борьбе расположены.
– К какой еще борьбе?
– К борьбе за полное освобождение пролетариата от гнета капитала. У каждого человека талант есть. У тебя, скажем, талант паровозы водить, у меня талант к армейской службе. Я на фронтах, почитай, с четырнадцатого. Как взял тогда впервые винтовку в руки, так она все время со мной. Словно прилипла.
– Чего твои артисты представлять будут?
– Разное. А точно не знаю и врать не буду, потому как в работе их не видел.
Калинкин постоял еще в будке, затем вернулся в вагон, где столкнулся с певцом. Буркнув «пардон», Петряев юркнул в коридор и постучал в купе Добжанских.
– Тысяча извинений. Я к вам, сударыня, с превеликой просьбой: не одолжите ли утюжок? В дороге немного поизмялся, надо привести гардероб в надлежащий вид.
– Утюг есть, надо лишь попросить у машиниста углей, – приглашая в купе, сказала Анна Ивановна. – Но зачем сами занимались стиркой? Неужели не могли попросить меня или Людмилу?
– Не счел удобным беспокоить.
– Но вы лишь сполоснули! Снимайте это чудо прачечного искусства! И никаких возражений! – потребовала Добжанская и отвернулась к окну. – Ну, сняли?
– Да, – несмело отозвался Петряев.
Добжанская обернулась и, не обращая внимания на стыдливо поднявшего воротник пиджака и закрывшего руками голую грудь Петряева, отобрала манишку.
– Не знаю, как вы, а я и дочь ужасно истосковались по работе, по взмаху дирижерской палочки, по инспектору манежа, по свету софитов, по запаху опилок на манеже…
– Вся Россия-матушка сейчас скучает, – согласился Петряев. – Вот смотрю я на вас и удивляюсь: как могли согласиться на эту авантюру с поездкой на фронт? Лично я последнее время ничего не принимаю на веру. А вы, на свою беду, поверили этому комиссару. Неужели серьезно считаете, что большевики сумеют достойно оценить возвышенное, сумеют понять Его Величество Искусство? Они привыкли к балагану на ярмарке, к шарлатанству! – Петряев поднял палец и привстал на цыпочки.
– Но они так тянутся к искусству, – заметила Людмила. – И мы должны, даже обязаны, помочь им прикоснуться к прекрасному.
Петряев скривил губы, повел плечом:
– Вы, мадемуазель, заговорили расхожими большевистскими лозунгами и повели себя, как на митинге. А между тем, не мешает помнить, что товарищи большевики полностью отрицают все старое, которое громогласно объявили прогнившим, и на обломках старого смеют строить новое царство социализма! Да-с! И в этом называемом «царстве» не будет места для истинного искусства и, значит, для нас с вами!
– Вы же знаете, как сейчас трудно найти ангажемент. А тут…
– Я вас ни в коей мере не осуждаю, тем более за приход в этот комиссариат. Сам был вынужден согласиться на поездку. Но льщу себя надеждами, что все возвернется на круги своя и вскоре я окажусь среди вполне цивилизованной публики, которая сумеет отличить разухабистое «Яблочко» от арии Каварадоси.
Петряев умолк, считая преждевременным рассказывать о давно лелеемых им планах артисткам цирка, с кем судьба свела его лишь вчера. Тем более говорить о мечте перейти линию фронта и попасть в расположение белой армии, где, несомненно, кто-либо из командного состава прежде видел и слушал его. Тогда будет нетрудно выехать в Европу. Жизнь вдали от манящих огней рампы, прозябание в безделье среди грубой солдатни и матросни заставляли его упорно и настойчиво выискивать любую возможность поскорее и подальше уехать из непонятного ему, кажущегося враждебным и кошмарным нового мира, родившегося в стране в октябре минувшего семнадцатого года.
Нахохлившись, Петряев отчужденно смотрел в окно на проносящиеся мимо телеграфные столбы.
«По слухам, у красных на фронте царит полная неразбериха, со дня на день белая армия перейдет в наступление, двинется на Царицын и белокаменную Москву. А там настанет очередь и Питера. Дни Советской власти сочтены. Всю эту круговерть мне лучше переждать до прихода полного порядка и спокойной жизни в Европе, вдали от революционной шумихи…»
Певец вспомнил, как комиссар в матросском бушлате интересовался его репертуаром, и скривил губы в усмешке: «Имеет наглость рассчитывать, что я стану надрывать свои голосовые связки на открытых площадках под переборы мещанской гитары! Имена Леонкавалло и Верди для него пустой звук, как, впрочем, и все искусство».
Увидев, что Людмила Добжанская собирается перед стиркой зашить его порванную манишку, Петряев хотел сказать, что делать этого не стоит, – манишка свое отслужила, – но не успел. Над головой послышался крик:
– Стой! Все равно не убежишь!
Кричал Калинкин, и кричал не откуда-нибудь, а с крыши вагона.