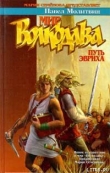Текст книги "Здравствуй, товарищ!"
Автор книги: Юрий Стрехнин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Глава пятая.
Ночь в которую не спалось
Поправив фитиль лампы, начинавшей коптить, Гурьев взглянул на часы: начало первого.
– Ну пожалуй, и отдохнуть можно.
Но спать не хотелось. До сна ли? Столько происшествий за этот вечер! Таких странных… Не стоит, пожалуй, возвращаться на ночлег в дом Илие: здесь, в кооперативе, они никого не стеснят. Опанасенко, подменившись с Федьковым, приведет сюда лошадей – он уже отдал распоряжение об этом. Он попросил Матея остаться с ними до утра – на всякий случай, если потребуется как переводчик. Матей охотно согласился.
– Что за человек хозяин этого дома? – спросил Гурьев.
Матей наморщил лоб, подбирая подходящее русское слово. Наконец, нашел:
– Жулик!
– Чувствуется. А что вы ещё о нём знаете?
С усилием выискивая нужные слова, Матей стал рассказывать о приказчике то, что ему было известно от отца и односельчан.
Когда-то Петреску имел собственную лавочку в ближнем городке – в том самом, который днем проезжал Гурьев. Незадолго до войны Петреску вернулся в родное село, ликвидировав свою коммерцию: не выдержал борьбы с конкурентами. В Мэркулешти в то время уже существовала кооперативная лавка. Главным заправилой в кооперативе был старый, недавно умерший отец Петреску, один из сельских богатеев – при его помощи Петреску и стал приказчиком.
Дом, в котором помещается лавка, принадлежит приказчику, но заарендован кооперативом. Петреску получает арендную плату и жалованье. И не только это составляет его доход. Все знают: немало прилипает к его рукам.
– Что же вы терпите таких кооператоров? Гнать их в шею! – не смог остаться равнодушным Гурьев.
Матей растопырил пальцы, порывисто собрал их в кулак:
– Кооператив – Петреску – так! – И пояснил: приказчик и богатеи в кооперативе – заодно. А против них, кроме старого Илие, кто голос поднимет? Да и что Илие один сделает?
– А если ему все помогут?
На это Матей только пожал плечами.
Гурьев помолчал, расстегнул ворот гимнастерки.
– Укладывайтесь-ка, Матей, вот здесь на диванчике. Держите подушку!
Убавив огонь в лампе, Гурьев, не раздеваясь, сняв только сапоги, улегся на широченной хозяйской кровати, на которой осталась ещё одна перина.
Глядя на бледный, неподвижный язычок огня за ламповым стеклом, он старался отгадать: где же сейчас «майор» и его спутники? Кто из них свалился с повозки и скрылся во тьме? Не вернется ли кто-нибудь из них в село? Побоятся… Да и зачем им? Но все же следует быть настороже.
Точила душу досада: промедлил, проосторожничал, упустил момент, а враги ускользнули. Может быть, ещё немало наделают пакостей, прежде чем кому-нибудь удастся их поймать. Удастся. А вот ему – не удалось. «Шляпа ты!» – выругал он себя и в сердцах повернулся лицом к стене.
Закрыл глаза – и в памяти побежали, обгоняя одна другую, картины сегодняшнего дня: сверкающий Прут; пыльная дорога; овеваемые путевым ветром, запыленные, почерневшие от солнца лица попутчиков; молодые глаза и седые усы старого Илие; прощупывающий взгляд фальшивого майора… И, заслоняя все картины, снова представилась взору тенистая, в солнечных брызгах, аллея госпитального парка, в которой, ещё недавно мечталось, он встретится с Леной…
Мысли о Лене не давали заснуть. Вытесняя картины виденного сегодня, всплыла в памяти давняя зимняя ночь, неуютная койка заезжего дома, на которой он тогда проворочался до утра без сна, как вот сейчас… Он и Лена, давно подружившись, вместе окончив институт, учительствовали тогда в разных селах и встречались редко, только во время районных совещаний. В тот раз он решил окончательно объясниться с нею…
Не спится. «Покурить, что ли?» Поднялся, вынул портсигар. Щелкнула крышка. Матей, лежавший на диванчике лицом к стене, обернулся.
– Закурим? – предложил Гурьев.
– О да! – Матей поднялся, неторопливо взял предложенную папиросу.
Гурьев выкрутил фитиль побольше, оба прикурили от лампы.
– Что-то сон не идет! – Гурьев выпустил изо рта тонкое колечко дыма.
– Да… – осторожно стряхнул пепел Матей. – Сегодня Мэркулешти – есте война! Без бомба. – Он признался: надеялся в селе забыть о войне, обрести покой. Но где он? И здесь всё напряженно, все ждут больших перемен…
– Скажите, – осторожно спросил Гурьев, – вы совсем решили остаться здесь?
– Да… – не сразу ответил Матей.
– А на завод не тянет обратно? Вы же столько лет там проработали…
– Работа… А дом? Дом – нет! Семья – нет… – В глазах Матея блеснули слезы. Глубоко затянулся, с силой выдохнул дым:
– Дракул американ! Вот так, – он показал глазами на тающую в воздухе струю папиросного дыма, – вот так: дом, жена, сын, жизнь… в такой дым.
– А завод, товарищи по работе?
Матей ничего не ответил.
«Растравил человеку недавнюю рану!» – попрекнул себя Гурьев.
Подошел и сел рядом!:
– Что ж, Матей… Не у вас одного… А надо жить. И каждый своё дело делать должен… – и оборвал: не так он говорит, не то.
Такое случалось с ним уже не первый раз: хотелось найти слова целительные, смягчающие боль человеку, которого жаль от всей души, – а вот не мог найти, и страдал от этого, и сам себя называл бесчувственным, равнодушным.
Нередко люди, которые недостаточно хорошо знали Гурьева, считали его несколько суховатым, даже черствым, хотя всегда, когда он способен был помочь делом, – он совершал всё, что мог.
Отчего он казался таким?
Конечно, не потому, что много пришлось ему за военные годы видеть человеческих бед, искалеченных судеб, смертей. Наоборот, это приучило его, как и всякого нормального человека, быть более чутким к людскому несчастью.
Но Гурьев издавна был мнителен, замкнут и застенчив: с ранних лет оставшись сиротой, рос он в чужой, неласковой семье, у дяди, не очень-то охотно взявшего мальчишку на воспитание. О жалостной доле «сиротинки» любили поговорить разные тетушки и кумушки, соседи и соседки. Утешения только ранили мальчику душу. Нередко он угадывал в них неискренность и фальшь – и с детства стал до мнительности нетерпим к ним. Может быть, поэтому ему часто казалось, что и человек, которого он сам начнет утешать в трудную минуту, может вдруг не поверить в подлинность теплоты слов, в искренность соболезнования. Чтобы поверил, – нужны какие-то особенные, наверняка сказанные слова, а Гурьеву всегда казалось, что он всё ещё не находит таких слов, а то, что говорили обычно в подобных обстоятельствах другие, казалось ему недостаточным.
Вот почему и сейчас, досадуя на свою беспомощность, молчал он, а ведь как понятно и близко было ему горе этого мало знакомого человека! Но, может быть, такое дружеское, «понимающее» молчание не менее значимо, чем самые красноречивые утешения?
Он сидел, не говоря ни слова, только глядел на склоненное лицо Матея, и хотя в эту минуту не видел его глаз, понимал: этот человек ощущает его безмолвное сочувствие.
Матей поднял голову, медленно спросил:
– А вы… есте жена?
– Есть! – Гурьев расстегнул карман гимнастерки и вынул фотографию, аккуратно завернутую в целлофан: – Вот.
– Бомба – нет?
– Жена жива и здорова.
Матей осторожно взял карточку. С неё глядела женщина с аккуратно уложенной венчиком косой, с упрямым и в то же время добрым ртом, со строговатыми и словно спрашивающими темными глазами.
– Ундэ есте? – Матей бережно возвратил фотографию.
– На Урале работала. Теперь будет работать на Украине.
– Работа? Офицер плата – мало?
– Да разве только ради платы? Для души работа нужна.
Матей недоумевающе пожал плечами. Его жена, когда была девушкой, работала. Но когда они поженились, она оставила работу и занялась домашним хозяйством. Зачем ей трудиться на чужих, когда нужно всё делать для себя?
– Эх, Матей, – Гурьев положил руку ему на плечо, – поймите: у нас никто не работает на «чужих».
– У вас работа на фабрика – как на свой двор? Да?;
– Вот именно.
– О, у вас… Романия – нет так.
– Нет, но будет.
Гурьев обрадовался: кажется, вот он нашел то, что важнее всяких соболезнований. Да, именно это!
– А почему бы вам, Матей, в Плоешти не вернуться? Здесь вы, я вижу, – не в своей тарелке.
– Тарелка? Фарфорита[28]28
Тарелка (рум.)
[Закрыть]?
– Это по-русски так говорится… Я хочу вам вот что сказать: поправите здоровье – на свой завод уезжайте обратно. Ведь там вся ваша жизнь…
– Нет жизнь.
– Неправда. Была и будет! – мягко возразил Гурьев. – Ведь вы корнями – рабочий человек.
Грустно покачав головой, ответил Матей: хотел бы совсем забыть о жизни в Плоешти, ослабить тем своё горе, если его только можно ослабить.
Гурьев все с той же мягкостью возражал ему: чем дальше – тем горше будет Матею здесь, вдали от привычного дела.
Разговор затянулся надолго. Сизый папиросный дым заволок уже всю комнату. Наконец, Гурьев сказал, глянув в окно, за которым черное уже стало синеватым:
– Давайте-ка спать всё же.
Матей лежал, отвернувшись к стене и закрыв глаза. Но после разговора с русским офицером сон совсем не шел к нему. Многое всколыхнул в его душе этот короткий разговор.
Вот уже второй месяц он в родном доме, ощущает теплую заботу матери, прилежно трудится вместе с отцом. Но нет той тяги к хозяйству, которая была когда-то. Это и отец замечает. И обижается, хотя и не подает вида.
А Матею всё тягостнее в Мэркулешти. Всё чаще и чаще думается: а как там на заводе? Кто из товарищей остался, не ушел в другие места в поисках работы? Начнут ли восстанавливать? Когда? Какие установятся порядки теперь, когда сбежали все немецкие управляющие, инженеры, мастера? Можно ли будет, наконец, машинистом стать? Но ведь он решил не возвращаться. Решил… Но завод… Ведь Матей своими руками его строил, Сколько лет там прожито, сколько друзей осталось…
Не спалось Матею.
* * *
Федьков долго ещё бродил по двору с фонарем, осматривая все закоулки. Потом притащил в сенцы охапку соломы, бросил на пол, расстелил сверху плащ-палатку и улегся: через два часа следовало сменить Опанасенко.
Обычно Федьков погружался в сон мгновенно, как погружается в воду камень. Но на этот раз ему заснуть не удавалось: в соломе оказалось множество блох и ещё каких-то мелких тварей. Федьков ворочался, потом вскочил, выругался, сгреб солому в охапку, выбросил во двор.
– Заели, проклятые! Пойду-ка к хозяину да раздобуду перину. У него много… – Он вышел на крыльцо и направился к летней кухне.
Приоткрыв дверь, разглядел в свете коптилки, стоявшей на дощатом столе: на сдвинутых вместе двух скамьях высоко взмощены перины, и на них, нераздетый и неразутый, лежит, неловко поджав толстые ноги, приказчик.
Услышав скрип двери, он приподнялся. «Сейчас «пожалуйста» скажет!» – приготовился Федьков. И приказчик, шаром скатившись с кровати, действительно воскликнул: «Пожалуйста!» Сколько раз уже слышал Федьков по пути это угодливое словечко…
– Эй, домнуле, нет ли перинки лишней до утра? – спросил он, показывая на ложе хозяина.
– Пожалуйста, пожалуйста!
Приказчик засуетился, начал оправлять постель, взбивать подушку. Вероятно, решил: русский собирается спать здесь. Но Федьков жестом остановил его:
– Дай-ка вот эту – и ладно! Зверей нет в ней? Утром обратно получишь, не бойся! – Он успокоительно похлопал приказчика по плечу, взял свернутую перину и повернулся к выходу.
Приказчик вдруг ринулся следом.
– Момент, момент, домнуле!..
– Ну чего тебе? Сказано – утром отдам.
Протестующе замахав руками, приказчик заулыбался: дело не в перине.
Тыча пальцем то в себя, то в Федькова, то в сторону стола, он начал о чем-то настойчиво просить. Федьков недоумевал: что хочет от него этот беспокойный человек?
Ободренный вниманием русского, приказчик мгновенно выложил откуда-то на стол бумагу, перо, выставил чернильницу. Федьков догадался: просит справку! По дороге ему уже случалось писать справки вроде таких: «пообедал с удовольствием», «ночевал хорошо, блох нет, в чем и подписуюсь». Он давал эти справки без особого смущения, не понимая, зачем некоторые хозяева из богатеньких так настойчиво требуют такие никчемные бумаги.
– Ну ладно, шут с тобой! – легко согласился Федьков. – Заверю все, что угодно, хоть то, что ты арапский князь. Чего писать-то?
Багровея от напряжения, Петреску стал объяснять на невообразимом наречии, состоящем из смеси румынских, немецких и перевранных русских слов. Как изловчились здешние коммерсанты так быстро узнавать русские слова – оставалось для Федькова непостижимой загадкой.
По мере того как Федьков слушал, его лицо все более хмурилось. Наконец, он взорвался:
– Да пошел ты!.. Какие овчины, какой товар? Для нужд Советской Армии? Выдумываешь!
– Папир… документ! – твердил свое приказчик. – Вайтер на фронт. Администрата русешти ну: документ Петреску, Мэркулешти кооператив – давай? На фронт товарищ…
– На фронт, на фронт… Это ты брось! – нахмурился Федьков. – С нас везде спросят! Так и буду я тебе что попало писать? Дурачка нашел'!
– Товар, товар, коммерция!
– Катись ты с коммерцией!
Но приказчик не отставал. Вспотев от волнения так, что его круглая голова заблестела, словно смазанная жиром, он путано стал объяснять, что, если господин военный даст ему расписку, Петреску предъявит её в оправдание недостачи товара.
– А куда ж ты товар девал?
– Русешти: «Давай!» Офичер, сержент, солдат. Товарич.
«Уж не этот ли майор липовый его добро куда-нибудь задевал?» – Федьков заколебался: а если и в самом деле написать справку? Продавцу какой ни на есть оправдательный документ будет.
– О, домнуле фельдфебель! – тарахтел приказчик, ободренный раздумьем Федькова. – Момент! – Он юркнул куда-то в угол, вытащил пачку лей и выложил её на стол:
Пожалуйста, домнуле фельдфебель!
Федьков пренебрежительно покосился на деньги:
– Подумаешь, прельстил!
– Пожалуйста! Пожалуйста! – приказчик метнул на стол еще несколько бумажек.
– Ты что это мне – взятку? – рассвирепел Федьков.
То успокаивающе поглаживая Федькова по рукаву, то быстро потирая большим пальцем об указательный, что, как известно, на всех языках мира обозначает получение мзды, приказчик, часто повторяя слово «Букарешти» и показывая пальцем в потолок, растолковывал: королевские министры берут, почему господину фельдфебелю не взять?
– Тоже мне! – презрительно прищурился Федьков. – У вас министры продаются, а у нас и простого солдата не купишь… И никакой я тебе не фельдфебель! Гутен нахт!
Отстранив толстяка, Федьков решительно пошел к двери, но вдруг остановился. Озорная улыбка мелькнула на его губах:
– Ладно, напишу тебе справку! Бесплатно.
– Пожалуйста! – Приказчик мигом обмакнул перо в чернильницу и протянул его Федькову. Тот уселся за стол.
Переминаясь позади, приказчик следил за рукой Федькова и пытался угадать: что он будет писать?
– Да отойди ты! – сверкнул тот глазами.
Приказчик на цыпочках отбежал от стола.
Федьков не спеша водил пером по бумаге: «Расписка. Дана сия продавцу кооператива деревни Мэркулешти…»
– Эй, как тебя зовут? Фамилия! Еску?
– Ион Петреску, домнуле фельдфебель! – подскочил приказчик.
– «…Ивану Петреску в том, что для военных нужд от него получено…» Да что получено, растолкуй?
Чертя цифры пальцем на доске стола и с натугой ища понятные для русского слова, приказчик перечислил: овчин двести штук, табака восемь мешков.
– Так, так, – продолжал писать Федьков. Закончив, лихо расчеркнулся и сунул бумажку приказчику:
– На!
– Мульцумеск, мульцумеск! – обрадованно закивал тот, подхватывая бумагу.
– Пользуйся! – бросил Федьков. – Я не королевский министр, денег не беру!
Захватив приготовленную перину, он ушел. Петреску, убрав со стола свои леи, осторожно положил на стол драгоценную для него расписку. Вынул из кармана очки, водрузил их на мясистый нос. Нагнувшись над бумажкой, силился разобрать написанное, но, к своему огорчению, ничего не смог прочесть. Однако, рассмотрев проставленные в тексте цифры «200» и «8», успокоился: количество товара указано правильно. А товар-то весь цел… Отлично!
Как только его освободили из подвала, Петреску побежал в лавку, в кладовую, посмотреть: всё ли на месте? Овчин и табака не оказалось. Он сбегал на огород, заглянул в тайник, и у него отлегло от сердца. Здесь! Молодец Марчел, догадался и успел. Только куда он сам исчез?
Старательно спрятав расписку, Петреску прикрутил фитилек, улегся. Но едва ли он заснул бы спокойно, если бы точно знал, что Федьков написал ему:
«Дана сия продавцу кооператива деревни Меркулешти Ивану Петреску в том, что никакие 200 овчин и 8 мешков табака у него не брали, что подписью своей и удостоверяю».
* * *
Глухая ночь стояла над Мэркулешти. Наверное, если посмотришь с ближней горы, – не разыщешь села, погруженного в тьму и безмолвие. Но не все в Мэркулешти могли заснуть этой ночью, хотя и была она тиха…
Попрежнему не шел сон к Федькову: то казалось, что кусают блохи, то чудились какие-то шорохи за стеной на дворе. Но не блохи и не шорохи мешали заснуть Федькову. Не давала покоя ему злость. «Жуликмахер треклятый! – думал он о приказчике. – Люди воюют, кровь проливают, а такому всё одна забота: как бы словчить да нажиться! Вот этакие, поди, и в Одессе хозяйничали».
Федьков повернулся на бок и стиснул зубы, словно от боли. Вспомнив об Одессе, он не мог не растревожить вновь своего сердца.
И снова пришло в голову: а что если там, на горном хуторе – каких чудес не бывает! – она? И вдруг появится утром… Нет, лучше пусть и на глаза не попадается. А ведь когда-то дня не мог прожить, не повидав, часа – не подумав о ней.
…Однажды к ним на судоремонтный пришли девушки, практикантки из машиностроительного техникума. Одну из них, звали её Клавой, поставили работать за соседним станком.
Федьков никогда перед девчатами не терялся. Он моментально познакомился с Клавой, а через несколько дней они уже стали друзьями.
Обычно легкий на встречи и расставания, Федьков на этот раз, к удивлению своему, ощутил, что его, как он сам себе признался, «зацепило» по-настоящему. Всё в Клаве казалось ему хорошим.
Её практика закончилась, но они продолжали встречаться почти ежедневно. Федьков уже стал прикапливать деньги на женитьбу, даже завел сберкнижку, хотя раньше никто бы не смог уговорить его на это.
Но как-то раз Клавдия не пришла на назначенное свидание. Потом он увидал её возле кино с каким-то гражданином в великолепном костюме.
Клавдия стала избегать Федькова. Однако он всё-таки сумел встретиться с нею, потребовал объяснения. Желая, видимо, покончить всё разом, она сказала: встретила штурмана дальнего плавания, он ей нравится больше, чем Василий; она просит её извинить…
В тот же день, взяв с книжки все деньги, приготовленные на обзаведение, он с несколькими приятелями отправился в ресторан на Дерибасовскую и всё накопления спустил в один вечер в жажде заглушить горе. Друзья убеждали его: «Начхай на эту красавицу! Нет в ней настоящего! Тряпки ей заграничные нужны, которые штурман этот привозит. Пьем за освобождение твоего сердца!»
Прошло недели две, и вдруг она сама пришла к нему. Заплакала, стала уверять: ошиблась, любит, а того штурмана уже забыла, да он теперь и не живет в Одессе: судно его переведено в Тихоокеанское пароходство.
Хоть и горьковато было Федькову, но он всё простил. А друзья, узнав о случившемся, стояли на прежнем. «Крутит она. Не захотела с Одессой расставаться – только и всего, пожалуй. Ещё не раз тебя обманет!»
Тогда он чуть не рассорился с друзьями… А ведь как они оказались правы!
Тем временем Стефан уже крепко спал в сарае, на соломе. Но и к нему сон пришел не сразу. События сегодняшнего вечера и особенно встреча с русским ровесником взбудоражили его: не рано ли отказываться от своих надежд? Ведь Флорика попрежнему любит его… Нет, обязательно надо поговорить с нею, пока не поздно. Завтра же поговорить.
И грезилось Стефану: он и Флорика утром идут на работу. Одеты почему-то оба по-праздничному – да не прямо ли со свадьбы они? На Флорике белая кофта с богатой вышивкой красными и черными узорами, красные башмаки. Она весело прильнула сбоку к Стефану, держит его за руку, и рука совсем, совсем не болит… Ну, конечно, они идут со свадьбы: сзади гомонят гости, пиликает скрипка, бойко выстукивает бубен, и кто-то подыгрывает на пастушьей дудке. А поле-то какое широкое вокруг! Золотыми волнами хлебов переливается оно от края и до края. Стефан и Флорика идут на свой надел. Но где он? Стефан ищет и не может найти. Уж не заблудился ли он? Не забыл ли за годы солдатчины дорогу к своему полю? Ведь поле, по которому они идут, – поле господина Александреску. Стефан в замешательстве остановился. Неужели он мог заблудиться на своей земле? Сзади всё веселее поет скрипка, всё быстрее и быстрее постукивает бубен, и Флорика, улыбаясь, тянет Стефана за рукав…
А в темной хате, погасив светильник, чтобы не расходовать дрова и капли керосина, старая Дидина стоит на коленях перед невидимыми ей во тьме иконами – только белеют узорные полотенца – и старательно молится, чуть слышно, одними губами, шепча слова. Молится о том, чтобы Сабин из России скорее вернулся. Может быть, он – среди тех воинов, о которых рассказывал русский офицер? Сухими губами Дидина шепчет: «Прости меня, пресвятая богородица, что молила я за упокой души сына своего. Верни его, пречистая, поскорее домой, ведь возвращаешь же ты других, ну что тебе стоит? Пожалей старую Дидину… А русским… – Дидина на минутку задумывается: можно ли молить богородицу за русских, которые были в их доме? Ведь они, наверное, и в бога не веруют? Но потом решительно крестится и шепчет: – А русским за их добрую весть сохрани здоровье и силы. И ещё молю: пусть поскорее окончится война везде и всюду, пусть все сыновья к матерям вернутся.
А старый Илие лежит на скрипучей деревянной кровати и, закрыв глаза, невольно прислушивается к проникновенному шепоту Дидины. «Эк размолилась, старая, – думает он. – Наверное, о Сабине всё! Неужто он и в самом деле жив и вернется, как сказал русский офицер? – Он и раньше не верил россказням про русских. – Не враги, нет. Побыли в доме недолго, а словно молодую душу в Илие вдохнули. Неужто не только мир вернется, а и лучшая жизнь настанет? Слышно, господин Александреску уезжать собирается. Уж не на совсем ли? Дай боже! Может, боярскую землю делить начнут? Сколько лет об этом мечту таили. Эх, прирезать бы к наделу гектар – другой, да вернулся бы Сабин, да Матей бы в хозяйстве остался… Вот только всё ещё не в себе он: тоскует по жене, по сыну. Пропал внучек… Так и не повидал его дед Илие ни разу. Старику грустно: давно пора иметь ему внуков, да вот война, проклятая, жизнь испортила: Стефана теперь не женишь, Сабин – неизвестно, жив ли, нет ли. А без внуков… Для кого же и хозяйство подымать? Ему с Дидиной многого не надо. Ох, беспокоит его Матей! Куда делась в нем любовь к земле? А прибавили бы надел – поднял бы Илие с сыновьями хозяйство. Только ведь хорошую жизнь никто тебе, Илие, в кошелке не принесет…»
Долго не спится старику. Долго слышится в темноте тихая, но жаркая молитва бабушки Дидины. И только Стефан спит и видит во сне свою – э, ещё не свою – Флорику…
* * *
Держа карабин на изготовку, Опанасенко стоял возле крыльца и настороженно вглядывался в темный, пустой двор. Откуда-то доносился чуть слышный ровный гул, похожий на далекий звук непрерывно идущих поездов: это где-то в горах звенели неугомонные потоки. «Диковинно! – размышлял Опанасенко: – Горы гуторят, а на селе – тишина мертвячья. У нас – не так, как здесь. Слышно: в степу тракторы гудуть, молотилки, а то по дороге автомашина прошумит, собаки взлают, либо середь ночи возчики с района вернутся; шум, разговор. А то кто-нибудь радио забудет выключить перед сном, так из открытого окна музыка и звенит на всю улицу. А здесь – и пёс ночью не гавкнет: нема никого… Эх, далеко отсюда до ридных Горбанцов… Вот как война людей кидает. А где-то Яринка сейчас? Жива ли? Не закатували ли её гитлеровцы?.. Что то за дивчина на хуторе? Побачить бы, Когда же она придет? А то ведь утром ранесенько ехать надо… Э! Що таке?»
Трофим Сидорович встрепенулся: кто-то осторожно крался по двору, не от ворот, а от задворков. Шаги приближались – осторожные, чуть слышные. Вот они затихли. Идущий, видимо, остановился.
– Стой! Кто идет! – окликнул Опанасенко, вскидывая карабин.
Что-то прошуршало за сараем.
«Кто ж то мог быть? – пытался догадаться Опанасенко.– А может так, собака бродяча?»
Ни он, ни кто-либо другой не знал, что это таился сын приказчика, Марчел.

Ещё тогда, когда неизвестный русский офицер появился в первый раз, Марчел незаметно выскользнул из дома и спрятался за сараем, прислушиваясь к каждому звуку. После ухода офицера хотел вернуться в дом, но так и не отважился на это. А когда услышал, что шеф и его подручные, испугавшись чего-то, помчались со двора, – Марчел в страхе побежал и спрятался на ближнем кукурузном поле. Позже, отдышавшись, пробрался обратно к дому. Но, испуганный окриком часового, шарахнулся: в доме отца – русские! Задыхаясь от страха, торопливо шел полями всё дальше и дальше от села, вздрагивая от шороха листьев, всколыхнутых ночным ветерком, от трепета взлетавших ночных птиц, даже от звука собственных шагов. Чудилось: гонятся. Запинался в темноте о комья земли, натыкался на жесткие кукурузные стебли, трава цеплялась за башмаки, казалось: сама земля хватает за ноги. Брел через сырую от росы густую пшеницу. Стебли хлестали по коленам, колосья кололи руки. Наконец, остановился. Впереди черной стеной стоял лес. Куда идти? Ведь если люди узнают, кто он такой, – сразу схватят. Возможно – его уже ищут, идут следом? Боязливо оглянулся. Сзади, там, где оставалось село, чуть видный в густой тьме, желтел тусклой точкой одинокий огонек. Обычно такой огонек радует человека темной ночью. Но Марчела Петреску этот свет пугал. Уж лучше бы в Мэркулешти все спали! А что если там, где горит этот огонь, ждут, когда вернутся посланные поймать его? А те уже напали на его след… Испуганно оглянулся ещё раз, шагнул к черному лесу и в нерешительности остановился. И свет и тьма одинаково страшили его, как страшны были ему в этот час и люди и безлюдье.