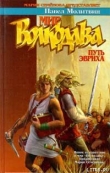Текст книги "Здравствуй, товарищ!"
Автор книги: Юрий Стрехнин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Коммерсант опрокидывал в рот стаканчик, облизывая толстые красные губы, и снова тянулся за бутылкой. Стефан пил, степенно чокаясь. Отказываться от угощения было неудобно. Но в душе щемило. Ведь перед этим старичок крестьянин, ехавший с ним в одном вагоне, сказал:
– Дали тебе медяк на тряпочке, а здоровье забрали…
На другой же день после возвращения домой Стефан стал искать какого-нибудь посильного заработка: сидеть на шее у отца не хотелось, помочь ему в хозяйстве он мало чем мое – одной рукой не наработаешь…
Управляющий имением господина Александреску встретил Стефана ласково: солдат, живым вернувшийся из-под Одессы, да ещё с немецким отличием, – диковина. Но ни в сторожа, ни в пастухи он увечного не взял.
Стефану посоветовали поехать в город, попытаться устроиться там швейцаром или посыльным. Медаль могла бы помочь ему в этом. Но он, как и многие в селе, боялся города. И без него безработных калек там хватает. Была и ещё одна причина, которая не позволяла ему уйти из Маркулешти: давно уже его сердце крепко держала в своих руках Флорика – дочь соседа.
Стефан полюбил её ещё до войны, крепким, здоровым и веселым парнем, когда ему было всего девятнадцать и он не хуже других мог отплясывать на деревенских вечеринках под звуки бубна и скрипки. Не было для Стефана девушки краше Флорики не то что в Мэркулешти, а и во всей округе. Да и Флорика улыбалась ему ласково. Прошло совсем немного времени, и они уже решили, что к осени, когда будут убраны кукуруза и виноград, оба попросят у родителей благословения. Но осенью Стефана неожиданно взяли в солдаты: объявили какой-то внеочередной набор. Флорика дала клятву ждать, пока он отслужит свой срок – два года. Не успел Стефан прослужить и несколько месяцев, как началась война с русскими, его полк сразу же отправили на фронт…
Ещё в лазарете он старался свыкнуться с мыслью, что теперь нечего и думать о счастье с Флорикой. Не отдадут её за калеку.
Радостным было, несмотря ни на что, их первое после долгой разлуки свидание. Флорика и слушать не хотела о том, что они не смогут быть вместе. Она уверяла, что уговорит отца дать согласие на свадьбу. Вот только где они будут жить? Она знает – отец ни за что не согласится отпустить её в такой бедный дом, как дом Сырбу: хозяйство отца Флорики не такое уж богатое, но и не такое скудное, как у Сырбу. Может быть, отец согласится принять в дом Стефана?
«Нет! – возразил Стефан Флорике. – В хозяйстве твоего отца руки нужны. А у меня – только одна рука…»
Горькой была их следующая встреча: Флорика сказала, что отец и слышать ничего не хочет о Стефане…
Набравшись мужества, Стефан сказал себе: вместе им все равно не быть. Надо оторвать Флорику от сердца. Но не так-то легко это сделать…
* * *
Послышались шаги, Стефан обернулся: к огню вразвалочку подходил русский сержант Василе.
Федьков вышел взять на повозке махорки, чтобы одарить ею хозяев. Когда увидал Стефана, понуро сидящего у огня, подумал: не обиделся ли на него этот парень? Но какие теперь могут быть между ними обиды?
– Ну, Степа, чего пригорюнился? – весело спросил Федьков, присаживаясь на обрубок бревна рядом.
Стефан чуть улыбнулся и прошептал что-то.
– Не понимаешь, значит? Эх, беда, в языке-то вашем я темноват… Да и ты – у нас побывал, а говорить и мало-мальски не намастачился.
– Русски – мало говорить, – проронил Стефан и снова замолк.
Молчал и Федьков, глядя, как снуют по сухим сучьям язычки огня и тяжело булькает в котле.
Багровые блики пламени плясали на их лицах.
Желая завязать разговор, Федьков спросил:
– Какого года ты?
Не поняв вопроса, Стефан только виновато улыбнулся в ответ.
– Сколько лет тебе, говорю? – переспросил Федьков. – Доуызэчь ши трей[19]19
Двадцать три (рум.)
[Закрыть]! – ткнул он себя пальцем в грудь, припомнив румынский счет, которому успел немного научиться.
– Доуызэчь ши трей! – обрадованно проговорил Стефан, показывая на себя.
– Ровесники, значит? В один год призывались, в один год подрались…
– Доуызэчь ши трей… – повторил Стефан, и голос его дрогнул. Он показал на свою больную руку: – Плохо. Инвалид.
– Вот чудак! – изумился Федьков. – Какой ты инвалид? Парень молодой, не пропадешь!.. – И вдруг осекся: кому здесь нужен однорукий?
До этой минуты Федьков, проезжая по Румынии, видел только внешние приметы здешнего житья: вывески частных лавочек и мастерских, лакейскую угодливость перед более сильными. Но только сейчас он своими глазами увидел, как может этот, никогда не изведанный им строй жизни обесплодить душу человека неверием в себя, в будущее.
– Да, житуха… – Он вытащил из кармана кисет, протянул Стефану. Тот несмело сунул руку в кисет.
– Бери, бери больше!
– Мульцумеск, спасибо, товарищ!
Оба завернули по цигарке.
Сделав несколько затяжек, Федьков спросил:
– На фронт больше не хочешь?
– Ну[20]20
Нет (рум.)
[Закрыть]! – решительно ответил Стефан. – Я плутар. Плугар на плугар – ну разбой.
– То-то. Понял, выходит?
Стефан оживился, стал объяснять: ещё раньше понял, когда разговаривал с пленным партизаном.
– Ты что, против партизан воевал? Каратель? – Федьков сурово сдвинул брови.
– Ну, ну, – горячо заговорил Стефан. – Ромын на партизан – ну. Немьц на ромын – «пфуй»! Немьц на партизан!
– Не посылал вас, говоришь, немец на партизан? Не надеялся? Ну, что ж, – Федьков всё ещё недоверчиво поглядывал на Стефана. – Коли не врешь, значит, правда…
Всё-таки трудно было Федькову свыкнуться, что сидит он мирно рядом с одним из тех, с кем недавно бился насмерть. И в сердце точил червячок: «А ведь вот с такими, могло быть, и Клавдия… за барахло какое-нибудь… А может, и не по своей воле…»
– Ты в Одессе-то бывал? – спросил он Стефана.
– Одесса? Ну – ла лазарет, ла каса.
– В госпиталь да домой? Так… А я вот, – показал Федьков на себя, – в госпиталь да на фронт,
– Фронт – плохо.
– Плохо не плохо, а воевать приходится…
Стефан помолчал, напряженно выискивая в памяти запомнившиеся ему за время войны русские слова, и, показывая на свою больную руку, с грустной улыбкой проговорил:
– Работа – плохо, жить – плохо…
– Чего уж так – совсем плохо-то?
Из разговоров за столом с хозяевами Федьков знал уже кое-что о Стефане, знал и о Флорике – о ней ещё до прихода Стефана упомянул Матей.
Федькову было жалко этого парня и казалось странным: да как же он всю свою любовь поломал только из-за того, что рука ранена?
Хотелось чем-нибудь утешить. Но чем?
Неслышно подошла Дидина, сняла с таганка котел со сварившейся мамалыгой, от которой шел вкусный парок. Понесла мамалыгу в хату и позвала Стефана ужинать. Но тот словно не слышал её и остался у потухающего огонька. Под таганком вяло шевелилось немощное пламя: догорала последняя головешка. Алые угольки, покрываясь сероватым налетом пепла, гасли один за другим, и на лицо Стефана, молча смотревшего на умирающий огонь, всё плотнее ложились тени.
Повеяло холодком надвинувшейся ночи. Федьков зябко повел плечами и повернулся к Стефану: не пора ли затоптать чуть живой огонек под таганком и идти в хату? Но Стефан сидел задумавшись, и Федьков не стал тревожить его.
* * *
Расстелив на столе широкое узорчатое полотенце, Дидина потчевала Гурьева горячей мамалыгой. Теперь она уже не боялась русских.
Ещё весной, когда в Румынию вступили советские войска, по Мэркулешти поползли тревожные слухи. Говорили, что в Советской Армии только командиры – русские, а солдаты – все какие-то монголы, страшные, заросшие черными волосами, питающиеся сырым мясом, злые и жестокие, не понимающие человеческой речи. Говорили, что русские с румынами поступают так же, как поступали немцы с русскими: всю молодежь из деревень отправляют на работы в сибирские леса и шахты, а остальных жителей нумеруют и отбирают всё имущество; будет запрещено продавать свое добро, устраивать свадьбы и даже ходить из одной деревни в другую. Словом, говорили о таких страхах, от которых не у одной старой Дидины замирало сердце.
Хотя Дидина теперь уже и не страшилась пришельцев, но попрежнему нелегко было у неё на душе: где-то в России, может быть, руками вот этих людей, сидящих сейчас за её столом, убит её Сабин, а ещё раньше – искалечен Стефан. Конечно, каждый военный выполняет то, что ему прикажут. Матей рассказывал, что во время забастовки в Плоешти солдаты стреляли в своих. А ведь русские стреляли в тех, кто врагом пришел на их землю. Вот этот офицер и солдаты, гости их дома, стреляли в её сыновей, а её сыновья стреляли в них… И зачем господь допускает такое? Дидина считала, что война – от зависти человеческой. Ей было непонятно: один сосед злобствует на другого – не позволяют же им убивать друг друга. А почему нет управы на тех, кто затевает войну? Неужели бог бессилен предотвратить это? «Прости, господи!» – в испуге бормотала она, уличая себя в том, что усомнилась во всемогуществе божьем…
Илие, чувствовавший себя теперь в обществе русских совсем непринужденно, при помощи Матея допытывался у Гурьева: как живут крестьяне в Советском Союзе и как теперь должна пойти жизнь в Мэркулешти?
Отвечая на расспросы, Гурьев, к своему собственному удивлению, вдохновенно говорил о самых обыкновенных вещах, которые раньше для него были настолько обыденными, что никогда и не становились темой для разговора.
Он сейчас был особенно горд всем советским, всем – от большого до мелочей: тем, например, что совсем нет безработных, что всех лечат бесплатно, что можно устроить свадьбу и без приданого, даже тем, что в каждом магазине есть книга жалоб; ведь во всем этом теперь, вдалеке от Родины, на фоне всего увиденного здесь, он особенно ясно, как никогда раньше, осознавал, насколько выше, совершеннее тот строй, вне которого он не мог и мыслить своего существования. Так маленький драгоценный камешек заметнее не в сверкающей россыпи подобных ему камней, а на темном фоне.
Глава четвертая.
Желтая бумажка
– Товарищ старший лейтенант! – обрадованно провозгласил появившийся на пороге Федьков. – Тут ещё есть наши! Вот сосед ихний, Демид, сам видал.
Рядом с Федьковым переминался с ноги на ногу низенький, сухонький человек. Узкие, в обтяжку, холщовые штаны делали его ещё более тощим. В руке его была зажата соломенная шляпа, давно уже отслужившая свой срок: поля её едва держались, а тульи почти не существовало.
Федьков объяснил: Демид только что проходил по площади и видел, как во двор кооперативной лавки заехали на повозке русские военные.
– Вот, возможно, и попутчики… – Гурьев поднялся из-за стола: – Надо пойти, договориться.
– Я с вами! – поспешно заявил Федьков. Любил он узнавать, разведывать, знакомиться с людьми. Но Гурьев решил, что лучше взять степенного Опанасенко, а не ветрогона Федькова, и сказал ему:
– Нет, побудь здесь, за лошадьми посмотри.
– Слушаюсь… – без обычной живости ответил Федьков.
Демид довел двоих русских до кооператива и, отосланный офицером, ушел обратно.
Дверь лавки, выходившая на улицу, была закрыта, окна наглухо заложены ставнями.
Ладонью Гурьев нажал на калитку. Она оказалась запертой. Постучал.
Калитка чуть приоткрылась. Выглянул солдат в новенькой, топорщившейся пилотке:
– Вам кого?
– Самого старшего.
– Сейчас доложу. – Солдат плотно закрыл калитку. «Дисциплинка! – подумал Гурьев. – Строгий, видать, командир у него».
Ждать пришлось недолго. Вскоре солдат распахнул калитку и пригласил:
– Войдите.
Во дворе стояла запряженная парой лошадей повозка. Разнузданные кони с хрустом ели овес, насыпанный прямо на землю, на что рачительный Опанасенко сразу же обратил внимание. «Погодувать как следует не могут!»
Солдат показал на раскрытую дверь дома:
– Майор – там.
– Побудьте здесь, Опанасенко! – распорядился Гурьев.
Опанасенко, сняв карабин с плеча, прислонился к ограде неподалеку от входа в дом. Хотел поговорить с солдатом, встретившим их, расспросить, кто эти проезжающие, но солдат куда-то скрылся.
Майор встретил Гурьева на пороге – пожилой, с дряблыми, чуть обвисшими щеками и тонкими, плотно сжатыми губами. Он пристально, с какой-то, как показалось Гурьеву, недоброй строгостью, посмотрел на него и произнес, по-особенному четко выговаривая слова:
– Кто такой?
Гурьев отрекомендовался. Спросил: не по одному ли пути ехать им к фронту?
– Вы меня извините, старший лейтенант, – не отвечая на вопрос, проговорил майор. – Но, как говорится, бдительность выше всего… У вас есть удостоверение личности?
– Конечно, – Гурьев вынул из нагрудного кармана удостоверение, показал его майору и в свою очередь попросил того предъявить своё: таков был общепринятый среди фронтовиков порядок взаимной проверки, когда встречались незнакомые.
Свое удостоверение майор предъявил охотно, сказав при этом:
– Правильно действуете… – И усмехнулся: – А то, может, я фриц переодетый? – И пригласил, сразу переходя на «ты»:
– Заходи, старшой, потолкуем.
В большой комнате на длинном столе, заставленном тарелками и мисками с едой, стояла толстобокая керосиновая лампа, ярко освещавшая всё вокруг. Непонятно, почему в комнате всё находилось в беспорядке: ящики комода были выдвинуты, всюду валялись какие-то бумажки, белье, видимо, выброшенное из комода; пестрый диванчик, отодвинутый от стены, стоял накось, на нём боком лежал пустой, с откинутой крышкой, железный сундучок. Нетронутыми в комнате остались только двенадцать гипсовых мадонн, одна другой меньше, по ранжиру выстроенных на комоде.
– Садись, старшой, выпьем ради встречи! – пригласил майор и сам сел к столу.
– Так, говоришь, из госпиталя, своих догоняешь? – расспрашивал он, наливая в стаканы темное, густое вино из оплетенного соломой пузатого кувшина. – Так, так. Ну, и мы то же самое. Говоришь – хочешь вместе ехать? Ладно. Вместе – веселее. Да и поспокойнее. Ты всем этим руманешти не верь, старшой. На вид они приветливые, а того и гляди…

«Ну, это уж ты, товарищ майор, загибаешь – насчет румын-то», – хотел возразить Гурьев, но сдержал себя: может быть, майор – из тех ожесточенных войной или попросту личным горем людей, которые до сих пор видят во всех румынах только недавних врагов. Пройдет это…
Желая перевести разговор на другое, спросил:
– Нас, вероятно, почти в одно время ранило? Меня – весной, как на границу вышли. А вас?
– Раньше, старшой, раньше! – небрежно бросил майор.
– Когда же?
– Зимой. Да что там вспоминать! Пей, старшой, во славу русского оружия!
– А в каких местах вас?
– В каких, в каких… – с шутливой ворчливостью проговорил майор, подвигая Гурьеву стакан с вином. – В районе Корсунь-Шевченковского.
– Да неужели? – Гурьев обрадовался. – Ведь и мы там воевали. Вы в Первый Украинский или во Второй входили?
– В первый.
– Наш! А какая армия?
Майор назвал свою армию и спросил, не в её ли составе был полк Гурьева.
– Соседи, значит… – улыбнулся майор, услышав ответ. – Да ты пей, пей, старшой. Вина хватает. Дуй до дна!
Вслед за майором Гурьев опорожнил свой стакан. Вино было замечательное, выдержанное, огонек так и пошел по всем жилам.
– Славная была баталия…
Гурьев был рад, что встретился с человеком, который тоже принимал участие в знаменитом сражении. Захотелось вместе вспомнить пережитое в те дни, знакомые дороги, села, бои. Но майор почему-то не был расположен к воспоминаниям. Он только подливал вина да приговаривал:
– Дуй, старшой!
На расспросы Гурьева – где тогда, под Корсунем, он воевал и как его ранило, майор отвечал односложно, названий деревень не мог припомнить, задал Гурьеву пару вопросов невпопад и в конце концов раздраженно сказал:
– Меня и ранило и контузило тогда – всю память из головы вышибло…
Чувствовалось, что майору просто не хочется говорить о том, о чем, наоборот, очень хотелось сейчас потолковать Гурьеву, как всякому фронтовику, встретившему фронтовика.
«Почему так? – удивлялся Гурьев, – Может быть, есть у него какая-то своя, личная причина, чтобы отмалчиваться? Не хочет – не надо». И Гурьев заговорил о другом.
Майор старался поосновательнее угостить своего гостя. Но Гурьев больше пить не стал. Несмотря на увещевания гостеприимного хозяина, поднялся, поблагодарил за угощение и, сказав, что утром, как они договорились, заедет, чтобы дальше держать путь вместе, не без поспешности ушел.
* * *
Федьков рылся на ощупь в повозке: все искал и не мог найти две пачки махорки, припрятанные на всякий случай. Хотел угостить Стефана, его отца и брата: бедствуют здешние без табака.
Огонек под таганком совсем уже затух. Стефан поднялся и побрел к калитке. Молча остановился там, глядя на темную улицу. Как всегда – ни огонька, ни звука… Но вот его внимание привлек приглушенный разговор возле соседней хаты. Он узнал голос соседа. Окликнул:
– Диомид!
Сосед отозвался. Стефан пошел на голос. Диомид стоял за плетнем в своем дворе – Диомид был мал ростом, только голова над плетнем торчала, – и разговаривал с двумя другими соседями, стоявшими по эту сторону плетня, на улице.
– Что у вас делают русские? – настороженно спросил Стефана Диомид.
– Да вот только что поужинали.
– Ну, и каковы они?
– Как будто – хорошие люди…
– Хорошие? Я тоже так думал. Но эти хорошие всё отберут!
– Кто тебе сказал?
– Они сами!
Диомид вытащил из шапки аккуратно сложенный листок:
– Вот приказ советского коменданта.
– Где ты его взял?
– Сейчас я провожал русского офицера к другим русским, тем, что у приказчика остановились. Шел обратно мимо примарии – увидал меня сторож, Памфил. Дал мне эту бумажку: прилепи, говорит, где-нибудь на видном месте, а то мне идти на ваш край далеко.
– А что в этом приказе?
– Всё забрать у нас! Такого и при немцах не было!
– Святой Вонифатий, спаси и помилуй, загонят всех в колхоз! – заохал сосед, стоявший возле Диомида.
– Прятать, прятать нужно всё! – вторил другой.
Соседи заговорили наперебой:
– Что делать, что делать? Господи, помилуй…
– А ведь ходил слух, что они нам боярскую землю отдадут, как в России.
– Жди, как же! Ещё и нашу заберут в колхоз!
– А что такое – колхоз?
– Ой, увидим, увидим, не возрадуемся…
– Обождите, – вмешался, наконец, Стефан. – Я спрошу…
Федьков всё ещё рылся в повозке.
– Эрдже! Василе! – несмело окликнул его Стефан.
– Чего, Степа?
Кое-как Стефан объяснил, в чем дело.
– Ерунда! – без размышлений решил Федьков. – Не может быть такого приказа. Напутали вы чего-то. Так и скажи своим соседям. Понял?
– Ынцелес, ынцелес[21]21
Понял, понял! (рум.)
[Закрыть]! – обрадовался Стефан и поспешил к калитке, но на полпути вернулся и позвал Федькова за собой. Он хотел, чтобы русский объяснил сам.
У соседнего дома людей было уже больше, чем несколько минут назад. Слышался тревожный, но приглушенный говор. Когда подошли Федьков и Стефан, голоса разом смолкли.
Взяв из рук Диомида бумажку, Стефан протянул её Федькову. Тот отмахнулся от неё, положил руку Стефану на плечо:
– Растолкуй. Пусть не паникуют.
Стефан, как смог, перевел односельчанам его слова. Крестьяне выслушали, но не расходились, словно ждали ещё чего-то.
– Вот темнота! – рассмеялся Федьков. – Брехне какой-то поверили!.. Да что это за бумажка? Дай-ка погляжу! – Он взял у Стефана желтый листок.
У калитки им встретились Гурьев и Опанасенко, только что вернувшиеся из кооператива.
– Товарищ старший лейтенант! – доложил Федьков, когда они втроем вошли в хату. – Там! местный народ растревожился, отберут, мол, у них всё. Я с ними провел работку, что брех это. Какая-то бумажка их попутала. Вот. – Он протянул желтый листок. Гурьев внимательно рассмотрел его. Странно: на листке – только румынский текст. А подобные приказы имеют обыкновенно и русский.
– Ну и как, Федьков, поняли тебя местные?
– А как же? – голос Федькова звучал уверенно. – Меня вся заграница понимает.
Гурьев положил листок на стол, спросил у Илие:
– Что здесь написано?
Старик нагнулся к светильнику и стал, медленно шевеля губами, читать про себя. Лицо его мрачнело. Дочитав листок до конца, он, ни слова не сказав, передал его Матею.
– Да о чем же там? – снова спросил Гурьев. Илие словно не слышал.
Гурьев с нетерпением повторил вопрос.
– Момент, пожалуйста…
Не веря своим глазам, Матей читал:
– «Запрещается: продажа и передача другим лицам разного рода скота, сельскохозяйственного инвентаря, а также различного рода сельскохозяйственных продуктов, а также запрещается убой скота и птицы – впредь до определения имущества, подлежащего передаче в общественную собственность.
Учет имущества, подлежащего передаче в общественную собственность, производится особым распоряжением. Лица, укрывающие вышеуказанное имущество от учета, а также уклоняющиеся от передачи его в общественную собственность, подвергаются строгому наказанию вплоть до долгосрочных принудительных работ и конфискации всего имущества».
Внизу стояла подпись: «Советский военный комендант».
Растерянно посматривая то на бумагу, то на Гурьева, Матей пересказал ему содержание прочитанного.
«Неужели и Матей и Илие поняли неправильно? Нет. Не может быть. Оба грамотные… Жаль, не могу прочесть сам… Может быть, там что-нибудь другое? Но что бы там ни было – наши такого приказа дать не могут. Никак не могут».
Решительным жестом положив ладонь на желтую бумажку, Гурьев твердо сказал:
– Фальшь!
Лицо Илие посветлело. Тыча пальцем в странный приказ, он стал что-то оживленно толковать Матею.
– Откуда взялась эта бумажка? – спросил Гурьев Федькова. Тот объяснил.
«Как быть? – Гурьев почувствовал себя в затруднении. Они не обязаны ввязываться в эти дела. – Но разве можно не вмешаться? Ведь на всю нашу армию тень от этой бумажки падает. Докладывать о происшествии здесь некому, надо решать самому… Но что делать? Как?» И Гурьев после недолгого раздумья сказал:
– Идем в примарию. Надо до конца разобраться.
– Выходит, мы вроде комендатуры? – Федьков оправил гимнастерку.
– Приходится, раз в такие места заехали.
Гурьев пригласил Матея сопровождать их.
– Толмач? – догадался тот. – Бун, бун!
Видя, что старик собирается тоже идти, Дидина подбежала к нему и что-то торопливо, умоляюще зашептала, подергивая его за рукав. Но Илие сердито отмахнулся.
* * *
По безлюдной улице, потонувшей в синеве позднего августовского вечера, вспугивая рано улегшуюся деревенскую тишину, двигалась целая процессия. Впереди почти бегом поспешал Диомид. За ним шли Матей, Гурьев, Федьков, снова завладевший карабином, и Опанасенко. Степенно ступал молчаливый Илие, а следом тянулись, не решаясь идти рядом с русскими, несколько селян – соседей Сырбу, желавших лично убедиться, что офицер прикажет примарю считать страшный приказ недействительным!
То и дело оборачиваясь к Матею, слегка подпрыгивая на ходу, Диомид о чём-то с горячностью толковал, часто повторяя: «дракул», «примария». Этот маленький взбудораженный человек, вероятно, ругал тех, кто привез в примарию переполошившую всех бумагу.
В примарии не было видно ни огонька. Илие поднялся на крыльцо, неторопливо, но сильно постучал в запертые двери, крикнул:
– Памфил! Дескиде[22]22
Открой (рум.)
[Закрыть]!
За дверью послышались шаркающие шаги, брякнул засов. На пороге показался сгорбленный, босой, с всклокоченными волосами старик в длинной посконной рубахе. Он испуганно посмотрел на офицера и с поспешностью низко поклонился ему. Гурьев спросил:
– Где примарь?
– Ундэ есте примар? – повторил вопрос Матей.
– Ла каса, ла каса! – засуетился Памфил.
– Дома? Позвать его сюда! – распорядился Гурьев.
– Момент, момент! – Памфил скрылся в сенях и тотчас же вернулся с зажженной лампой в руке.
Вслед за Памфилом все, стоявшие на крыльце, кроме Диомида, который, как только приблизились к примарии, вдруг потерял всю свою бойкость, вошли в большую комнату, перегороженную барьером!. За барьером стояло два стола: один под клеенкой, закапанной чернилами, видимо, стол писаря, и другой – покрытый зеленым сукном, наверное – стол самого примаря. Над этим столом висел портрет короля. Висел он несимметрично, в сторонке, и рядом виднелось светлое прямоугольное пятно. Наблюдательный Федьков обратил внимание на это, толкнул Опанасенко в бок:
– Антонеску сбросили, а Михай ещё болтается!
Поставив лампу на барьер, Памфил торопливо вышел.
Вскоре он вернулся: примаря дома нет, и где он – неизвестно.
«Прячется!» – догадался Гурьев и попросил Матея: пусть Памфил подробно расскажет, кто и когда привез фальшивый приказ.
Оказалось, что несколько желтых бумажек передал примарю русский офицер. «Может быть, тот майор, у которого я только что угощался?» – предположил Гурьев.
Памфил подтвердил: да, передал именно тот офицер, который остановился в кооперативе.
«Что делать?» – Гурьев в напряжении стиснул губы. Конечно, можно и ничего не делать – переночевать и утром ехать дальше. Никто не обязывает разбираться… Но как эти липовые приказы к майору попали? Случайно? А если нет? Может быть, и майор – не майор?.. Документы у него в полном порядке… Почему он заминал разговор о прошлых боях? И участвовал ли он в них? Темноватый человек. Задержать его? Так просто он не дастся. С ним – два автоматчика… Да и вдруг – свой?
Гурьев в боевой обстановке обычно своевременно умел находить ту грань, где кончались необходимые выдержка, осторожность и могли начаться пагубные медлительность, нерешительность, и никогда не переступал этой грани. Но то было в бою. А сейчас нащупать такую грань – куда труднее…
* * *
В тот самый час, когда три однополчанина сели с хозяевами за стол в хате Сырбу, Петреску, приказчик сельского кооператива, закрыв лавку и забрав из кассы дневную выручку, вернулся домой. Он жил там же, где и торговал: из лавки в квартиру вел прямой ход. Петреску давно овдовел. Сейчас в доме, кроме него, никого не было; старуха соседка, ведущая его хозяйство, ушла, приготовив ужин и подав его на стол.
Уже совсем стемнело. Нашарив на комоде спички, Петреску зажег стоявшую на столе лампу. С трудом нагнув свое тучное тело, вытащил из потайного места в диванчике небольшую железную шкатулку, поставил её на стол. Вынул из кармана выручку – аккуратно сложенные мятые бумажки и горсть мелочи, – положил её рядом со шкатулкой. Опустился на стул, жалобно заскрипевший под его тяжестью.
Начал подсчитывать выручку. И вдруг вздрогнул, накрыл деньги ладонью: в окно чуть слышно, как-то боязливо постучали.
– Кто там!? – Петреску спрятал деньги в шкатулку и быстро сунул её обратно в диванчик.
– Это я, отец, – послышался из-за окна робкий голос.
Петреску побледнел: «Неужели?» С несвойственной ему резвостью выбежал из комнаты.
Через минуту вернулся. За ним скользнул в дверь худощавый брюнет в помятом, затрепанном, но модном костюме, в добела запыленных ботинках. В руках он держал палку с массивным серебряным набалдашником и потертый чемоданчик. Его глаза, глубоко спрятанные под густыми черными бровями, беспокойно помаргивали. Это был сын Петреску, Марчел, живший в Бухаресте. Отец ив видал его уже несколько лет.
– Молю тебя, отец, – покосился Марчел на окно, – никто не должен знать, что я здесь!
– Хорошо, – хмуро произнес Петреску.
Никак не ожидал он, что сын появится именно сейчас. Уж не от полиции ли спасается? Ох, видно, не довели Марчела до добра его темные дела, о которых уже давно догадывался отец.
Тяжело поворачивая толстую шею, Петреску посмотрел, плотно ли задернуты занавески на окнах. Раздраженно спросил:
– Что натворил? Говори!..
* * *
Как знал Петреску, его сын давно занимался мелкой спекуляцией и мечтал выйти в «большие» люди. Перед войной отцу стало известно: Марчел вступил в «железную гвардию». Петреску-старший был не против, что его сын «пошел в политику». Её, считал он, должны творить деловые люди. А из Марчела мог выйти ловкий делец. Вместе с такими же, как он, молодчиками, Марчел участвовал в налетах на собрания и митинги противников его партии. Во время войны он поступил на тайную службу в сигуранцу[23]23
Охранка (рум.)
[Закрыть]. Его определили подсобным рабочим в цех патронного завода и поручили проследить, кто разбрасывает коммунистические листовки и организует саботаж.
Однажды в своем шкафчике с одеждой Марчел нашел записку, приколотую к рукаву пальто: «Убирайся вон, полицейская собака, пока жив!» Пришлось исчезнуть с завода. Но Марчел не остался без дела. За исполнительность его неплохо вознаграждали. Даже обещали хорошее назначение в Транснистрию, но ход войны помешал получить его.
Незадолго до вступления советских войск в Бухарест он перестал выходить из дома. И не только потому, что на улицах то и дело рвались снаряды: обозленные выходом Румынии из войны, немцы обстреливали Бухарест из зениток, ещё недавно охранявших город. Марчел боялся, что его схватят: в городе вспыхнули бои между рабочими отрядами и полицией. Кое-где на домах уже виднелись красные флаги. Марчел ужасался: «Неужели станет, как в России?»
Не выдержав, в страхе прибежал к своему «шефу»: как спастись? Шеф приказал немедленно явиться на пункт сбора «волонтеров».
Но под пули Марчел лезть не собирался и поэтому предпочел в «волонтеры» не вступать.
Стал прятаться и от своих и от «красных». Наконец, в городе утихла стрельба. Марчел осмелился выглянуть из дома. Совершенно неожиданно его на людной улице узнал один из тех, кого он в свое время помог запрятать в тюрьму. За Марчелом погнались. Но потом в переулке то, что было в его трости, помогло ему отделаться от самого настойчивого из преследователей.
После этого он уже не решался возвращаться домой. Скрывался, где мог. Но самое страшное для него началось в тот момент, когда он увидел первый советский танк. Белый от пыли, тот остановился на углу площади, и сразу же вокруг собралась толпа. Никто на площади, кроме Марчела, не боялся русских. И они, было видно, чувствовали себя не как в только что взятом вражеском городе, а словно в гостях у соседей: спокойно слезли на землю, закурили и стали о чем-то толковать с обступившими их людьми. А какая-то женщина, протиснувшись с букетом сквозь толпу, протянула цветы улыбающемуся танкисту в синем комбинезоне. Отдала букет и вдруг порывисто обняла танкиста. Все захлопали в ладоши. Женщины, что-то весело крича высокими голосами, наперебой стали проталкиваться к танку… «Поди, те самые, которые перед королевским дворцом орали, хлеба и мира требовали, – со злостью подумал Марчел, наблюдавший за толпой вокруг танка из-под арки ближних ворот. – Дали вам тогда жару и мы, и полиция…»
Но теперь полиции словно не существовало. Полицейский, внешне ничем не изменившийся – тот же коричневый мундир, медная бляха с буквой «П», огромная клеенчатая коричневая фуражка, – стоял и спокойно посматривал, словно для него уже было привычно, что во вверенном ему участке женщины целуют советских солдат. Теперь полицейский не зашита Марчелу, а, пожалуй, даже и забрать его сможет, если Марчела кто-нибудь опознает…
К вечеру того же дня Марчел был уже далеко от Бухареста. Кое-как добрался до Мэркулешти.
И вот теперь рассказывает отцу о своих злоключениях.