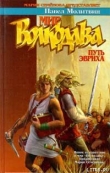Текст книги "Здравствуй, товарищ!"
Автор книги: Юрий Стрехнин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
– Напувать будем. – Опанасенко стал разнуздывать лошадей. Гурьев присел на край колоды, вытащил карту, прикинул:
– До Мэркулешти – села, через которое нам ехать, если напрямик, – километров восемь. А по любой из двух дорог – дальше…
От колодца расходились два проселка. По следам можно было определить, что только изредка здесь проезжают крестьянские повозки да пастухи прогоняют отары овец.
Шумно дыша, раздувая ноздри, кони совали морды в сухую колоду.
– Зараз, зараз! Прохолоньте трохи! – говорил своим любимцам Трофим Сидорович, помогая Федькову тащить наверх тяжелую деревянную бадью.
Гурьеву захотелось пить. Полная воды бадья, чуть тронутая прозеленью от постоянной влажности, уже стояла на краю колодца. Вода ещё колыхалась в ней, переплескивая через край, и было слышно, как внизу, в темной прохладной глубине, звучно ударяются капли.
С наслаждением Гурьев припал губами к краю бадьи. После него к бадье приложился Опанасенко.
– Эх, добра водичка, аж зубы ломит, – крякнул он оторвавшись. Наклонил бадью. Кони жадно прильнули к воде, с шумом разлившейся по колоде. Ласково похлопывая их по шеям, Опанасенко приговаривал:
– Напувайтесь, напувайтесь, мои гарны, ще не близко…
Пока лошади пили, все трое закурили, присев рядышком на край колоды.
Солнце пекло уже не так яростно, как в полдень. Необычайная, непривычная для солдатского уха тишина властвовала окрест. Где-то в траве лениво позванивали кузнечики. На чистом небе виднелось неподвижное одинокое круглое облачко, похожее на белого барашка, лежащего на голубом лугу. Вблизи колодца, с обеих сторон дороги, стеной стояла высокая, густая, давно созревшая пшеница.
Всё кругом дышало мирным покоем. Но сердце Гурьева пощипывала тревога.
Доехать бы поскорее до Мэркулешти, а там через горы на шоссе выбираться. Не хочется в селе на ночевку задерживаться…
– Товарищ старший лейтенант, идет какой-то!
Придерживая одной рукой карабин, Федьков привстал, вытягивая шею и всматриваясь в гущу хлебов.
– Эй, домнуле! – призывно махнул он рукой. Меж колосьями мелькнуло испуганное лицо.
Показался бледный небритый человек лет тридцати, тощий, в измятой шляпе, в потертом и запыленном, но когда-то щегольском костюме, с небольшим чемоданчиком в одной руке и палкой с массивным набалдашником в другой. Всем обличьем своим он напоминал назойливых господ, пристававших к Гурьеву с коммерческими предложениями в городке. Незнакомец, видимо, набравшись смелости, подошел поближе, раскланялся:
– Здравствуй, товарищ! – Тыча себя пальцем в грудь, он стал длинно и обстоятельно что-то объяснять, но Гурьев сумел уловить только то, что этот человек из Бухареста, студент богословского факультета, болен, идет в родное село.
«Не знает ли он кратчайшей дороги на Мэркулешти?» – подумал Гурьев и спросил:
– По-русски понимаете?
– Нуштиу русешти[4]4
Не понимаю по-русски (рум.)
[Закрыть]! – пожал богослов плечами.
– Мэркулешти? – Гурьев показал на дорогу.
– Мэркулешти, Мэркулешти! – подтвердил студент и кое-как пояснил: к селу ближе проехать напрямик, через лесок.
Пригласив студента сесть рядом, Гурьев предложил ему папиросу. Тот взял. Пальцы его заметно дрожали. «Вот даже палку между колен стиснул, словно опасается, что отберем!». Испитое, не по летам старообразное лицо, тревожно помаргивающие глаза… Гурьеву стало жаль этого перепуганного и, видимо, не очень удачливого в жизни человека: «Лысеть уже начал, а ученье ещё не окончил… Подвезем-ка его». – Словами и знаками он пригласил студента ехать вместе. Но тот, почему-то опасливо поглядывая на Федькова с карабином, поспешно отказался: не по пути.
Вдруг Федьков, с присущей ему бесцеремонностью, взял из рук студента палку.
– Чудно! – с восхищением разглядывал он набалдашник – блестящую львиную голову. Заметив, как настороженно следит за ним обладатель трости, вернул её хозяину:
– Держи! Не бойся, не отберу. На кой она мне? – и спросил старшего лейтенанта: – На кого же он учится?
– Богослов.
– На попа, значит? Вот чудно! Да ему ж потом переквалификацию проходить придется!
– Кони понапувались, товарищ старший лейтенант, – доложил Опанасенко.
Гурьев поднялся.
Богослов вскочил, подхватил трость и чемоданчик, поклонился и поспешно зашагал к дороге, словно был рад, что его отпустили. Повозка, приминая колесами ломкие сухие стебли, свернула направо и медленно покатилась чуть заметной в траве колеей.
– Поп с тросточкой! – бросил Федьков. – Чего только тут по Европам не увидишь!
– Який он поп? – рассмеялся Опанасенко. – Скорийше на пройду похож, какие здесь в городе шахер-махер делают.
– Все попы – жулики!
– Ну, не все…
– А что? – не унимался Федьков. – Религия – дурман для народа, это, знаешь, кто сказал?
– Конешно, глупости это все – насчет чудотворцев, чертяк и прочего, – согласился Опанасенко. – Я при немцах столько чертяк побачил, что и на том свете не найдешь. А вот насчет попов – это ты зря. Они – разные. У нас на селе – знаешь, який поп? Ему, брат, медаль дали!
– За что?
– Через того попа партизаны связь держали. А как его немць чуть не накрыли – один верующий дидок из раскулаченных выдал, – наш отец Василий в лес подався. С партизанами вернулся потом. Бравый такой! При пистолете, в кожаной тужурке.
– А может, то и не поп?
– Ни. Натуральный.
– Не бывает таких попов!
– Я бачил, а он – не бывает!
Гурьев рассеянно слушал дискуссию о попах: мысли его были заняты другим. Странный этот богослов. А ведь уже, наверное, повидал по дороге русских – чего ему нас бояться?
* * *
Тени на лугу становились всё длиннее и длиннее. Жара спала. Колеса мягко шелестели по колеям, приминая под себя траву, но стебли её вновь подымались, покачиваясь. Какая-то птаха вынеслась из-под самых копыт лошадей, тревожно попискивая. Долго сновала, трепеща крылышками, вокруг едущих и отстала не скоро: видать, неподалеку было гнездо, и она оберегала его.
Дорога причудливо петляла то по ровному полю, то спускаясь в лощинки, то вилась между кустов орешника, то тянулась вдоль меж, заросших бурьяном, иногда она прорезала кукурузное поле, и тогда подолгу не было видно ничего, кроме белесых стеблей с жесткими, чуть позванивающими при малейшем прикосновении, словно жестяными листьями, да светлоголубого, уже потускневшего к концу дня, высокого неба.
«Не запутал ли нас этот студент поповского курса? – всматривался в дорогу Гурьев. – Где же эти Мэркулешти?»
Федьков, обеспокоенный, вероятно, тем же, спросил:
– Куда к ночи доедем?
– Тилько б не до княгини… – усмехнулся в усы Опанасенко.
– А что за княгиня? – спросил Гурьев.
Федьков промолчал, а Опанасенко, не без лукавства взглянув на него, ответил:
– Да гостювали у одной.
– Ого! Вы и с аристократами знакомство имели?
– Да ну, чего там… – недовольно протянул Федьков и с преувеличенным вниманием стал посматривать вокруг. Но Опанасенко, продолжая с хитрецой улыбаться, пояснил:
– Знакомы, а як же.
– Ну и как вас княгиня принимала?
– Як положено и даже бильш того…
Федьков метнул на Опанасенко свирепый взгляд, но тот невозмутимо продолжал:
– Едем от так соби вечером. Я пытаю товарища Хведькова: «Где ночевать будем? Кони пристали». Он отвечае: «Не бачу по пути дома подходящего. Проедем ещё трохи». Потом увидал чуток в сторонци дом. Панский. Каже: «Вертай туда!» Я завернул. Подъезжаем до ворот, бежит навстречу холуй якийсь, кланяется – аж чуть не переломится. Лопочет чого-то – не разберешь. Хведьков ему команду дае: «Витчиняй ворота, примай гостей». А я спрашиваю: «А нема ли у вас овса, чи кукурузы на худой конец?» Он ничего не отвечав, только кланяется и кланяется. Тогда Хведьков сам ворота витчинил: «Въезжай, распрягай коней». Я ему кажу: «Обожди, надо ж с хозяевами знакомство поиметь, добыть корму, ну и прочее». Примотал я коней вожжой до ворот, бо кони уж оголодали, а тут рядом клумба и квитки на ней таки гарны – и розы и ещё чтось-то, а кони до их тянутся, гляди – пожрут те квитки.
А холуй-то всё вокруг нас крутится и объясняв, объясняв и наверх по лестнице показывав. Я его про овес пытаю, а он всё чего-то непонятное толкуе. Хведьков его слушал, слушал и кажет: «Вроде здесь княгиня чи графиня». – «Ну их, кажу, я лучше на возу останусь, – где бы тут коней поставить?» А Хведьков: «Пойдем в дом! Подумаешь, княгиня! Пережиток этого, как его – феодализма!»
Хведьков идет наперёд, я позади. Тильки поднялись на крыльцо – встречав нас княгиня. Важна така! Но обходительна. Хведьков мне: «Трофим Сидорыч, пытай про овес! Ишь, говорит, привыкла, чтобы ей кланялись, пускай сама теперь покланяется, эксплуататорша, черт ей в бок!» Я ему: «Ты поосторожней выражайся!» А он: «А всё равно здесь по-нашему никто не понимает. Ты можешь этому нетрудовому элементу самые последние слова выкладать, а она подумает – комплимент ей преподносишь». А с княгиней рядом дидок, сухонький такой, бритый, пиджак на нем черный, длинный. Приличный такой дидок. Хведьков про него кажет: «Тоже, наверное, буржуй недобитый». А дидок тот выступает вперед, с поклоном, и вдруг выговаривает ну чисто по-нашему… Як это он сказал? – повернулся Опанасенко к Федькову. Тот промолчал.
– Вот: «Рад приветствовать доблестных представителей великой русской армии! – вспомнил Опанасенко. – Княгиня, – и фамилию назвал, – приглашает вас до дому».
Хведьков трохи смутился, что про того дидка сначала не дуже дипломатично сказал, но тот виду не подал. Идем в комнаты – богато живут князья-то! Кругом посуда всякая, ковры – ну, як у санатории. Хведьков усе с форсой так выступав, грудь колесом. Дидок-то, видать, по лычкам его за большое начальство примае. Княгиня с Хведьковым ведет через того дидка обходительный разговор, а на мене всё так косо поглядывает. Чем, думаю, ей не потрафил? Ну и бис с тобой! Пошел во двор, разыскал того холуя, распытал у него, где вода, где овес, где сино, та и стал коней годувать. Вдруг приходит до мене той дидок и кажет: «Пан офицер требует!» Якой такой офицер, думаю? Заправился как следует быть, пошел. А то Хведьков: сидит один в спальне, на шикарной кровати – и спереди и сзади голые ангелятки со стрелами – золотые, або позолоченные – непотребство, но всё же сделано гарно. Сидит, портянку перематывает, заявляет: «Сейчас до княгини вечерять пойдем».
Я кажу: «Ну их, чего нам с панами дружбу заводить, давай от здесь вечерять либо на дворе, на свежем воздухе». А Хведьков возражав: «Неудобно, подумают ещё, что мы робеем. Давай уж не ронять своего авторитета».
Ну ладно, ежели для авторитета… Переобулся Хведьков, проходим в залу до той княгини. На столе и вино и закуска. Я думаю: «Нет, на это дуже налегать нельзя, а то так и коней не доглядишь. Кто его знает, що тут за люди?» Хведькова в бок пхнул – знак даю: не дуже, не дуже.
Федьков снова свирепо взглянул на Опанасенко. А тот невозмутимо продолжал рассказывать:
– А возле того стола сидит сама княгиня, расфуфыренная, а рядом две дочки – ничего себе, гарные дивчины, тильки лядащи. И дидок этот сбоку – для разговору. Посидали мы. Княгиня эта к Хведькову и так и сяк, а на мене – ниякого внимания, только сердито так очами зирк, зирк… Бачу – не ко двору я. Посидел трохи, закусил и говорю Хведькову: «Треба до коней», – та и ушел. А Хведьков остался. Пришел я на двор. Лег на возу пид шинель, карабин на всякий случай пид бок положил та придремал.
За полночь, перед светом уже, чую – Хведьков до мене: «Запрягай, Трохим, тикать будем!»
– Да не говорил я, что тикать! – вставил Федьков. – Зачем врать…
– Ну, тикать – не тикать, а вроде того… Я коней быстро запряг, витчинил ворота, сели та и поихалы.
– А чего ж так спешно? – делая вид, что не понял, спросил Гурьев.
– Надо ж было своих догонять… – торопливо сказал Федьков.
– Только-то? – Гурьев, стараясь скрыть усмешку, посмотрел в лицо Федькову, но тот отвел глаза. А Опанасенко, словно не замечая смущения Федькова, пояснил:
– Его ж та княгиня хотела вроде в приймаках оставить: «Поживите, – кажет, – господин русский офицер, в моем доме. Нам спокойнее будет – и другие военные не заедут!» – Голос Опанасенко звучал убежденно. – Я так розумию, прикидывала она, что если её свои громадяне вытряхать захотят, то при нас вроде не осмелятся. Ну, а товарищ Хведьков, видать, далеко в дипломатию с той княгиней, а бильш всего с дочками её зашел, что пришлось ему серед ночи через ту дипломатию тикать. Мабуть злякался, что засватают, а мабуть що другое…
– Ну, Трофим Сидорыч… – заерзал Федьков.
– А що? Свята правда! – невинным голосом проговорил Опанасенко.
– Интересно, что ж там с тобой, Федьков, приключилось? А? – спросил, посмеиваясь, Гурьев.
– Да ничего особенного… – нехотя выдавил тот.
Не желая смущать Федькова, Гурьев не стал более расспрашивать его.
Дорога привела в небольшой кленовый лесок и в нем потерялась совсем.
– Богослов чертов! – в сердцах выругался Федьков, когда повозка остановилась в высокой траве, в которой уже совсем нельзя было различить колеи. Гурьеву стало досадно: поверил этому облезлому субъекту, который, наверное, и сам толком не знает дороги… Вслед за Федьковым он соскочил наземь и стал ходить меж деревьев, ища потерянную колею. Неподалеку, в чаще, потрескивали ветки: кто-то ходил там, вполголоса напевая неторопливую песенку; слов нельзя было разобрать. Изредка раздавались короткие, отрывистые удары топора по сухому дереву.

Человек в длинной холщовой рубахе с закатанными до локтей рукавами, в заношенной кепке, сдвинутой на затылок, рубил тонкие стволы сухостоя. Это был худощавый, темнолицый мужчина лет тридцати пяти, с густыми, аккуратно подстриженными черными усами. Он неторопливо воткнул топор с длинной прямой рукояткой в срубленное сухое деревцо, лежавшее у его ног, и, неуверенно улыбаясь, не очень-то смело, но все же протянул руку подошедшему Гурьеву:
– Здравствуй, товарищ. Салут армата рошие.
– Здравствуйте! – Гурьев пожал его руку – жесткую, твердую, в старых мозольных буграх.
Немало пришлось Гурьеву на пути повидать приветливых улыбок, пожать протянутых рук, но за любезными улыбками и пылкими рукопожатиями очень часто он угадывал страх или подобострастие, под внешним радушием нередко прощупывалась старательно прикрытая злоба. Встретившийся им сейчас улыбался так искренне… Однако Гурьев, уже привычно, насторожился.
Он спросил, как лучше проехать в Мэркулешти.
К его изумлению, человек ответил русскими словами. Правда, видимо, он знал их мало, беспощадно перевирал, но всё же понять его было можно.
«Русский знает – значит из коммерсантов или из оккупантов, – заключил Гурьев. – Ну, да тут, видно, приятелей не встретишь…»
Новый знакомый сообщил: он, Матей Сырбу, житель Мэркулешти. Ехать туда надо бы от поворота прямо по дороге, а не здесь, лугами, где путь труднее.
Предложил проводить в село. Гурьев согласился. Когда повозка тронулась, спросил: не проезжали ли через Мэркулешти русские? Нет, русских военных Матей Сырбу не видал. Но неподалеку, в горах на хуторе, живет какая-то русская женщина с ребенком. Как попала в эти края – он не знает.
– Может, землячка? – быстро спросил Опанасенко. Его сердце забилось беспокойно: как бы разыскать эту женщину?
Федьков же выслушал это известие внешне равнодушно: искать ему было некого.
Шагом ехали по чуть заметной в траве дорожке, которую показывал Сырбу. Пристально приглядывался Гурьев к нему: на крестьянина не похож, много русских слов знает, не испугался при встрече, как тот богослов. Кто он и откуда здесь? Гурьев стал обстоятельно расспрашивать Матея Сырбу. Тот рассказывал о себе охотно, хотя, судя по напряженному лицу и частым паузам, это давалось ему нелегко: запас русских слов у него был маловат.
* * *
Когда-то давно отец послал Матея, старшего сына, на заработки: подрастало трое сыновей, и Илие Сырбу надеялся на заработанное старшим, если не прикупить, то хотя бы взять в аренду гектар-другой земли.
С неохотой уходил парень из родного дома. На прощанье вышли с отцом на своё поле. Отец взял горсть земли, стиснул, сказал: «Потом нашим и дедов наших она пропитана. Возьми её. Она тебе всегда о доме напоминать будет и обратно тебя позовет».
С горстью родной земли, заботливо завязанной в тряпочку, и отправился Матей в далекий путь.
Много дорог пришлось исколесить ему, много городов повидать. Рубил лес в горах Трансильвании. Грузил пароходы в Констанце. Подносил кирпич на строительстве пышного княжеского дворца в Бухаресте. Гранил камень для шоссейной дороги, ведущей на восток, к русской границе – таких дорог в то время строили много. Гнул спину на боярских полях и в Молдове, и в Добрудже, и в Валахии, а осенью, когда полевые работы кончались и лишних батраков рассчитывали, надо было вновь искать работу. В поисках её пришлось побывать и за границей. Добывал уголь в бельгийских и французских шахтах, строил тоннель в Италии – куда только не заносила Матея судьба, как и многих таких, как он.
Всюду с ним была заветная горстка родной земли. Помнил он наказ отца. И долго жил мечтой: вернуться в деревню, стать самостоятельным хозяином. Он постоянно высылал в Мэркулешти деньги, сколько мог, но отец так и не прикупил земли – едва успевал рассчитаться с долгами.
Однажды, услышав, что в Плоешти немецкая акционерная компания начинает строить нефтеперегонный завод, Матей направился туда. Его приняли чернорабочим. Потом, когда завод был построен, Матею удалось получить место кочегара в котельной. Плата была грошовая, но он первое время считал себя счастливым: каждую субботу получает деньги. Многие односельчане позавидовали бы ему.
Проходили годы. Горсть родной земли, данная отцом, потерялась давно, ещё во время странствий. Мечта о возвращении к земле постепенно потускнела, но и радоваться своему положению Матей перестал. Жить становилось всё труднее и труднее: появилась семья. Чтобы зарабатывать больше, надо было повысить квалификацию, стать, например, машинистом. Но к машине его не подпускали. Лишь через несколько лет стал смазчиком. Немец механик и не подумал бы чему-нибудь учить смазчика-румына, он смотрел на него как на низшее существо, способное только на черную работу. А бросить место и искать другое, лучшее, Матей уже не помышлял: на его руках были жена и маленький сын.
Пришла война. Над Плоешти то и дело появлялись советские самолеты. Механик убегал в бомбоубежище, но Матея оставлял присматривать за машиной. Незадолго до того, как румынское правительство вынуждено было объявить о капитуляции перед Советской Армией, американская авиация совершила большой налет. Заводу, на котором работал Матей, досталось порядком, хотя соседний, компании «Ромыно-Американа», остался целехонек, его не бомбили. После налета Матей не нашел своего домишка: его снесла американская бомба. Никаких следов жены и сына Матей не обнаружил, хотя несколько дней и ночей до изнеможения рылся в развалинах. От горя он чуть не сошел с ума. Американцы налетели ещё раз. Матея придавило обрушившейся стеной машинного отделения. Его откопали и отправили в больницу.
Долгими больничными ночами думал он: одинок. Жены и сына не воскресить. В Плоешти у него никого не осталось. Как построить жизнь? Может быть, к отцу вернуться?
И вот уже второй месяц он живет в Мэркулешти…
Где же всё-таки Матей научился говорить по-русски?
Оживленно жестикулируя – ему всё не хватало слов, – Матей объяснил: после бомбежек на завод пригоняли пленных русских и заставляли вместе с рабочими разбирать завалы. Вот тогда-то, разговаривая с пленными, Матей и научился многим русским словам.
– Бун[5]5
Хороший (рум.)
[Закрыть] Иван, – улыбался он, вспоминая свои разговоры с пленными: – «Романа, романа, дурной голова! Зачем! война! Кондукатора Антонеску вон, реджеле[6]6
Короля (рум.)
[Закрыть] Михая вон, маму[7]7
Королеву (рум.)
[Закрыть] Елену вон – война конец!» О ну, – сокрушенно качнул головой.
– А почему – нет? – испытующе посмотрел Гурьев на Матея.
– Романия – мало. Германа – много; войну – давай, давай! Гитлер дракул[8]8
Черт (рум.)
[Закрыть].
– Ишь, Гитлера ругает, – вставил свое слово Федьков, – все они такие…
– Не встревай! Це дило дипломатично! – подтолкнул его локтем Опанасенко.
Матей вдруг спросил Гурьева:
– Коммунист?
– Да, – ответил тот.
– Романия – есте коммунист! – улыбнулся Матей.
– У вас, в Плоешти?
– Да
– И вы знали их?
– Ну! – Матей предостерегающе поднял палец. – Секрет!.. Коммунист – сигуранца, турма Дофтана, камен могила.
Он рассказал: в тридцать третьем году пришлось ему читать коммунистическую листовку – это было в те дни, когда все Плоешти начинало бастовать.
Видимо взволнованный воспоминаниями, Матей с увлечением рассказывал:
– Потом, другой день, машина – много-много людей: «Давай гудок!» Немец – часы: «Рано, инструкция нет, вон, вон!» Ему – так, – Матей показал, как мастеру-немцу дали по шее. – Немец: «Полиция, полиция!» А мне говорят: «Давай гудок, давай машина – стоп! Бун, товарищи, стачка! Все на двор! Плата мало, работа много. Бастовать!» Огонь слова! Я понял: коммунисты. Плоешти – стачка, Гривица – стачка! Директор, герман-мастер, инженер – на Бухарест! – Лицо Матея светилось восторгом.
– Ну, и что же потом?
– А потом, – сразу погрустнев, сказал Матей, – забастовку подавили, одних загнали в тюрьму, к другим – «применили конституцию». Так в шутку называлось «практическое применение» закона о неприкосновенности личности: жандармы каждого могли затащить в участок и отволтузить палками. К отцу Матея, старому Илие, «конституцию применяли» не раз.
– А к нему-то за что?
Когда возникает спор у селян с боярином из-за покоса или ещё из-за чего, – объяснял Матей, – село всё в кулаке у бояра Александреску, куда ни сунься – везде его земля, его лес, его поля, – так обязательно Илие Сырбу выбирают вести переговоры. Он не отказывается. С господами, с властями говорит смело. Долгую жизнь прожил, а не научился спину гнуть. И случается – не вытерпит, скажет резкое слово – вот и платится своими боками. Но по-прежнему горд и стоит на своем: правды палкой не перешибешь.