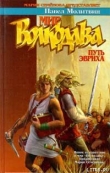Текст книги "Здравствуй, товарищ!"
Автор книги: Юрий Стрехнин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Глава вторая.
На пути к Мэркулешти
Попутными машинами Гурьев к полудню добрался до села, в котором находился штаб армии.
В отделе кадров круглолицый приветливый майор с двумя золотыми нашивками за ранения, взяв документы, посмотрел на него с завистью:
– Ваши-то далеконько ушагали…
Майор без проволочки оформил предписание. Гурьев спросил, по какой дороге можно скорее всего догнать полк. Майор провел его в соседнюю комнату, где ещё один майор – сухощавый, с висками, чуть тронутыми сединой, – что-то быстро писал, то и дело сверяясь с картой, разложенной во весь стол. Он был так поглощен делом, что в первую минуту даже не заметил вошедших.
– Старший лейтенант свою дивизию догоняет. По какому маршруту она идет?
– Минуточку, поглядим, – майор отложил карандаш.
– Смотрите, – показал он на карте, – наша армия шла, да и сейчас идет – на юг, по шоссе, вот тут. Но отсюда, в обход гор, шоссе круто поворачивает на север. Ваша дивизия в авангарде. Она сейчас уже на подходе к венгерской границе. На попутных машинах за два-три дня догоните.
– А если напрямик, вот так? – Гурьев провел пальцем вдоль черной тонкой линии, тянувшейся с востока на запад и обозначавшей проселочную дорогу. – Здесь раз в пять короче.
– Но машины не ходят по этой дороге: дальше, в горы, она совсем плохая.
– Разве никакие наши части не проходили этим прямым путем?
– Нет. Наступление шло на юг. Предполагалось, что пойдем дальше на Балканы, а то и к Средиземному. А теперь приказано повернуть на север.
– Напрямик, по проселочной, – скорее бы!
– Что же? Найдете попутчиков – доезжайте. Выиграете во времени.
– Попытаюсь. Кто-нибудь, наверное, и этим путем едет?
– Возможно. Противника на нем, конечно, давно нет. Да и не было, пожалуй. Немцы больших дорог держались.
Пришедший с Гурьевым майор с доброй строгостью посмотрел на него:
– Только держите ухо востро. По пути все жители вам кланяться и улыбаться будут. Но это ещё не значит, что каждый встречный – друг: могут с улыбочкой в такое место пригласить, что придется потом заносить вас в списки пропавших без вести… Бывали случаи… Так что смотрите. Оружие есть?
– Есть пистолет. В госпитале отбирали, да я сберег, – признался Гурьев.
– И правильно, что сберегли. Как же без оружия до своей части добираться? Время военное. Земля чужая…
– А каково сейчас положение на фронте? – спросил Гурьев майора, сидевшего у карты.
– Только что покончили с окруженной группировкой между Яссами и Кишиневом.
– Пленных вели, я встречал по дороге, оттуда?
– Оттуда. А знаете, сколько немецких соединений в «котел» попало?
На прощанье майор-кадровик дал Гурьеву свежую фронтовую газету. В ней был напечатан приказ Верховного Главнокомандующего с благодарностью войскам, участвовавшим в ликвидации ясско-кишиневской группировки. Гурьев пробежал глазами по тексту приказа, ища знакомые фамилии, и обрадовался: «Ого! Значит, и наш полк отличился». Фамилия командира дивизии упоминалась.
«Жаль, что я раньше из госпиталя не уехал…» И тоненькой иголочкой – мысль: «А Лена? Может, дождался бы… Но что теперь об этом думать».
* * *
После стремительной езды по большой военной дороге село, стоявшее чуть в сторонке от шоссе, казалось Гурьеву полусонным. О близости фронта напоминали лишь черные и красные провода полевого телефона, протянутые вдоль белых каменных оград. В конце улицы, возле колодца, два солдата – безусый и усатый – не спеша поили пару лошадей, запряженных в повозку. Завидев старшего лейтенанта, солдаты оживленно заговорили друг с другом. Молодой сунул старому ведро, поправил пилотку. Гурьев, близоруко щурясь, – на фронте он не носил очков, – стал вглядываться в солдата и, наконец, разглядел: «Да ведь это Федьков, из второй роты!»
Конечно, он! У кого же ещё могут быть такие кудлатые рыжие волосы, выбивающиеся из-под лихо сдвинутой пилотки, такие озорные глаза, такая широкая, чуть лукавая улыбка!
…Однополчанин! Как радостно встретить каждого человека, с которым шел ты одной военной дорогой. Возможно, и совсем не встречались вы, когда воевали. Но если узнаешь, что служил он с тобой под одним полковым знаменем, – всегда ощутишь родство: никогда не умирающая сила воинского братства объединяет вас. Увидишь ли однополчанина, возвращаясь в часть после недолгого отсутствия, или через много лет после войны – всё равно радостно дрогнет сердце: ведь встретил человека, принадлежащего, как и ты, к нерушимому войсковому товариществу, в котором дружба скрепляется общим ратным трудом, общей кровью. И всегда вы найдете общий язык, всегда найдется, что вспомнить. Вспомните знакомых командиров, боевых товарищей, кто где отличился, кто где был ранен, кто и куда выбыл из полка. Вспомните и тех, кто с честью пал в бою где-либо под одной из бесчисленных украинских Гут или Яблунивок или возле какого-нибудь румынского села с трудно запоминающимся названием, от которого в памяти осталось только окончание «ешти», и попутно вспомнится вам солдатская походная шутка по поводу этих названий: «что ни деревня, то «ешьте» да «ешьте», а, кроме мамалыги, есть нечего». Вспомните с доброй усмешкой и скаредного интенданта, который каждую портянку выдавал с таким видом, словно отрывал её от сердца, и то, как однажды мина угодила прямо в котел батальонной кухни, и как во время ночного боя командир роты потерял сапог в непролазной грязи и не было времени разыскивать пропажу: так в одном сапоге и вошел в отбитое у врага село. Вспомните, как в жаркий день во время наступления пришлось залечь на бахче и питаться целый день одними арбузами, потому что под огнем нельзя было доставить ни еды, ни воды. Вспомните, как угощали вас сметаной и самогоном в украинских деревнях, которые освобождали вы, и как пировали вы за столом, из-за которого едва успели убежать немецкие офицеры, оставив непочатым роскошный рождественский ужин. Вспомните многое – и даже о тяжелом будете говорить весело. И если послушает вас человек, не нюхавший фронтового житья, может он по наивности подумать, пожалуй, что была ваша военная жизнь беззаботной и нетрудной: ведь о потерях, лишениях, бедах, о том, почем фунт солдатского лиха, вы если и вспомянете, то так, что трудное не покажется трудным…
Федьков ещё издали обрадованно прокричал, на ходу лихо вскидывая руку к пилотке:
– Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! В полк? – Озорное лицо его сияло. – И мы туда ж! У нас и кони есть, опанасенковы. – Обернувшись, он показал на усатого, в годах, солдата, стоявшего возле повозки и смотревшего на них.
– Опанасенко? – Гурьев, знавший многих солдат в своем батальоне, припомнил: полтавский, из недавнего пополнения, под Корсунью был ранен, весной вернулся из госпиталя, обо всем любит рассказать обстоятельно…
Гурьев и Федьков пошли к повозке.
С какой-то особой, обычно совсем не свойственной этому степенному усачу лихостью, Опанасенко пристукнул каблуками и старательно отдал честь. Он пытался сохранить «официальное» выражение лица, но всё оно, широкое, загорелое, с белыми полосками многочисленных морщин, с выгоревшими досветла редкими, но вместе с тем косматыми бровями и полуседыми подстриженными усами, сияло.
Поздоровавшись с Опанасенко, Гурьев поинтересовался:
– А почему, друзья, вы так разъезжаете?
– Я – из госпиталя, обратно, – доложил Федьков.
– Как же ты сумел запасной полк миновать?
– Я да не сумею! – Федьков горделиво вздернул нос.
– А вы? – спросил Гурьев у Опанасенко.
– Беда до беды, товарищ старший лейтенант. – Только что улыбавшееся лицо усача приняло скорбный вид. – В аккурат перед самым наступлением старшина приказал: сдай старое обмундирование на полковой склад. Поихал. А там кажут: вот тоби бумажка, вези аж на дивизионный, в якой-то «ешти» стоит. Доихал до того «ешти», а дивизионные вже уси на колесах. На той бумажке пишуть поперек, печать ставят и велят: езжай ещё в одно «ешти» – бодай их, – сдашь на армейский склад, бо мы наступаем усем хозяйством. Я кажу; «приказано тильки до полкового склада. Моя часть тож наперед пошла, а вы меня все взад и взад шлете. А тот майор, с дивизионного склада, говорит: «Выполняйте, я отвечаю! А в полк сообщу». И что ты будешь делать? Мое дело солдатское – сполняй, что старшие велят. Поихал до той «ешти», где армейский склад. А навстречу уже все войско идет – и тылы тож: наступление. «Э, – думаю, – Трохим, когда-сь теперь своих догонишь?» Ну, сдал всё имущество, повернул, давай до своих швыдче. А тут який-то скаженый шофер зацепил колесо и порушил мне ось, да и поминай его… Вот лихо! Ни тоби кузни, ни колеса позычить. Приладил вагу, кой-как до села дотяг. А там румыны помогли все справить. Та дуже от своих отстал…
– Я ж ему говорю, товарищ старший лейтенант, – перебил своего спутника Федьков: – брось повозку, сядем на попутные машины. Враз полк догоним. А коней и всё прочее я тебе, Трофим Сидорыч, трофейных – знаешь, каких достану?
– Ни. Своих коней я не можу покинуть. Не треба мне трофейных…
– Чудак! – стоял на своем Федьков. – Сколько мы на твоих трястись будем? А на машинах – враз!
– Ни! На конях – швыдче! Шляхи на разные концы расходятся. Поищешь тех попутчиков! А там дале, кто знает – ходят машины чи ни?
Выслушав доводы обоих, Гурьев решил:
– Поедем напрямик, на лошадях.
– Навпростець? – Опанасенко посмотрел на него с сомнением. – У нас кажут: «Куда вы, дядько, едете?» – «Нема часу, еду навпростець». – «Ну, коли навпростець, то берите хлиба, бо дома ночевать не будете».
– Ничего, я в штабе про короткую дорогу расспросил. Жаль, карты нет.
– Есть карта! – поспешил доложить Федьков.
– Какая?
– Трофейная. На дороге возле Ясс подобрал.
Покопавшись в повозке, он подал потрепанную карту.
– Только в ней все по-немецки нарисовано. Ну, да чего не разберем – про то расспросим! Я же румынский – во как понимаю!
– Откуда такие познания? – удивился Гурьев.
– А у меня дядька, кооператор, под Котовском меж молдаван двадцать лет живет. Когда я пацаном был – каждое лето у дядьки гостил. Набрался по-молдавански.
– Так то молдавский, а то румынский. Хоть и похожи, а не одно и то же.
– Все одно меня румыны с первого слова понимают, товарищ старший лейтенант.
– Что ж, и Опанасенко румынский изучил? – спросил Гурьев.
– Ни, – вздохнул тот, – слов пять або шесть. Здравствуй – прощай, про воду, про корм! спросить.
– Ничего, как-нибудь объяснимся.
Гурьев развернул измятый, но аккуратно сложенный лист. Карта оказалась крупномасштабной. Многие населенные пункты и дороги на ней не значились, но кое-как ориентироваться она все же позволила бы. Припоминая, что ему показывал на своей карте штабной майор, Гурьев стал прикидывать, как побыстрее догнать полк.
Федьков, смотревший в карту с видом знатока, сказал:
– Может, ещё каких отставших фрицев изловим?
Гурьев улыбнулся:
– Чем воевать-то?
– У Трофима Сидорыча карабин есть.
– Не должно быть противника впереди. С «котлом» покончено. Вот смотри! – Гурьев протянул газету и снова склонился над картой.
Федьков прочел приказ.
– Порядок! Жаль только, что мы с тобой, Трофим Сидорыч, туда не поспели. Дали бы фрицам дыху!
– Дай-кась и я подывлюсь! – попросил Опанасенко.
Он читал долго, сосредоточенно и вдруг воскликнул:
– О це дило! А ну, кто б его подумал!
– Чего, Трофим Сидорыч? – спросил Федьков.
– Да ты дывись, дывись! Ось тут!
– Ну и что же такого? – прочел Федьков фамилию одного из генералов, упомянутых в приказе Главнокомандующего.
– То ж земляк мой!
– Земляк? Подумаешь! У нас в Одессе – знаешь, сколько знаменитых? На каждой улице.
– Тебе не диво, а мне… – Опанасенко замялся, – даже трохи досадно. От сам суди, – он снова ткнул пальцем в газету: – генерал-то цей – я с ним в двадцатом году в одном взводе служил. На одних нарах спали, с одного бачка ели. Он рядовой был и я рядовой. В пехотном сорок девятом имени Третьего Интернационала полку.
– Да ну?
– Свята правда!
– А чего ж досадно?
– А як же! Я ж был боец посправнее его! Всей военной науке его обучал… Он и грамоту-то помене моего разумел. Мне, как службы срок кончал, говорили: «Оставайся в армии, на курсы командирские пошлем». А я не захотел. До дому потягло. А он-то, – кивнул Опанасенко на газету, – видать, так и служит наскризь с той поры. Вот и в генералы вышел… Эх, – почесал он ус, – да если б я с военной линии не сходил, – я бы не меньше его должностей достиг! Ему-то вон, гляди, – сам товарищ Сталин благодарность объявляет.
– А нам разве не объявляет? И нам в том же приказе!
Федьков с дурашливым видом козырнул Опанасенко:
– Напрасно обижаетесь, товарищ генерал!
– Тебе только шутковать! – рассердился Опанасенко.
Гурьев вложил карту в планшет:
– Едем напрямик… Чем, Опанасенко, недоволен?
Федькова опять бес дернул за язык:
– Обидно: в генералы не вышел!
Опанасенко молча взял с повозки флягу и направился к колодцу.
– Он тебе в отцы годится! – бупрекнул Федькова Гурьев.
– А что? Я его уважаю! – Глаза озорника недоумевали: «Да стоит ли придираться из-за пустяков?»
Стараясь, как всегда, сдержать себя от резких слов, Гурьев глянул на Федькова так, что у того моментально слетела улыбочка с губ.
– Вам всё шуточки? – Старший лейтенант остановил взгляд на щегольских красных погонах Федькова: такие полагалось носить только в глубоком тылу.
– Погончики-то… Перед сестрами госпитальными в них красоваться… Почему не сменили на полевые? На фронт едете, не свататься!
– Полевые не смог получить, товарищ старший лейтенант.
– Это вы-то не смогли? Где хотите достаньте, а наденьте какие положено!
– Слушаюсь!
Через минуту Федьков уже сидел в холодке у ограды и прилаживал к гимнастерке другие погоны.
Вернулся Опанасенко с запотевшей флягой, тяжело повисшей на руке.
– Поихали, товарищ старший лейтенант? – спросил он
– Пора.
Едва повозка тронулась, Гурьев, усевшийся рядом с Опанасенко на передке, попросил:
– А теперь, товарищ Опанасенко, рассказывайте – как у нас в батальоне дела?
– Яки же дела? Ранило вас – после того почти всё время в обороне стояли. Под этими самыми… ну, опять же «ешти», запамятовал!
– Ранеными много выбыло?
– Да ни! Боев особых не було, пока в наступление не пошли.
– А кто сейчас за меня командует?
– Капитан Буравец.
– Буравец?
Это был один из мало знакомых Гурьеву офицеров полкового штаба.
– Ну и как новый комбат?
– Требует, як положено… А по бою – ще не знаю. Не бачил.
– А что ещё нового в батальоне?
– А ще… Фешка!
– Что за Фешка?
– Писарь считается.
– Писарь? А старого куда?
– Тот при своем деле. А эта – так… Капитан Буравец откуда-тось прикомандировал до себя. Так и живет при нём. Ординарец его за ею услужает.
– Вот как! – Гурьев нахмурился: «Не было в батальоне Фешек… Вернусь – погоню бездельницу!»
– А как мой Иван? – вспомнил об ординарце.
– До взвода разведки отпросился, пока вас нема. Як на капе прийдет, так писаря пытае: письма старшему лейтенанту е? Писарь сначала хотел все на госпиталь вам переслать. А Иван не дал. Велел письма, которые вам, в особый конверт складывать. Богато их в том конверте!
«Поскорее почитать бы! Сколько там, наверное, весточек от Лены…» Живо представилось, как берет он в руки объемистый пакет с потертыми от долгого хождения по полевым почтам конвертами, надписанными милой рукой… В них не найдет он новостей – ведь Лена уже после этого писала ему в госпиталь. Но заново переживет он радость узнавания всего, что Лена сообщает о себе. Как дорога ему каждая строчка, написанная ею…
На выезде из села Федьков приметил глазевшего на них мальчишку в холщовой рубашке и узких штанах, босого, но в высокой каракулевой шапке, какие носят в Румынии и стар и мал даже летом. Попросив Опанасенко остановить лошадей, Федьков поманил мальчишку. Тот, несмело переступая коричневыми ступнями по белой пухлой пыли, подошел. Федьков бойко проговорил несколько слов по-румынски, – он, видимо, произносил их не впервые. Мальчишка помчался к ближнему двору.
– В чём дело? – обернулся с передка Гурьев.
– Помидорчиков взять на дорогу.
Мальчишка уже мчался обратно, неся в подоле рубашки яркокрасные крупные помидоры, видно только что сорванные.
– Сыпь сюда! – показал Федьков на середину повозки. Мальчишка понял его.
Федьков полез в карман, вытащил оттуда какой-то пышный орден с коронами и орлами и прицепил его мальчишке на рубашку. Тот онемел от изумления.
Покопавшись ещё в кармане, Федьков извлек железный крест на яркой ленточке, приколол мальчишке и его.
Гурьев нахмурился:
– Федьков, прекрати комедию!
– А что, товарищ старший лейтенант? Я с местным населением честную коммерцию веду…
– Деньгами надо платить, а не всякой дрянью, Деньги-то есть?
– По одной штуке.
– По одной?
– Да вот… для интересу собрал на шоссейке. Фрицы окруженные порастеряли.
Федьков вытащил из кармана пачку разноцветных, разнокалиберных бумажек. Тут были и немецкие марки, и румынские леи, и болгарские левы, и чешские кроны, и даже какие-то египетские банкноты. Каждое государство в этой коллекции было представлено только одним денежным знаком.
– Фашисты награбили по всему свету, а ты подбираешь! – прищурился Гурьев.
– Для интересу только. По одной же штуке! А так – на кой они мне? Там побольше валялось, да я не взял. Сейчас я этому пацану румынской деньгой заплачу… – Порывшись, Федьков нашел нужную бумажку, сунул её мальчишке и сказал Опанасенко:
– Трогай!
«Ох, уж этот мне шелопут! – Гурьев не мог без улыбки смотреть на Федькова, на его хитроватое и всегда, даже когда тот был совершенно серьезен, озорное лицо. – И много же ветра в голове у этого одессита! А вояка – лихой. Разведчик толковый. И орден и медали заработал. А вот всё в рядовых, хотя и младший сержант. Даже командиром отделения его не сделаешь. Несерьезен. И когда он остепенится?»
А Федьков весело поглядывал по сторонам. «Хорошую дорожку мы со старшим лейтенантом придумали! – Он уже забыл, что ещё совсем недавно был против того, чтобы ехать проселком. – Поди, тут никто из наших и не бывал ещё. Через заграницу едем! Были бы дед да отец живы – погордились бы!»
Отец Федькова, старый одесский портовик, повоевавший против белых и интервентов, не раз говаривал сыну:
«Ты, Василий, куда счастливее нас будешь! Ленин сказал: такие, как ты, – до коммунизма доживут. А если и драться доведется – бегать от вас буржуям!» А дед, бывший матрос с «Потемкина», выпив маленькую, расчувствовавшись и вспомнив про девятьсот пятый, любил сказать:
– Вы, молодые, нашего корня! Покажете ещё всему свету, что есть наш человек.
Интересно, докуда дойдет полк? В том, что надо дойти до самого края Европы, Федьков не сомневался. Правда, на западе ещё в июне высадились английские и американские войска. Но двигаются они маленькими шажочками. Наши – быстрее! И он, Федьков, ещё пройдет все эти заграницы вдоль и поперек. Интересно, что за страна, например, Италия? Похожа на Румынию или нет? Спросить бы у старшего лейтенанта.
А Гурьев в эту минуту думал о том же. С особенной остротой хотелось ему поскорее повидать боевых товарищей однополчан. Шутка ли: если все походы подсчитать – сапог за это время износил четыре пары, протопали вместе не меньше трех тысяч километров. А скольких друзей схоронили в наскоро вырытых могилах?.. И в Сталинградской, засеянной железом степи, и среди безбрежных хлебов Орловщины, и в лесах за Киевом, и у Житомира, и на высоких просторах Молдавии – всюду оставались однополчане. А живые идут дальше и дальше и не остановятся, пока не выйдут на рубеж последнего дня войны и первого дня мира.
Как-то они там, боевые родичи? Так же, поди, невозмутим и добродушно ворчлив, посапывает своей трубочкой где-нибудь на НП или в голове колонны командир полка подполковник Бересов. И, наверное, нет-нет и затревожится: скоро ли вернется командир первого батальона? А как солдаты в батальоне? Вспоминают ли? Ждут ли?
* * *
Повозка резво катилась по краю шоссе. Навстречу, как и до этого, брели солдаты каких-то разбежавшихся румынских частей, крестьяне.
Иногда во встречном потоке можно было увидеть женщин с русскими лицами, в белых платочках, спецовках, выцветших неказистых платьях.
Опанасенко с надеждой всматривался в каждую из них: «А не Яринка ли моя?» Два года уже прошло, как угнали его дочь в неметчину.
Внимательно оглядывал каждую попадавшуюся навстречу женщину и Федьков. Зло прищурены были его глаза… Весной он получил письмо из родной Одессы от сестры, только что вернувшейся из эвакуации. Сестра писала, что Клавдия, девушка, которая обещала ждать его, спуталась, как говорят соседи, с оккупантами и уехала с ними. И невольно сейчас лезло в голову Федькову: «А не бредет ли и она обратно? Бросили, наверно, как тряпку. Ну, не попадись ты, Клашка, мне…» Не хотел он встречи с нею. Но невольно останавливал взгляд на каждом женском лице, мелькавшем мимо…
Завидев впереди проселок, идущий от шоссе направо, Гурьев сверился с картой. Тот самый, нужный им, поворот.
Колеса, только что стучавшие по асфальту, мягко зашелестели по пыли. Рев машин, проносившихся по шоссе, затихал. Мягко клубилась пыль под копытами, изредка скрежетал попавший под колесо камешек Лошади, поматывая головами, то и дело тянулись к траве, росшей по обочине, и недовольно фыркали, когда Опанасенко, подгоняя их, встряхивал вожжами. Серенькая пичуга взлетела из придорожного бурьяна и промчалась над повозкой. В стороне меж коричневых, высохших стеблей столбиком стоял суслик. Вот он пригнулся, побежал, скрылся.
«Трусишь, брат!» – улыбнулся Гурьев и, озирая огромное золотисто-зеленоватое пространство, до краев наполненное солнцем, щедрым по-южному, порадовался: «Привольно как!» И сразу же, как-то автоматически, пришло другое: «А наступать здесь трудно. Местность просматривается далеко, и от танков в случае чего укрыться негде, разве – вот в тех кустах: там, наверное, овражек. Для минометной позиции кустики хороши… Да что я! На любой пейзаж только как комбат смотрю… Наверно, до конца войны для меня – не пейзаж, а «местность», как в Боевом уставе пишется! Хоть бы на минутку почувствовать себя не военным, а обычным человеком…»
Тронул за плечо Опанасенко:
– На Полтавщину похоже?
– Как у нас в степу… – улыбнулся тот. – Ниякой войны…
– А вот! – перебил его Гурьев.
У самой дороги, возле небольшого пригорка, на котором лежал глубоко вросший в землю плоский серый камень, желтел высохшей глиной маленький продолговатый бугорок с колышком, повязанным красной ленточкой.
– Наш.
Опанасенко остановил лошадей. Все сошли с повозки, поднялись к могиле.
На холмике лежала добела выгоревшая от солнца, вылинявшая от дождей солдатская пилотка.
– Эх, не прийде к нему на могилку ни жинка, ни мати… – насупил седые косматые брови Опанасенко.
Гурьев медленно снял пилотку.
Молча постояли с обнаженными головами.
Потом Гурьев поднялся на пригорок: хотел отсюда, с высоты, сверить с картой, правильно ли едут. Остановился возле камня. На источенной ветрами и дождями плите виднелись полустёртые буквы. Нагнулся, разбирая их.
Подошедший Федьков полюбопытствовал: что написано?
– Русские имена…
– Русские?
– Да, – выпрямился Гурьев, – деды наши, которые турок из Румынии выгоняли.
Опанасенко, надевший было пилотку, снова снял eё:
– Вечная память людям нашим…
И вот опять бегут кони, взбивая копытами ленивую, тяжелую пыль, вьется колея меж пышущими зноем полями под высоким, добела накаленным полуденным небом. Пустынна дорога и впереди и позади, ни души не видно вокруг. Клонятся по сторонам пути отягощенные колосья. Опанасенко не утерпел, сорвал на ходу, чуть придержав лошадей, пару колосьев, сунул вожжи Федькову, растер колосья на ладони. Привычно помял зерно ногтем, попробовал на зуб:
– Перестоялась… – И удивился: – Чего ж не убирают? Поди некому? Эх, война…
* * *
Серой пыльной лентой тянется проселок через накаленную солнцем степь. Где-то далеко в стороне, в темной зелени садов, чуть видны серые крыши и белые стены деревенских хат. Высится вдали журавль одинокого колодца; в лощине стоит осоловевшая от жары овечья отара. Она сбилась вплотную и кажется издали одним многоногим существом. Возле стада – пастух в белой посконной одежде, в широкополой соломенной шляпе. Опершись на длинный посох, пристально смотрит на проезжающих: что за люди? Видит он или нет, что это – русские?
Проехали уже немало. Гурьев то и дело поглядывает на карту: как бы не заблудиться.
Вот какой-то поворот в сторону. На карте его, конечно, нет. Вот ещё. Правильно ли едут? Расспросить бы, да некого. И всякому ли здесь можно довериться?
Кругом ни души. Только поля, поля – и над ними на фоне далекого темносинего леса дрожит, переливаясь, жаркий воздух. Вдруг Федьков, сидящий позади Гурьева, тронул его за рукав:
– Товарищ старший лейтенант, сзади догоняют!
Опанасенко придержал лошадей. Все оглянулись. Было видно, как мчится по дороге пароконная повозка, оставляя за собой полупрозрачное облачко пыли, долго не опадающее в безветрии. Федьков, известный в полку своим острым глазом, сказал уверенно:
– Свои. Трое.
– Попутчики! – обрадовался Опанасенко.
Спрыгнув с остановившейся повозки и ступая по пыли, словно по нагретому пушистому ковру, Гурьев вышел на середину дороги. Федьков присоединился к нему. Только Опанасенко остался сидеть на передке, ослабив вожжи. Обрадованные кони, фыркая, помахивая гривами и прядая ушами, потянулись к придорожной траве.
Ехавшие сзади мчались галопом. Вот уже слышен стук колес, видно, как ездовой вовсю нахлестывает лошадей.
– И чего коней гонят? – неодобрительно проговорил Опанасенко. – Який форс!
Гурьев поднял руку. Но повозка понеслась ещё быстрее на него и Федькова, они отступили в сторону. Мелькнули трое военных в запыленных гимнастерках, на одном как будто офицерские погоны. Пролетев мимо, повозка скрылась в клубах пыли.
– Тю, скаженые! – сплюнул Опанасенко.
Поехали дальше.
– На Полтавщину дуже похоже… – продолжал Опанасенко прерванный разговор. – Только поля, як лоскуточки. Единоличность… Говорят, здесь ещё паны-бояре хозяйнуют. Неужели, товарищ старший лейтенант, теперь их не поскидают?
– Дойдет дело…
– И я так розумию! Как у нас в семнадцатом Миколашку да инших поскидали, – зараз стали землю у панов забирать… А ихнего Михая сейчас уже прижали трохи, заставили войну кончать. Только то худо – люди здесь дуже смирные. У нас – побойчее. То дело было, як мы со своими панами расчет повели! Сам я ходил, со всеми, нашего помещика Стеблиевокого из имения вытряхать.
– Сколько же вам тогда было? – не без сомнения спросил Гурьев.
– Мои роки не так богатые: сорок четыре. Но я и крепостное право побачил, и капитализм, и при колхозном строе пожил. Война помилуе – то и до коммунизма дожить надежду маю.
– Ну, насчет крепостного права вы перехватили…
– Як перехватил, товарищ старший лейтенант? А под Гитлером три года? Все в аккурат так, как деды сказывали и барщина, и без спросу ничего не смей, и чуть чего – по морде тебе или, скажем, плетюгами…
* * *
День перевалил за половину. Солнце подвигалось к далеким горам, чуть синевшим впереди. Разморенные жарой, все примолкли. Лошади бежали ленивой рысцой, то и дело норовя перейти на шаг. Кругом всё выглядело тихо и мирно.
Впереди показалась встречная телега, запряженная одной лошадью. В повозке сидели двое: мужчина в деревенской соломенной шляпе, белой рубахе и женщина в пестром платке и полотняной кофте с вышитыми рукавами. Концами платка она вытирала глаза и что-то тревожно говорила своему спутнику. Увидев встречных, крестьянин задергал вожжами, женщина пугливо обхватила руками его плечи, он круто свернул лошадь и, во всю мочь нахлестывая её кнутом, погнал повозку прочь от дороги.
Федьков закричал: «Эй, домнуле[3]3
Господин (рум.)
[Закрыть], обожди!» – но повозка уже скрылась в высокой кукурузе.
– Вот чудаки! – изумился Федьков.
– Налякал кто-сь, – решил Опанасенко. – Мало ли брехни про нас пущено? По весне, як границу переступили, пришли мы в самую первую румынскую деревню. Заходим до хаты. Хозяйка аж побелела с переляку. Потом присмотрелась до нас – трохи успокоилась. А с нами был один хлопец – чи из Казахстана, чи из Узбекистана, чернявый такой. Та румынка дивится на него, як на чудо. Думаю: не бачила, значит, такой нации. Для неё, может, казах такое же диво, як для нас негр или, скажем, индус. И вдруг та жинка подходит к тому хлопцу, осторожненько снимает у него шапку и в волосах шарит. Улыбнулась и отошла. С нами там был один солдат – молдаванин, он ихнюю мову трохи знал. Мы кажем ему: спроси, чего она за голову щупала? Оказывается – роги шукала! Обрадовалась, что не нашла! Им там напели, что идут из России не люди, а чертяки натуральные – с рогами, с хвостом, як положено…
– А хвост она не искала у того солдата? – серьезным тоном спросил Федьков.
– Ни… А то вот еще случай был…
Опанасенко внезапно прервал свою речь:
– Ось, бачьте! – перегнувшись с повозки, он смотрел вниз, на колею. Там, в темной жирной луже, валялись черепки разбитой глиняной посуды.
– Масло! – определил Федьков. – Уж не фрицы ли пятки смазывали?
– Обронила какая-нибудь разява жинка! – Опанасенко подхлестнул лошадей.
– Так вот, говорю, была ещё така история с этими руманештами… – заговорил он снова и вдруг воскликнул:
– И ещё масло загубили! Чого ж воны макитры колотят?
На самой колее опять краснели черепки разбитой посуды.
Опанасенко потянул вожжи, кони пошли медленнее.
– Уж не того ли дядька макитры, что от нас с жинкой на повозке в кукурузу втикал?
– А может, тех очумелых, что нас обогнали? – высказал догадку Федьков.
– Ни. Зачем военному человеку макитры тягать?
– Опанасенко! – вдруг окликнул Гурьев. – Карабин ваш где?
– Где же ему быть? На возу.
– Что-то не вижу. А ну, достаньте!
Лицо старшего лейтенанта было озабоченным и строгим. Прихватывая вожжи левой рукой, Опанасенко вытащил откуда-то из-под себя карабин с заботливо обмотанным тряпицей затвором.
– Ох, уж эти мне обозники! – с укором проговорил Гурьев и приказал: – Федьков, возьми карабин. Да тряпку с затвора сними!
– Слушаюсь!
Гурьев настороженно посматривал вокруг. Пустынные поля, безлюдная дорога, ясное небо. Странные встречи, странные следы…
Впереди показался высокий журавль колодца. Он торчал над равниной, как предостерегающе поднятый к сухому небу костлявый палец.
* * *
Это был обычный колодец, каких много в румынской степи: высокий, посеревший от дождей и ветров, потрескавшийся журавль, колода с позеленевшим дном, невесть когда и кем сложенная из серого камня, сухая земля, вытоптанная, засыпанная овечьими орешками, и непременный сосед каждого такого колодца – громадный деревянный крест с тремя маленькими крестиками на макушке и перекладине. А на кресте под грубо вырезанным распятием – наверно, топором орудовал сельский художник – остатки давно истрепанного степными ветрами венка – дара какой-нибудь богомольной крестьянки: выцветшие ленточки, рыжие стебли, уже без цветов и листьев. О чем молилась та, которая повесила венок на этот крест? О том, чтобы вернулся с войны сын, пропавший без вести? Об урожае? Или об утолении какой-либо другой печали – мало ли скорбей могло выпасть на долю труженицы? Бесконечно грустными показались Гурьеву эти жалкие полинявшие ленточки и сухие стебли неизвестных, давно облетевших цветов возле потрескавшихся, источенных червями ног деревянного Иисуса… Сколько материнского горя на свете, сколько горя, принесенного войной… Когда настанет конец ему? Воевать за это надо, воевать. И многим матерям ещё придется оплакивать своих сыновей, отдавших жизнь за то, чтобы никогда не плакали матери на земле…