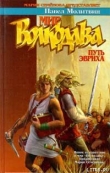Текст книги "Здравствуй, товарищ!"
Автор книги: Юрий Стрехнин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Юрий Федорович Стрехнин
Здравствуй, товарищ!
Глава первая.
Полк ушел вперед

Полуторка, дребезжа и подпрыгивая на выбоинах, мчалась пыльной дорогой к переправе. Реки ещё не было видно, однако впереди, в неясной дымке, уже угадывался противоположный берег.
Старший лейтенант Гурьев, стиснув зубы, чтобы не прикусить языка при тряске, сидел в кузове на ящиках со снарядами.
Знакомые места! Здесь в конце марта наступали… Шли ясным утром по задичавшим, бурым от прошлогоднего бурьяна полям, мимо седого от высохшей полыни древнего кургана. Шагали в каком-то торжественном молчании: близка граница, до которой так далек и труден был путь! Слышался только мерный звук шагов да чавканье жирной, набухшей земли под ногами. Совсем близко впереди вдруг встали ровным рядом черные столбы разрывов. Назад, к санитарной повозке, под руки вели раненного осколком усатого солдата, и он досадливо ругался: до границы не дошел…
А теперь – высокой стеной стоят по обеим сторонам пути золотые копья кукурузы; дальше, сколько хватает глаз, раскинулась плодовитая молдавская степь, уже заметно пожелтевшая от знойного солнца. А вон подбитый «тигр» вытянул меж кукурузных стеблей облезлую ржавую пушку, похожую на огромную дубину с шишкой на конце. Кто подбил тогда эту махину? Кажется, дивизионные артиллеристы…
Нелепо торчит этот мертвый танк, – все вокруг зелено, неистребимой силой жизни залечиваются раны земли.
Биенье жизни всюду есть.
И почве, взрывом опаленной,
Дано когда-нибудь зацвесть
Цветеньем юности зеленой…
Эти почему-то так крепко запомнившиеся Гурьеву строки сложил давнишний фронтовой друг его, командир полковых связистов лейтенант Буровин, немножко поэт и мечтатель. Никто, кроме Гурьева, не знал, что лейтенант пишет стихи: держал Буровин это в большой тайне. Теперь над могилой стихотворца травы растут: убит он ещё в прошлом году под Орлом…
* * *
Неделю назад Гурьев и не думал так скоро оказаться в пути: рана на ноге ещё не совсем закрылась. Полк стоял в обороне где-то под Яссами. С весны там фронт не двигался, и Гурьев не очень беспокоился: разыскать своих он сможет без труда. Правда, околачиваться в госпитале до чертиков надоело. Несколько раз пытался выписаться досрочно, но всё никак не удавалось. А потом произошло событие, которое на время примирило его с госпиталем. Лена, жена, написала, что, возможно, скоро приедет к нему туда.
Гурьев не видал Лену почти три года: далеко от фронта до их родного сибирского городка, где они с Леной до войны работали в одной школе: он преподавал историю и географию, а Лена – русский язык. Не чаял Гурьев, что до конца войны придется свидеться. И вот, оказывается, Лена по её просьбе направлена учительствовать в один из недавно освобожденных южных городов. По пути постарается навестить его.
Госпиталь размещался в большом тенистом парке, в здании, где до войны был дом отдыха.
Целыми днями Гурьев, томимый ожиданием, бродил по прохладным аллеям и дорожкам, испещренным золотистыми пятнами света; солнце с трудом проникало сквозь густую листву. Выходил на берег пруда, запрятанного в глубине парка, подолгу сидел там у недвижной воды, подернутой зеленоватой ряской. Иной раз, когда в далекой аллее мелькал меж деревьев женский силуэт, грезилось: Лена.
Ищет его, а он почему-то не может пойти ей навстречу – часто приходили такие беспокойные сны.
Сколько раз в эти дни вставало в памяти их последнее расставанье! Летом сорок второго года только что сформированная дивизия, в которую он попал после своего первого ранения, готовилась к отправке на фронт. Поговаривали, пошлют под Сталинград, – там начинались большие бои.
Видно, сердцем почуяла тогда Лена, что близка разлука надолго. Лагерь дивизии находился в двух сутках езды от города, в котором они жили, но она всё же сумела приехать к нему, хотя очень трудно было отпроситься с работы, достать билет и пропуск… Отпущенный на полчаса, он прибежал на окраину лагеря, к берегу речонки, густо заросшей тальником. Был солнечный день, речка сверкала ослепительно; так, наверно, сверкнет сейчас перед глазами Прут. Бойко лопотала под травянистым бережком, вплотную возле их ног, вода. Лена стояла босая, держа стоптанные пыльные туфли в руке – она только что перешла речку вброд, – загорелая, в выцветшем синем ситцевом платье: недавно вернулась с полевых работ, где была со своей школой.
Он смотрел в бесконечно милое лицо, в карие, чуть прищуренные глаза, на её лоб под простеньким белым платочком, какие обычно носят летом колхозницы в поле, на чуть подрагивавшие губы, на округлый подбородок с еле заметной коричневой родинкой. Вся она, до голубоватой жилки на шее, была так близка, что, казалось, нет сил и шага отойти от неё…
Он стоял, держа её руки в своих. Видел: ей почти по-матерински жаль его.
И пришла та последняя минута. Порывисто обнял Лену. Что-то глухо стукнуло, словно сорвалось сердце. Нет, это упали в траву туфли из её разжавшихся пальцев. Шепнула сквозь набежавшие слезы: «Провожу…» Но он твердо сказал: «Не надо!» – бережно убрал её руки, побежал сквозь хлесткие прутья тальника к лагерю. На бегу обернулся: Лена глядела ему вслед. Сбившаяся белая косынка лежала на её плече.
Недавно, когда он уже ждал Лену, вдруг пришло письмо от командира полка, подполковника Бересова. «И что ты застрял? – писал он. – Должность – за тобой, приезжай».
«Ждут», – обрадовался, прочитав письмо, Гурьев. Но, поколебавшись – не пойти ли снова к врачу, не потребовать ли выписки, всё же под конец сказал себе: «Сначала дождусь Лену».
Однажды утром, идя в парк, остановился, как обычно, возле канцелярии госпиталя, чтобы прочесть уже наклеенный на дверях листок со свежей сводкой. Последние недели на фронте не происходило ничего особенного. Начал просматривать сводку и на этот раз без особого любопытства. Но вдруг прочел: «Наши войска прорвали оборону противника под Яссами, взяли Яссы и продвигаются вперед. Румыния вышла из войны…»
Беспокойно забилось сердце. Сейчас же к врачам! Пусть сегодня же выписывают! А Лена, Лена? Но полк уже в походе, идет вперед, как его потом разыщешь? Да, но Лена… Приедет сюда, вот по этой аллее от станции пройдет в канцелярию, справится о нем. Инвалид-писарь долго будет рыться в списках, потом объявит: «Старший лейтенант Гурьев Н.И. по выздоровлении направлен в часть». Лена огорченно сожмет губы, повернется и уйдет…
Радость, что началось наступление, сплеталась в душе с грустью и тревогой. Не отстать бы от друзей-однополчан! Но разве мыслимо уехать, не дождавшись Лены? Когда она приедет? Может – завтра, а может – через неделю? Да удержится ли госпиталь к тому времени на старом месте? Всё двинется вперед. Приедет Лена, а здесь – пусто…
С того утра Гурьев совсем потерял покой. Наступление разворачивалось. Начальство торопилось разгрузить госпиталь. Врачи стали менее придирчивы, выписывали без особых задержек, и многие постарались воспользоваться этим. Всё больше пустых коек оставалось в офицерской палате. А Гурьев никак не мог решить: ждать Лену до последнего дня, пока госпиталь ещё на месте, или не ждать?
Но вот стало известно, что уже получен приказ о передислокации госпиталя вперед, уже куда-то в Румынию. Оставалось одно из двух: получить направление в команду выздоравливающих, в резерв, или выписаться. Надежд на встречу с Леной оставалось всё меньше. В резерв идти не хотелось: скучно там, шагистика да уставы, с утра до вечера – занятия, повторять давно известное… Но самое главное – полк с каждым днем уходит дальше. И Гурьев настоял, чтобы его выписали прямо в часть.
Перед отъездом он написал Лене два письма. Одно оставил в канцелярии, писарю, попросив передать жене, если она зайдет справиться о нём, второе отправил её матери: когда Лена сообщит ей свой новый адрес, та перешлет письмо.
И теперь попутный грузовик мчит его. Мыслями он уже впереди, с однополчанами, а на сердце грустновато. Когда-то теперь придется свидеться с Леной? Да и удастся ли?
* * *
Машину резко качнуло на повороте. Впереди на миг блеснуло: река. Где-то уже за нею, за рубежом родной земли, идет полк.
Полуторка выбежала на пригорок, и впереди заблестел Прут, лениво текущий меж высоких глинистых берегов.
У въезда на мост зеленела фуражка пограничника.
– Стоит уже! – порадовался Гурьев.
На этой стороне скопилась очередь грузовиков: сапер, дежуривший на переправе, пропускал их по одному, с интервалами. На одной из машин заливисто играли на баяне и чей-то задорный голос бойко выводил:
По-над Прутом дождь иде,
В Бухаресте склизко,
Ой, тикайте, постолы,
Бо чоботы близко!..
«Постолы? Это ведь вояки короля Михая, – улыбнулся Гурьев. – Наши-то в сапогах – в «чоботах». А песня уже устарела: румынам теперь от нас «тикать» не надо».
На другой машине кто-то подхватывал под тот же баян:
В Бухаресте есть оркестр,
Много шума, треска.
Доберемся в Бухарест –
Всыпем Антонеску…
– Давай! – крикнул регулировщик-сапер и махнул флажком.
Под колесами дробно простучали доски настила. Полуторка, качнувшись, выбралась на противоположный берег и, тяжело урча мотором, медленно поползла в гору. Гурьев обернулся: у дальнего конца моста стоял пограничник и глядел им вслед.
«До свидания, Родина!» – встрепенулось сердце. А полуторка, набирая скорость, уже мчалась, оставляя за собой длинный шлейф пыли. Навстречу бежали такие же поля, как и позади, за рекой. Неужели это чужая, ещё вчера – вражеская, земля?
Тогда, в марте, он не успел толком и глянуть на Румынию: через час после того как батальон с хода форсировал Прут и вступил на румынский берег, Гурьева уже везли обратно с забинтованной ногой. Досадовал: выбыл из строя, едва перешагнув границу. И всё же на сердце было отрадно: дошел-таки до неё!
Почти пять месяцев прошло с той поры…
* * *
Километр за километром отлетали назад. Опытным глазом фронтовика Гурьев примечал: бои прошли здесь только что. По обочинам – разбитые немецкие повозки, обгорелые грузовики, из придорожной кукурузы торчат окостеневшие лошадиные ноги.
Вот полуторка замедлила ход и пробирается, прижимаясь к правому краю дороги. Навстречу, подымая густую пыль, бредет длинная колонна пленных под охраной нескольких истомившихся от жары бойцов. Пленным идти легче, чем конвоирам: немцы полураздеты, многие – только в трусах, мундиры и штаны перекинуты за спину. Колонна остановилась у придорожного колодца, и серо-зеленая галдящая толпа мигом облепила его. Мелькают руки с котелками и фляжками, потные, возбужденные лица. Конвойные с трудом наводят порядок. Какой-то унтер в пропотевшем мундире с оборванными пуговицами вырвался из толпы, отбежал в сторону с котелком и, обхватив его обеими руками, жадно пьет, расплескивая воду на раскаленную пыль.
«Не тот ты теперь», – усмешка тронула губы Гурьева. В прошлом году, в июле, во время боев под Орлом, привели к нему вот такого же унтера. Тот унтер с гонором держался…
«А ведь о том, что сейчас вижу, со временем на уроках рассказывать буду», – пришла в голову привычная мысль. Гурьев нередко ловил себя на желании – волнующее впечатление об увиденном закрепить в памяти лаконичной, весомой фразой. И посмеивался в таких случаях над собой: «Ты, брат, любишь все на высокий штиль переводить!»
Долго навстречу автомашине тянулись колонны пленных, и ехать приходилось медленно. Один из попутчиков Гурьева – сержант, ездивший с каким-то поручением в тылы и теперь догоняющий свою дивизию, объяснил:
– За Яссами «котел», как полагается… Шестьдесят тысяч живьем взято.
Наконец, последняя колонна пропылила мимо. Шофер прибавил газ. Шоссе рванулось навстречу. Словоохотливый сержант, придерживая рукой пилотку, чтобы не сдуло, пригнувшись к уху Гурьева, прокричал:
– Здесь мы в обороне стояли. Отсюда и пошли…
Среди выгоревшей от солнца травы виднелись брошенные землянки, траншеи, ходы сообщения. То тут, то там чернела вывороченная земля: казалось, поле вспахано великанским плугом. Зияли огромные воронки, почти вплотную одна к одной. На дне их поблескивали круглые лужи.
– Здорово вас немцы бомбили! – прокричал Гурьев сержанту.
Впереди замелькало красное и белое – стены и черепичные крыши домов. Подскакивая колесами на рельсах, полуторка миновала железнодорожный переезд. Неподалеку, возле линии, огромным замершим железным стадом стояли сотни тракторов советских марок.
Радостно дрогнуло сердце Гурьева, словно добрых знакомых увидел: голубоватые, на высоких шипастых колесах «СТЗ» и «ХТЗ». Ещё парнишкой, когда такие машины в их селе впервые появились, мечтал Гурьев трактористом стать. Да переменились мечты…
– Украли, антонески! – кивнул сержант. – Ну, да теперь – отдай моё обратно!
Машина въехала на окраину небольшого городка. Чуть ли не на каждом доме красовалась огромная вывеска, и попервоначалу могло показаться, что город населен одними лавочниками. У многих магазинчиков были наглухо закрыты двери, но разбиты витрины. Фашисты, удирая, всё же, видно, успели распотрошить эти «торговые точки». Но коммерция уже оживала: какой-то негоциант, обросший, похожий на погорельца, в шлепанцах на босу ногу и в серой манишке, втаскивал в свой магазин уцелевший товар – фетровые шляпы, зажав их в охапку.
Полуторка остановилась на площади. Дальше ехать с нею Гурьеву было не по пути, и он, закурив на прощанье с водителем и сержантом, отправился искать попутную машину.
На площади стояло несколько запыленных, доверху нагруженных автомашин. Шоферов в кабинах не было. Один из солдат, сопровождавших грузовики, объяснил: привал, пошли купить фруктов или подзакусить в какой-либо из обступивших площадь бодег – харчевен. Гурьев, прохаживаясь в ожидании, шоферов, невольно остановился у окна одной из них. За стеклом, в обрамлении пустых винных бутылок, стояли два засиженных мухами портрета: румынского короля Михая – юнца с напыщенным лицом – и Черчилля.
Гурьев заглянул в бодегу. За дощатым столом, вокруг крохотного, похожего на колбочку графинчика, до половины наполненного желтоватой прозрачной влагой, сидели три господина в затрепанных пиджаках и о чем-то оживленно толковали. За прилавком тучный, багровый хозяин заведения в засаленном фартуке и с пятнистым серым полотенцем через плечо, стоя за прилавком и лениво отгоняя мух, от скуки прислушивался к разговору. Завидев советского офицера, он сразу преобразился, затараторил что-то любезное, рванулся навстречу. Не желая попасть в число клиентов этого неаппетитного заведения, Гурьев поспешно ретировался. Уже на улице рассмеялся: «Эк юлит! Вот он, живой капитализм!»
«Живой капитализм» давал знать себя на каждом шагу. Не успел Гурьев отойти от бодеги, как на него налетел какой-то поджарый человек в костюме, элегантно скроенном, сшитом из отличного материала, но до крайности залосненном, и бойко зачастил на ломаном русском языке:
– Здравствуйте, товарищ офицер! Что товарищ имеет купить? Что товарищ имеет продать?

Гурьев отрицательно качнул головой. Однако предприимчивый делец не отставал от него, пытаясь выяснить возможности хоть какого-нибудь товарообмена. Избавился от назойливого коммерсанта Гурьев только тем, что завернул в первую попавшуюся парикмахерскую.
– Что товарищ желает? – бросился к нему небритый цирюльник, до этого дремавший в кресле перед зеркалом. – Побриться?! Прическу?! Прошу, пожалуйста! – Парикмахер молниеносно обмахнул салфеткой кресло и что-то прокричал в сторону внутренней двери, прикрытой занавеской. Мгновенно появились оттуда мальчик с горячей водой, девушка с салфеткой и последней – дебелая женщина в ярком платье, с веничком в пухлой руке. Все заулыбались посетителю, засуетились. Видно было, что клиенты здесь нечасты. «Предприниматели…» – подумал Гурьев с жалостью, усаживаясь в расшатанное кресло напротив мутного, облупившегося зеркала.
Парикмахер, намыливая и одновременно массируя щеки клиента – он обходился без кисточки, действуя прямо пальцами, – оживленно расспрашивал о том же, о чем и коммерсант, преследовавший Гурьева до дверей парикмахерской.
Побыстрее расплатившись, Гурьев поспешно вышел на улицу, продолжая изумляться: «Неужели здесь все такие угодливые?»
Надеясь найти кого-либо из шоферов, направился к рынку. С любопытством глядел вокруг: заграница! Невольно искал чего-нибудь особенного. Но что в этом городишке примечательного? Грязная улица, запыленные каштаны, каменный тротуарчик; идут мимо смуглые мужчины в выгоревших фетровых шляпах и женщины в платьях, шитых из дешевой цветастой ткани, с любопытством разглядывают советского военного.
Посреди площади высилось огромное, с башенками и стеклянной крышей, здание. Сначала Гурьев принял его за театр, но, подойдя поближе, увидел: крытый рынок. Вошел под мощные своды этого храма коммерции. Грудами лежали на прилавках алые помидоры и перцы, длинные и тонкие, похожие на зеленые пальцы, огурцы, нежные желто-розовые персики, абрикосы в золотистом пушке, громадные полосатые арбузы. Черноволосые продавщицы настойчиво предлагали свой товар, выразительно улыбаясь. Им приходилось стараться вовсю: покупающих было куда меньше, чем продающих. Хорошо «шла» лишь вареная кукуруза. Ею торговали во всех углах рынка. Дамы, обутые по последней военной моде в матерчатые туфли на деревянных подошвах, тут же ели её, держа горячий початок пальцами с наманикюренными ногтями.
Походив возле рынка и вернувшись к машинам, Гурьев нашел, наконец, нескольких шоферов. Но среди них не оказалось ни одного, с кем было бы по пути. Расспросив у встретившегося солдата дорогу, он направился к выезду из города – там должен быть контрольно-пропускной пункт, регулировщики помогут уехать.
По пути, на перекрестке, Гурьев увидел столб, ветвистый от многочисленных деревянных стрел, исписанных условными названиями проходивших частей. Все стрелы показывали в одну сторону. Надеясь найти знак своего полка, Гурьев с вниманием стал рассматривать указки. Кое-где ещё виднелись случайно уцелевшие немецкие указатели. Но на многих из них поверх аккуратных готических надписей размашистой солдатской рукой были написаны русские слова. На одной из таких указок углем было обозначено: «Валя Шура поехали Галац». Другой рукой, мелом, между именами был поставлен плюс и возле нарисовано сердце, пронзенное стрелой.
«Шутничок! – рассмеялся Гурьев. – Ведь «Валя» и «Шура» – не влюбленная пара, а подразделения, идущие вместе».
Сердце радостно дрогнуло, когда между «WR – link» и «Ветер – Бухарест» обнаружил знакомую надпись: «Буран – прямо».
Это не была указка его полка. «Бураном» условно называлась какая-то другая часть. Но уже не впервые неизвестный «Буран» идёт по тому же направлению, что и его полк. Интересно, что это за «Буран»? Полк противотанковой артиллерии, который помог отбить атаку «тигров» в прошлом году под Орлом? Лихие танкисты, которые поддерживали под Корсунь-Шевченковским? Славные «катюши», которые делали артподготовку на участке полка в марте, когда началось знаменитое весеннее наступление? Или те работяги-саперы, которые наводили для них переправы через Днепр, Южный Буг, Днестр и многие другие большие и малые реки и, наверно, будут ставить мосты через Тиссу, Дунай, а может быть – и через Рейн или По? Неизвестно, какая воинская часть зовется «Бураном». Известно одно: это верные боевые друзья, вот уже много месяцев идущие той же военной дорогой, которой идет и его полк. И если они прошли здесь – наверное, где-то тут, рядом, должна быть и родная полковая указка… Да вот она!
На деревянной стреле, поверх зачеркнутой немецкой надписи, прочел: «Осипов», – и словно своих встретил.
Старый солдат Осипов был связным при штабе полка. Уже три года состоял он в этой должности и славился тем, что в любой, самой трудной обстановке всегда умел разыскать кого надо и доставить приказ или донесение. Вот почему для обозначения на указке и была избрана фамилия Осипова, известная в полку каждому, но ничего не говорящая постороннему.
От перекрестка Гурьев вскоре добрался до окраины. На целый квартал здесь тянулись унылые кирпичные казармы. Чуть ли не перед каждой возвышались чугунные, бронзовые, мраморные монументы. Гурьев хотя и поторапливался, но не в силах был равнодушно пройти мимо: всякие достопримечательности были его страстью, и он любил поподробнее рассказывать о них ученикам. Он стал внимательно рассматривать один монумент за другим.
Зарябило в глазах от величественных, воинственных, сентиментальных поз, от генералов в боевых шлемах, коней с развевающимися гривами, гениев и ангелов, от корон, орлов, щитов, крестов, знамен, лавров, многословных надписей. Прищуря близорукие глаза, разглядывал всё это великолепие, размышлял: «Если по монументам судить – очень пышная история у королевства получается… Конечно, были славные дела. Против турок румыны за свою свободу воевали. Но монументы – не в память этого. Поставлены затем, чтобы деревенские парни, пригнанные в эти казармы и переодетые в мундиры из грубого сукна и нелепые двурогие шапки, не помышляли о том, как поскорее отслужить срок и вернуться на свое кукурузное поле, а прониклись бы убеждением, что они, потомки римлян и даков, должны завоевать соседние земли и создать «Romania mare» – «Великую Румынию».
Подошел поближе рассмотреть один из монументов, изображавший мощных форм женщину в короне, в латах и с мечом. Чуть пониже надписи, которую Гурьев всю, к сожалению, не смог разобрать, стояла марка фирмы: «Ганс Хартнер. Берлин». «Вот откуда эти идеи в чугуне!»
У монумента «Romania mare» – так он и назывался – был отбит осколком нос, отчего чугунное лицо воинственной дамы приобрело растерянное выражение. На пьедестале белели крупные, наспех написанные мелом буквы: «Осипов – прямо!» «Наши! – порадовался Гурьев. – Совсем недавно здесь прошли».
На противоположной стороне улицы, возле большого красивого дома, толпились люди. Гурьев свернул туда. Сразу понял – комендант находится здесь; возле дома суетились какие-то личности с красными и белыми нарукавными повязками с надписями на русском языке. Надписи были странные: «коммерсант», «священнослужитель», «коммунист», «почтовый демократ» и даже совсем невразумительная – «компартии полицай».
В комендатуре Гурьев уточнил, где искать то и дело передвигающийся вперед штаб армии (там ему следовало сдать госпитальное направление и получить предписание в полк), и поспешил к контрольно-пропускному пункту.
Первая же остановленная регулировщиком машина шла туда, куда Гурьеву было нужно. Грузовик был полон чернявыми, нерусского обличья, солдатами с автоматами советского образца, но в какой-то ещё невиданной Гурьевым форме: пилотки с большой медной кокардой, узкие матерчатые погончики, трехцветный знак на рукаве.
Солдаты предупредительно потеснились, освобождая место офицеру; взревел мотор, машина рванула с места. Ветер засвистел в уши.
С любопытством разглядывая своих попутчиков, Гурьев спросил у сержанта с аккуратно подстриженными черными усиками:
– Что за часть?
– Романия, дивизия «Тудор Владимиреску»!
Гурьев уже слышал: есть такая дивизия, сформированная в Советском Союзе из добровольцев – солдат, сдавшихся в плен, и названная именем румынского народного героя.
– Давно в наступлении? – поинтересовался он.
– С двадцать третьего августа, когда Романия на немца оружие повернула. – Оказывается, сержант неплохо говорил по-русски: успел научиться в Советском Союзе.
Один из солдат в кузове машины то и дело привскакивал, хлопал товарищей по плечам, указывал рукой куда-то в сторону.
– Он из этих мест, – объяснил Гурьеву сержант.
– Сколько же времени вы родины не видали?
– С начала войны. Наш путь домой начался от Сталинграда. Там мы сдались в плен: за что было погибать? А потом к нам приехал Траян… О, это настоящий сын Романии! – Глаза сержанта блеснули восторгом. – Он много боролся за правду. Сражался в Испании. Его бросали в казематы, терзали. Два раза был приговорен к смерти. Он – коммунист, наш Траян. И он сказал нам: «Берите в руки оружие, которое дает вам Советский Союз, и помогите ему изгнать врагов из нашей милой Романии». Траян всех зажег! Вот… – Сержант достал аккуратно сложенную газету и развернул её: – Здесь – товарищ Траян. А это – мы.
На первой странице газеты, издававшейся для военнопленных румын, был напечатан большой фотоснимок: седовласый человек с резко очерченным волевым лицом что-то говорит солдатам в форме дивизии «Тудор Владимиреску».
Сержант показал на фотоснимок:
– Траян провожает нас на фронт. Слева – я! – Он бережно свернул газету.
С удовольствием смотрел Гурьев на своих спутников: бодрые, боевые. Как поверить, что они из тех, что сдавались под Сталинградом?
Солдаты в машине весело переговаривались. Гурьев с трудом улавливал отдельные слова: румынского языка он изучить как следует не успел, хотя и пытался сделать это в госпитале. Но и так нетрудно догадаться, чему сейчас радуются солдаты. Наверное, беловато-золотистым кукурузным полям, пыльно-зеленым виноградникам, этой залитой солнцем степи, тянущейся до горизонта… Ветер родины овевает их лица. Они вернулись к ней не как вояки из бесславного похода, а как освободители…
Справа, над степью, проглянули в голубоватой дымке горы. Черноусый сержант, улыбаясь, показал на них Гурьеву:
– Трансильвания! Мой дом!
Машина выехала на широкую асфальтовую дорогу. Ветер сильнее забил в лицо. Замелькали мимо беленые дома и ограды встречных деревень, оранжевые бензиновые колонки, взорванные, с вздыбленными фермами, мосты через мутные пенистые речки – машина летела в обход, погромыхивая колесами по временным дощатым настилам. Промелькнул о бок дороги брошенный немцами аэродром – бетонные взлетные дорожки, полуразобранный самолет, железные бочки, валяющиеся на траве; показалась и через секунду осталась позади каруца[1]1
Повозка (рум.)
[Закрыть] с соломой, влекомая медлительными волами.
Вот машина останавливается, шофер выскакивает из кабины, спешит в сторону от дороги, к винограднику. За ним, прыгая из кузова, бегут остальные. Наспех срывают плотные, тяжелые кисти, покрытые налетом придорожной пыли, и, наполнив ими пилотки, торопятся обратно, роняя на ходу переспелые виноградины.
«– Наш… – смеется сержант, остановившись рядом с Гурьевым на краю дороги. – Три года не видал! Думал, вкус забуду…
А мимо бредут группами и в одиночку румыны в армейском обмундировании. Мундиры расстегнуты, на многих вместо форменных шапок – крестьянские соломенные шляпы, постолы вместо ботинок – верно, променяли на еду по дороге. Нет, не смог бы Гурьев раньше так спокойно смотреть на эти желтоватые мундиры… Правда, дом его цел, родные невредимы. Но разве и у него не отняла война многого? Оторвала от любимого дела, разлучила с Леной. Четвертый год он идет по фронтовым дорогам, и – надо твердо смотреть в глаза судьбе – кто знает – суждено ли ему вернуться? Однако вот в этих людях, устало бредущих по шоссе и приветливо кивающих ему, он не видит врагов. Нет, только радуется за них: по домам пошли!
Отходчив русский человек!
Вперемежку с солдатами идут крестьяне. Многие босиком, армяки домотканного сукна перекинуты через плечи, на спинах – тощие котомки.
Один из них, с черными щеками, давно небритыми, в рыжем армяке, в овчинной, колпаком, шапке и побелевших от дорожной пыли постолах, с пустым мешком за плечами, останавливается, подходит к сержанту и о чём-то робко просит, а когда тот утвердительно кивает головой, – садится на обочине, подальше от русского офицера. Сняв с плеч мешок, осторожно выбирает из него на ладонь какие-то желтые комочки и ест. Сержант, ловко выплевывая виноградные косточки, о чем-то спрашивает его.
– Ла каса, ла каса[2]2
Домой (рум.)
[Закрыть]! – весело твердит крестьянин. – Букарешти – армата рошие! – Улыбка освещает его загорелое лицо. – Разбой капут!
«Разбой? – Гурьев припомнил одно из немногих знакомых ему румынских слов. – Ах, да, разбой – это ведь война!»
– Романия маре, мамалыга таре, – усмехается сержант, наблюдая, как крестьянин тщательно подбирает губами с ладони крошки. – Поговорка такая, – оборачивается он к Гурьеву, вопросительно глянувшему на него. – Великая Румыния, а мамалыга скудная.
Но вот все забираются в кузов. Торопливо карабкается туда и крестьянин, несмело садится в углу.
– С весны их на окопные работы угнали, – объясняет Гурьеву сержант. – Теперь домой добираются. Что ж, подвезем земляка.
Снова несется навстречу машине, словно втягиваясь под ее колеса, серая полоса шоссе. Далеко справа, над золотом полей, все яснее видны горы, мягко синеющие под накаленным небом.
– Красиво! – невольно восклицает Гурьев, повернувшись к сержанту.
– О, да! – улыбается тот. – Романия – как Франция.
– А я свою родину ни с какой другой страной и сравнить не могу.
– О, Россия!.. – Сержант хочет сказать ещё что-то, но умолкает, прислушиваясь к песне, которую завели солдаты в машине. Как бывает в дороге, песня возникла сама собой. Она ещё чуть слышна – кто-то первым начал напевать её вполголоса. Но вот вступают новые голоса, крепнут крылья песни, и она взмывает, обгоняя тех, кто поет её:
Сы се сбучуме ка валул
Набила фуриэ…
Гурьев узнал знакомый мотив:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна…
«И в нашем полку эту песню любят… – колыхнулось в душе. – Где-то сейчас однополчане? Может, уже в Бухаресте? Сколько ещё идти нам, освобождая земли и народы? Столько, пожалуй, что подумай сейчас – и не поверится…» Слушал песню, и странный ему самому восторг всё сильнее полнил душу: «Какое счастье быть освободителем! Это тебе приветливо машут крестьяне и крестьянки с придорожного поля. Вот какая-то черноволосая девушка, заслышав быстролетную песню, подбежала от виноградника к обочине с полным фартуком, и вот в кузов машины летят тяжелые глянцевитые гроздья, солдаты со смехом ловят их, а черноволосая машет рукой и, смеясь, что-то кричит.
«Хорошо нести людям радость мира…» Представилось: так же летит навстречу широкая лента шоссе, такие же по сторонам поля и виноградники, но это уже не Румыния. Синеют впереди горы… Уж не Пиренеи ли? А смуглые, бойкие француженки бросают в машины бойцам гроздья винограда и приветливо машут вслед, весело крича что-то…