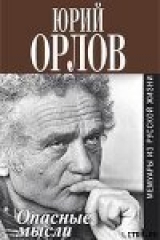
Текст книги "Опасные мысли"
Автор книги: Юрий Орлов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
АРМЕНИЯ
Две тысячи километров от Москвы до столицы Армении, три дня пути. Последний день дорога шла вдоль многорядных заграждений с заставами, вышками, пограничниками, за заграждениями лежали пустые поля, за полями опять колючие проволоки и опять, а позади всего этого виднелась Турция. «Заграждений там нету», – сказал я громко.
«Как нэту, как нэту!» – закричал гражданин, поспешно сваливаясь с третьей полки. Другой гражданин поспешно полез на эту полку, чтобы занять лежачее место.
«У них подзэмные заграждения, не понимаешь? Подзэмные! Тэбе что, наша граница не нравится, да?»
В Ереване я поселился в общежитии на пять человек в прекрасном зеленом дворике на берегу заросшего ущелья. Из пропасти доносился грохот реки Раздан; за турецкой границей высоко в синем небе в венце курчавых облаков сияла лысина Арарата. Это новое место в этом приятном, не стандартного почерка, городе мне нравилось. Но без семьи было одиноко. Нам бы нужно было всей семьей жить вместе, здесь в Ереване. Нужно-то нужно…
Армяне встретили меня радушно. Улыбаясь, люди подходили ко мне на улицах, говорили: «Мы вас знаем. Нравится Армения? Здесь вам плохого не сделают. Здесь все будет хорошо!»
Они еще смотрели на публичное выступление против власти, даже против мертвого Сталина, как на опаснейший трюк. Кто, в самом деле, знает, может, сталинизм развенчан лишь временно? Сталина армяне ненавидели.
После второй мировой войны он планировал окончательное решение армянского вопроса – не в варварском янычарском стиле, а в духе социалистического гуманизма. Армян было решено не убивать, как делали турки в 1915, животов им не вспарывать, а переселять в Сибирь. Техника массовых депортаций была отработана давно, и в одну ночь вывезли часть Эчмиадзинского района – выборочно, по списку. Эчмиадзин – религиозный центр армян, исповедующих григорианское христианство. Затем по неясным причинам этапы на время отложили; может быть, потому, что такие дела надо делать бесшумно, быстро, работать чисто, а чисто и быстро не получалось. Железная дорога в Закавказье – одна, а армян везде – много. Так или иначе, когда техник, фамилию которого я, к сожалению, забыл, вернулся из командировки очень довольный, что достал запчасти для колхозных тракторов, то в доме его никто не ждал, ни жена, ни дети. Соседей тоже не было. Милиция – была, но молчала. Намекнули, чтоб заглянул в КГБ. Заглянул. Ничего не знаем, говорят, но можем выяснить, подойдите еще разок. Подошел. Ваша семья выселена, говорят, по подозрению в шпионаже.
«Жена? Мать?? Малолетние дети??? Шпионы???? Не может быть!»
Это, говорят, органам видней, что может, а что не может быть. Вы что, решили с органами спорить?
«Нет, нет, Боже упаси! Только, что делать-то?»
«Сложное положение, – говорят. – Сочувствуем. Но помочь ничем не можем, поезд ушел».
И это была правда. Техника записали в шпионы перед депортацией, но так как его в ту ночь на месте не оказалось, то его из списков вычеркнули и заменили каким-то холостяком, ранее не шпионом, но тоже смыслившим в технике. А семью поезд увез.
Поломали-поломали голову вместе с местными чекистами, как выйти из положения, и придумали. Техник (армянин) написал признание в шпионаже (в пользу Турции), и оно поехало под конвоем, вместе с техником, вдогонку за родными. Чекисты, как и учила их партия, отнеслись к человеку с пониманием. Он воссоединился с семьей на одной из великих строек коммунизма. Дочек, правда, не застал в живых, умерли по дороге; но была бы жена! Жена, правда, тоже скоро скончалась. Техник выдюжил.
Эта история плотно укладывается в картину тех времен, рядовая история. Только техник кажется не рядовым, но узнав армян поближе, их привязанность к семьям, я понял, что и техник – рядовой.
В 1956 году, когда мне это рассказывали, времена были, конечно, уже совсем другие. Можно было жить без истерии и не бояться ареста просто потому, что для великих строек коммунизма требовались рабы; или потому, что твоя квартира, мебель и жена приглянулись соседу; или за то, что ты не сказал вовремя «Да здравствует товарищ Икс!»; или сказал, да не вовремя (когда Икса уже арестовали); или вообще неправильно выбрал отца с бабушкой, а выбрав, не отрекся от них публично. Тот, кого не укатывал этот сюрреалистский каток, никогда по-настоящему не поймет, каким громадным освобождением был для людей Хрущевский поворот к элементарной законности, ко все еще тоталитарному, но уже не копошащемуся в крови и блевотине обществу.
Нужно заметить, что, в отличие от Армении, в России не все одинаково ощущали освобождение. Если не считать советских интеллигентов, которые после двадцатого съезда почти все стали антисталинистами, – включая и тех, кто еще вчера писал стихи о великом вожде или громил врачей-отравителей, – если не считать их, то русские делились надвое: примерно половина была за Сталина из-за советской победы в войне. Кроме того, для многих в России социализм оставался магическим словом, идеей фикс; уже не пьянящей, но еще мечтой, оправдывающей все дела Сталина. В Армении же почти никто не придавал ультимативного значения никакой социальной идее вообще; все внимание было приковано к идее национальной. Социализм там или капитализм, это им было пока безразлично. «Вы, русские, устроили себе революцию – в семнадцатом, что ли, году? – так вы и расхлебывайте эту кашу».
Такая насмешливая оценка вполне соответствовала тому пониманию роли социальных идей, которое у меня начало складываться. Люди не рождаются одинаковыми, и их невозможно сделать таковыми; и так как интересы и ценностные шкалы различны, то не существует единой, приемлемой для всех социальной идеи. Всякая попытка насадить такую есть преступление против человеческой природы и потому рано или поздно потерпит крах. Здоровое общество нуждается во множестве идей, сколь угодно взаимно противоречивых. Каждому следует выбрать, что ему по душе. Возможно, с чьей-то точки зрения наши идеи покажутся ужасными – не это важно. ВАЖНО ТОЛЬКО, ЧТОБЫ НИКТО ИЗ НАС НЕ ПРИМЕНЯЛ НАСИЛИЯ ПРОТИВ ТЕХ, ЧЬИ ИДЕИ НАМ НЕ НРАВЯТСЯ. Нужно быть постоянно начеку, потому что, чем святее или научнее кажется нам наша идея, тем сильнее хочется нам применить насилие против еретиков и тем легче перерастает наше насилие в газовые камеры и в бесконечные тысячи могил с наваленными друг на друга трупами с дырочками от пуль в затылках.
«Что двигало Хрущевым? Зачем ему нужно было так разоблачить Сталина?» – спросил меня Алиханян в один из первых же разговоров. Мы сидели в его ереванской квартире. Прямо передо мной на стене висел портрет Нины Шостакович, физика, жены композитора, внезапно умершей на институтской станции космических лучей. Алиханян часто повторял, что не он украл жену у своего друга Дмитрия Шостаковича, а как раз наоборот, Шостакович увел подругу у Алиханяна в их студенческие годы. Через много лет она в конце концов вернулась к своей первой любви.
«Коммунисты устали от самопоедания, – ответил я. – Когда жрали других – крестьян, старую интеллигенцию – небось, не поперхнулись».
«Крестьян? Ах, да, коллективизация. О них, действительно, не вспоминают. Верно. Еще кофе?» Он немного посуетился за столом.
«Интересно. Вы смогли бы, Юра, в принципе, стать шпионом?»
«Шпионом? Не знаю. Если бы я был в чем-то страшно убежден… Было бы что-то вроде войны… И важно бы было что-то узнать… Нет. А что?»
«Просто интересно».
Он вначале подумал, что только агент КГБ мог позволить себе такую свободу речей.
А.И.Алиханян был беспризорником в гражданскую войну, пока его не подобрал на улицах Тифлиса один раввин. Армянский мальчик получил строгое еврейское воспитание; но в отличие от своего старшего брата, А.И.Алиханова, А.И.Алиханян[6]6
Так как братья были оба физиками, и оба АЛ, Алиханов немного изменил свою фамилию, чтобы можно было различить их в публикациях.
[Закрыть] был сущим Медичи. Лучшие художники, писатели и музыканты, большинство в трудных отношениях с властями, поклонялись ему как смелому меценату и выдающемуся ученому. Ученые же коллеги любили, главным образом, его близость к неофициальным художникам и ослепительные банкеты, которые он устраивал в честь людей, потенциально полезных ему и его институту. На деле он был и активный ученый, и отличный директор, безусловно антисталинист по взглядам, помогший нескольким физикам, попавшим в трудные положения; но в ответ он ожидал абсолютной лояльности к себе и мог быть очень опасен, когда полагал, что он ее не получил. Ходили слухи, что в сталинское время у него была собственная сеть шпионов для защиты себя и сотрудников от шпионов КГБ. И было бы совершенно в его характере, если бы он сохранил кое-что из того и в мои дни.
«Ваше счастье, что вы в Армении, Юра, – говорил он. – Не торопитесь в Москву, там на вас напишут сразу сто доносов».
Вероятно. Но письма мои вскрывали и в Армении. Пока я жил в общежитии, они посылались на институт, и Амалия, секретарша, выдавала их мне распечатанными. «Да вы не обращайте внимания, Юра, – говорил Алиханян. – Для Амалии посмотреть в замочную скважину – все равно, что для вас взять интеграл. Вам же не напишут ничего порнографического?» Никто не писал мне ничего «порнографического», и я сам не писал ничего опасного, мы все были учены еще со сталинских времен. Но было неприятно.
Амалия была мастерица на все руки, даже временно вела спецотдел, пока не прислали профессионального гебиста. Все мои численные расчеты по ускорителю я обязан был сдавать в конце рабочего дня ей, после чего они немедленно становились «секретными» и я уже не имел права взять их обратно, хотя бы и через час, так как у меня не было допуска к секретным работам. Поэтому я всегда держал копии своих «секретных» бумаг в своем письменном столе, иначе невозможно было бы работать. Проект ускорителя нужно было закончить к осени 1958 года, чтобы Совет Министров в Москве имел время утвердить его и внести в план следующей пятилетки. Я отвечал за теоретическую часть; со мной работали Семен Хейфец в Ереване и Евгений Тарасов в Москве. Через полтора года, к началу последней, самой лихорадочной стадии, Алиханян предоставил мне целиком свой кабинет, так что я мог писать свою часть проекта и спать там же на диване без всяких помех.
Мы успели с проектом. Рецензенты похвалили, отметив отдельно мою роль. Совет Министров утвердил. И я решил, что настал час добиваться, чтобы приняли к защите мою диссертацию, лежавшую без движения уже два года в Ереванском университете. Они бы и рады были принять ее к защите, объясняли мне, но не могут без указания сверху. Я сочинил агрессивное заявление на имя Алиханяна: «Прошу считать меня уволенным через две недели. Буду искать работу в любом другом месте, так как здесь не разрешают принимать к защите мою диссертацию, результаты которой я использовал в расчетах ускорителя». Алиханян, сам беспартийный, немедленно побежал в Центральный Комитет Коммунистической Партии Армении.
Все участники понимали нехитрый смысл игры. Они знали, что я знаю, что ни в каком другом месте мне защитить диссертацию не разрешат. Но им было ясно также, что я полон решимости уйти – в момент, когда проект ускорителя был принят на высшем уровне и нужда во мне была теперь даже больше, чем прежде. В октябре Армянский ЦК срочно согласовал этот вопрос с Москвой, и была спущена директива: пусть Орлов защищает свою диссертацию. Владимир Борисович Берестецкий немедленно прилетел из Москвы в качестве официального оппонента, и защита прошла без всяких задержек. Я загнал себя в угол.
Теперь, вместо того, чтобы вернуться к своей семье и к тем физическим проблемам, которые я когда-то надеялся разрешить, я был морально обязан оставаться в Ереване. Меня не покидало чувство, что я предал и себя, и семью.
В результате защиты повысилась зарплата и, кроме того, появилась приятная отдельная квартира, где меня могла навещать моя семья. И Галя, и я, мы по-прежнему боялись переезжать в Ереван навсегда, так что я продолжал жить отдельно, летая в Москву в командировки, а Дима и Саша приезжали иногда с Галей или домработницей ко мне в Ереван. Я брал своих умных, любознательных малышей в горы, на длинные прогулки в окрестностях станции космических лучей на горе Арагац, пятьдесят километров от Еревана. Мы бродили по альпийским лугам и там же пировали: хлеб, брынза, дикая вкусная зелень, надерганная на берегу и вымытая в газированной минеральной воде небольшого ручья.
После утверждения ускорительного проекта жить вообще стало легче. Хотя я теперь руководил группой и читал лекции в Ереванском университете, часто находилось время и на вечерние прогулки – вниз к Разданскому ущелью, сквозь заросли фруктовых деревьев, по берегам бурлящей реки, и, наконец, в тот сад, где раньше было институтское общежитие. Старый старик-сторож зарывал свой медный джезве в сковородку, наполненную раскаленным песком, и начинал наш обычный разговор: он рассказывал, я слушал. Давным-давно, молодым, он партизанил против турок, а потом против Красной армии, когда она вторглась в республику, управляемую до того дашнаками, националистами социал-демократического толка.
Сороковая годовщина этого события как раз наступила в 1960 году. На официальный праздник приехал сам Хрущев. Приехал и Алиханов. Еще раз он бросился в мою защиту – и счетчик КГБ, регистрирующий его грехи, сделал еще один щелчок. На приеме в честь Генерального Секретаря у президента Армянской академии Амбарцумяна Алиханов спросил Хрущева: «Никита Сергеевич! Не вернули бы мне в институт Орлова? Помните историю 56-го года? Он работает сейчас в Армении и хорошо работает».
«Слушайте, эту историю давно пора забыть!» – ответил Хрущев.
Слушали, кому надо. На следующее утро меня вызвали в спецотдел и без промедления выдали допуск к «секретным» работам. Я-то сперва подумал, что меня наградили в честь праздника, чтоб я хоть мог изучать в спецотделе свои собственные расчеты. Никто ничего не объяснил мне в тот момент. Алиханов сразу уехал в Москву, Хрущев продолжал свой визит. Алиханян позже мне этот визит описал.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА В АРМЕНИИ
После успешной экскурсии на знаменитый коньячный завод руководители Армении повезли Хрущева на знаменитое озеро Севан.
«Вот вы мне все уши прожужжали про это озеро… как его… Севан. Ваша будто… это… национальная гордость погибнет, гидростанции остановятся, форель подохнет, – говорил Хрущев вполне твердым языком. – А где она, эта ваша форель? Я ее что-то не видал!»
«Никита Сергеевич! Вчера ели!»
«Вчера. Откуда я знаю, откуда она? Может вы для меня форель из Америки выписали, ха-ха-ха-ха, вот, чтобы я вам этот ваш проект подмахнул. А? Из Америки?»
«Никита Сергеевич!»
«Что вы понимаете в рыбе? Я – вот таким мальцом – во таких щук – не, вот таких – на удочку ловил. На удочку! Вот вы мне удочку и давайте. А я разберусь, стоит эта ваша гордость чего-нибудь, или ни хрена не стоит». Из воздуха сотворились удочки, и Никита Сергеевич начал удить форель, как знаток дела.
(Прекрасное горное озеро в самом деле гибло. Через туннели, пробитые в скалах, его воды сбрасывали на гидростанции и преуспели опустить его уровень на десять-пятнадцать метров. Надо бы сократить расход воды и компенсировать недостачу энергии, закрыв энергоемкие производства, вроде завода каучука с его жутким оранжевым дымом над целым районом. Вместо этого возник проект громадной длины горного туннеля, направляющего в Севан воды реки Арпачай. Сумасшедший проект требовал сумасшедших всесоюзных миллионов, то есть высочайшей подписи. И не подскочи тут счастливая дата «освобождения Армении», о нем бы скоро забыли.)
Рыбка, между тем, у Хрущева не ловилась. В этом озере форель с берега плохо ловится. Терпение Генсека иссякало, светлые надежды горели на корню. Уж не в спасении озера была суть, награды и карьеры могли кануть на дно. Наступила та решительная минута, когда от одного шага зависел весь дальнейший ход истории. И шаг был сделан. Секретарь местного райкома спустил в воду водолаза с живыми форелями в авоське. Водолаз нацепил две на два крючка. Мог бы больше, да секретарь больше двух не велел. Форели Никите Сергеевичу попались большие. Ловля удалась на славу, и вся высокая компания поднялась в ресторан Ахтамар. Стол был завален форелями, но Никите Сергеевичу приготовили его собственных. Тут же за столом он подписал постановление о строительстве канала, и той же ночью республиканский «Коммунист» подготовил статью о замечательной новой стройке, символизирующей нерушимую дружбу народов СССР.
Через несколько лет после этих событий, когда Хрущев уже не работал в Кремле, а я все еще работал в Армении, тот районный секретарь пригласил меня на первомайские праздники посмотреть его Севанский район. Это было интересно, и я согласился. Он повозил меня по району: гидростанции, селекционная станция, форельное хозяйство и прочее. На следующее утро мы стояли на маленькой деревянной трибуне в центре города Севан и принимали демонстрацию представителей трудящихся. Я был никто, давно исключенный из партии физик, но демонстранты не знали этого и кричали ура нам обоим равномерно. Прошли мимо трибуны несколько неважно одетых работниц галантерейной, кажется, фабрики с транспарантом про коммунизм. Молча проехали на грузовике синие от холода, смотревшие волчатами пионеры из ближних деревень, в белых рубашечках и красных галстуках. Их привезли заранее и, продержав в кузове грузовика несколько часов направо от трибуны, за одну минуту перевезли налево. Это демонстрировали дети. А потом пошли представители по два, по три человека и, наконец, всего один, с лозунгом про партию.
«Кто это?», – спросил я.
«Водолаз».
«Тот самый?»
«Тот самый. Он у нас один».
«Может, поговорим с ним?»
«Конечно, теперь это не секрет».
Но водолаз мудро уклонился от воспоминаний о Хрущеве.
Конечно, в Хрущеве было много всякого, но в целом я испытываю к нему симпатию. Это был первый советский диктатор, не вовсе бесчувственный к людям. Он развенчал Сталина. Освободил из лагерей оставшихся в живых невинных. Решился покупать для советского народа хлеб на буржуазном Западе. Впервые за годы советской власти начал массовое строительство жилищ. Повысил пенсии городским пенсионерам, существовавшим на грани голодной смерти. Пробил маленькое окошко в железном занавесе. Не будем считать, чего он не сделал. Хрущев перестроил страну с режима тотального самоуничтожения в режим умеренно тоталитарный, в котором среднему гражданину можно было, по крайней мере, спокойно умереть в своей собственной постели.
Мое положение в институте быстро улучшалось. С 1961 я заведовал лабораторией, число научных публикаций перевалило за 50. Однако я устал от ускорительной физики, от жизни вдали от семьи. Когда я сказал Алиханяну, что хотел бы вернуться в Москву, старый Медичи злобно пригрозил, что перекроет мне все возможные пути! Справедливости ради укажем, что его институт еще отчаянно нуждался в помощи теоретика, ускоритель, который я рассчитывал, еще не был сооружен. Но я был в ловушке. Прошло уже пять лет, как я уехал в Ереван, пять лет разделенной семейной жизни…
На шестой год я ее разрушил совсем.
Она работала радиоинженером в том же алиханяновском институте. Живая, талантливая, играла на фортепьяно, в настольный теннис и ездила на мотоцикле. Ее прадед по матери был известный в прошлом веке литературовед Пыпин, а в боковых ветвях прародственников состоял Чернышевский, – что было важно, но не объясняло ничего. Мои ереванские друзья пытались образумить меня, и они были правы по существу. Лучше бы им быть правыми по форме. Председатель профкома, физик, собрал профсоюзное собрание для обсуждения недостойного поведения члена профсоюза Иры Лагуновой, моей подруги, разбивающей семью женатого человека. Он верил, что это спасет меня. С радостью и гневом собрание, конечно, «обсудило» и «осудило». Меня там не было: после 1956 года я вышел из профсоюза, не защитившего своего уволенного с работы члена. Собрание только укрепило мою решимость не покидать подвергнутую остракизму подругу.
На следующий год, глубоко оскорбленный грубой угрозой Алиханяна, я договорился с Будкером работать у него по совместительству на полставки в далеком Институте Ядерной Физики в Новосибирске. Вместе с Владимиром Байером мы сделали там работу по квантовой деполяризации электронов; там же я защитил свою докторскую диссертацию. Я летал из Сибири в Ереван и обратно, а в это время Ира, ожидавшая ребенка, жила в Новосибирске у ее родителей.
Будкер создал уникальный научный ансамбль. Все сотрудники, включая техников и рабочих, были специалистами высшего класса, подбираемыми Будкером самим. Он был мудр, как старый раввин, и даже выглядел теперь раввином, начавши отращивать бороду. После первой встречи с Ирой, он сказал мне с легким сожалением: «Юра, вы живете в режиме истерии». Но он предоставил нам, для нашей новой жизни, огромную (три комнаты) новую квартиру.
Наш брак не мог быть счастливым, даже после рождения Льва, названного так мною в честь Льва Толстого; может быть также – из заискивания перед памятью великого моралиста. Сознание вины перед двумя другими детьми, для которых все это было катастрофой, отравляло счастье.
Мои эгоистические надежды, что дети будут жить «на две семьи», обернулись, конечно, фантастикой: громом пораженная Галя запретила мне встречаться с ними. Скоро обнаружилось, что и с Ирой мы сильно расходимся в представлениях, как жить. Она была разочарована и через два года после Левиного рождения полюбила другого. Мы продолжали жить вместе, но я был в отчаянии. Решив предоставить дело случаю, я задумал взобраться на восточную вершину горы Арагац.
Миллионы лет назад Арагац был вулканом. Теперь от него оставались только три вершины высотой три с половиной – четыре тысячи метров, окружающие полкилометровой глубины кратер, в котором иногда, как в адском котле, клубился и крутился, как смерч, облачный пар. В октябре мог неожиданно выпасть снег, и тогда взобраться туда трудно. Я приехал на станцию космических лучей утром, днем бродил по лабораториям, вышел засветло и еще до темноты дошел до подножия вершины. Ночь спустилась внезапно. Камни, руки, ноги, все исчезло, вместе с охотой взбираться. Я, однако, карабкался, то обходя на ощупь отвесные стены, то проползая на животе через валуны. Наконец, меж камней я наткнулся на мягкую травянистую ложбинку и тут же рухнул в изнеможении. Надо мной светилось великое небо. Я заснул, а когда проснулся, было прекрасное горное утро, над горизонтом висело огромное, яркомалиновое облако. Чувствуя себя круглым дураком, я пошел обратно.
Вскоре после этого я испытал судьбу вторично, пройдя по краешку моста через Раздан позади барьера. Когда же, через несколько недель, наконец, совсем успокоился, то попал под грузовик.
Я занимался всю ночь, а утром оказалось, что нужно было срочно появиться на ученом совете. Еще полусонный, я бежал на автобус, когда, подняв глаза, увидел грузовик, летевший прямо на меня. Последнее, что осталось в памяти, было чувство сожаления.
Очнулся на сиденьи рядом с шофером. Соображалось тяжело. Глаза залиты кровью. Где это мы едем? Виноградники… Очнулся еще раз. Камни… Не теряй сознания! Куда едем?
«Поворачивай назад», – сказал я шоферу. Тот не ответил, даже головы не повернул. – «Поворачивай!» Опять без ответа. Машина неслась неизвестно куда.
«Поворачивай, ттвою мать!»
Не глядя на меня, шофер повернул руль и покатил обратно в город. Затормозил у ближайшей поликлиники, я вывалился из кабины, он развернулся, исчез, подбежали санитарки…
Через шесть лет не очень получившейся совместной жизни мы с Ирою, наконец, разошлись. Еще за год до того я помог ей переехать в Москву, в которую она всегда хотела. По предложению Алиханова и Померанчука ученый совет ИТЭФ единогласно избрал меня старшим научным сотрудником в отдел Померанчука. Понималось, что я должен был часть времени уделять, как и прежде, ереванскому ускорителю. Решение ученого совета дало мне право обменять ереванскую квартиру на московскую и получить снова московскую прописку. Но, как раз, когда такую прописку выдали, и Алиханов на этом основании получил возможность оформить меня на работу, – некий сотрудник Военно-промышленного комитета (о самом существовании которого рядовому гражданину знать не положено) пригласил меня на беседу. Фамилия его была Бурлаков.
«Мы поможем вам перейти в любой институт, хотите, даже в Серпухов, пойдет? Но ИТЭФ мы заблокируем. ИТЭФ для вас, как вы, физики, любите выражаться, особая точка».
«Почему?»
«Почему? Скажу прямо: там сейчас нездоровая морально-политическая обстановка».
Я сходил к Померанчуку. «Вам не повредит прием меня на работу?» «Меня выбрали в академики, – ответил он. – Мне теперь нечего бояться». Алиханов, между тем, отдал приказ о зачислении на работу. Если я приму должность, он, конечно, будет твердо стоять на своем… Однако теперь, после разговора с чиновником Военно-промышленного комитета, я понимал, что принять это было бы чудовищным эгоизмом. КГБ открыто точил ножи на Алиханова, отказавшегося уволить Александра Кронрода. Кронрод, блестящий организатор математического отдела и вычислительного центра, работал бок о бок с Алихановым десятки лет. Он подписал письмо в Министерство здравоохранения в защиту математика Александра Есенина-Вольпина, нормального человека и героического диссидента, посаженного в психушку. Алиханову дали указание уволить Кронрода. Алиханов отказался. В институте организовали тогда большое собрание, чтобы «обсудить» профессиональные качества руководителя матотдела, а одного из замов директора – члена партии – обязали-таки подписать приказ об увольнении. Почти все математики покинули институт в знак протеста.
Подумавши обо всем этом, я приволокся обратно в Армению – помогать запускать ускоритель. Ира со Львом переселились в Москву. В Ереване институт выделил мне временно небольшую квартиру. Алиханов скоро получил инсульт и уже «по причине плохого здоровья» был переведен из директоров в заведующие лабораторией. На его место поставили члена партии, физика из Дубны, И.В.Чувило.
За десять лет медленного строительства Ереванский синхротрон безнадежно устарел. Ускоритель не конфетная фабрика. Тем не менее, нужно было запустить его; как предполагалось начальством – к 7 ноября 1967 года, пятидесятой годовщине Октябрьской революции. К этой круглой дате ожидались ордена, медали, повышения и большие премии, поэтому было очень полезно представить крупные достижения. Меня-то, ввиду моей антипартийности, никакие награды не ожидали (хотя ученый совет института и представил меня к ордену Ленина); но проблема запуска сильно волновала меня. Как только машина была собрана, мы ее быстро запустили. Я был доволен, счастлив и, наконец-то, свободен от моих моральных обязательств перед Алиханяном.
Раздавали пряники. Орден Ленина, высшую награду, получил замдиректора Сергей Есин, очень толковый инженер и до идиотизма ортодоксальный ленинец. «Орден Ленина – священная награда для меня, – заявил он. – Я бы не смог жить, если бы мне доказали, что ленинизм ошибочен». Со мной связался секретарь ЦК КПСС Армении по идеологии. «Если вы подадите, прямо сейчас, заявление в партию, – сказал он, – то мы договоримся с Москвой не только, чтобы Вас приняли, но и чтобы Вам восстановили стаж за все двенадцать лет после 1956 года. Не теряйте момента!» Это было доброе и даже смелое предложение, но вне моей системы отсчета.
Из любопытства – что думают разные люди о такой смехотворной чести – я провел опрос общественного мнения: «Нужно ли мне соглашаться на предложение снова вступить в партию?» Все отвечали «Да».
В Москве я спросил о том же Алиханова, уже не директора ИТЭФ.
«А зачем вам это надо?» – спросил он.
«Да решительно ни за чем. Люди говорят, что мне после этого разрешили бы ездить в научные командировки за границу».
«Я бы не полез в это говно даже ради заграничных командировок», – отрезал Алиханов. Это было именно то, что я хотел услышать от Абрама Исаковича.
Я не полез в это говно.








