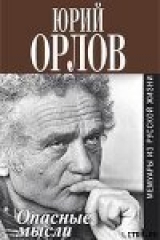
Текст книги "Опасные мысли"
Автор книги: Юрий Орлов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ТОПТУНЫ
Не было свободы печати. Редкая семья имела домашний телефон. И отчаявшиеся люди ехали со всех огромных просторов страны в Москву, находили диссидентов и просили о помощи. Мы были их последней надеждой, могли, по крайней мере, рассказать миру о нарушениях прав человека. И мы их защищали, правых и левых, монархистов и троцкистов, верующих и атеистов, независимо от их идей, если только они не призывали к насилию. Нас было каких-то несколько десятков, и приходилось вести лихорадочную, сумасшедшую жизнь: поездки по стране на политические суды, составление протестов и воззваний, сбор и выпуск правозащитных новостей, самиздат. Летом 1974 ко мне стали приходить даже письма из бытовых лагерей с просьбами о помощи; я передавал их знакомому адвокату-профессионалу. Дважды просили присутствовать на судах общины пятидесятников.
Христианские фундаменталисты-пацифисты, пятидесятники терпели от властей всегда и везде, даже на далеком Дальнем Востоке. К ним врывались на молитвенные собрания, у них конфисковывали религиозную литературу, их молодежь шла в лагеря за отказы от службы в армии. Первый суд, на котором я присутствовал, был гражданским и проходил в индустриальном городе недалеко от Москвы. Второй раз это было «уголовное» дело епископа Ивана Федотова, рабочего, обвиненного в организации нелегального съезда пятидесятников под видом собственной свадьбы. Он пригласил на свадьбу не только единоверцев, но и друзей-рабочих, и соседей, – следствие интерпретировало это как «ширму». Все свидетели, кроме милиции, отрицали версию «съезда», – прокурор, войдя постепенно в экстаз, как это бывает с прокурорами, требовал пять лет строгого режима. Он называл это гуманным решением, и был прав: при Хрущеве, когда советские журналисты и «деятели искусств» изображали баптистов и пятидесятников фанатиками-изуверами, пресвитер Иван Федотов отсидел не пять, а полных десять лет,
Прервав заключительную речь прокурора, я громким голосом произнес, что никаких доказательств у суда нет. Изумленное правосудие раскрыло по-рыбьи рот, судья промямлил: «Вы не можете решать за суд», – прокурор затем продолжал свою речь, но уже без экстаза. Когда через несколько часов зачитывали приговор, версии «съезда» там не появилось. Федотов получил два года усиленного режима за два антисоветских высказывания: «Фашисты!» – когда отряд милиции ворвался к нему в дом среди ночи в надежде захватить молитвенное собрание, и «Ваша политика противоречит Ленинскому декрету!» – когда комиссия при райисполкоме проводила с ним воспитательно-профилактическую беседу. Как говорят советские люди, «Привлечен, значит, осужден».
В ту же осень мы вместе с Татьяной Сергеевной Ходорович летали в Ереван на суд над Паруйром Айрикяном, основателем подпольной Армянской национальной партии (к которой мы относились, правда, с некоторой настороженностью). Татьяна Ходорович, лингвист, женщина строгая и решительная, была одним из бесстрашных редакторов знаменитой самиздатовской «Хроники текущих событий», в которой публиковалась подробная и аккуратная информация о нарушениях прав человека; она выходила годами, несмотря на неистовые усилия КГБ остановить ее. Таня это делала вместе с биологом Сергеем Ковалевым и математиком Татьяной Великановой.
В Ереване я настоял, как член-корр Армянской Академии наук, чтобы нас с Татьяной пропустили в зал суда. (Когда пройти туда же попыталась невеста Паруйра Лена Сиротенко, ее просто арестовали и сунули в КПЗ.) Стойкость Айрикяна вызывала изумление. Со студенческих дней он переходил из тюрьмы в лагерь, из лагеря в тюрьму, и обратно, и теперь его снова судили за «антисоветскую агитацию и пропаганду» на основе писем, писанных из лагеря и конфискованных лагерной цензурой. Получалось, что он агитировал цензоров, но прокурора это не смущало, он требовал десять лет особого режима и четыре года ссылки.
Перед зачтением приговора я вошел в совещательную комнату, где «решалось» его дело. Вместе с судьей и заседателями там сидел прокурор! «Это нарушение закона», – заметил я. Они смотрели на меня молча. – «На каком основании вы требуете такой срок? Его письма не дошли до адресатов. И что в письмах? Ничего!» Я вышел.
Началось чтение приговора.
«…приговаривается к…» Мать Паруйра упала.
Натренированная публика не шелохнулась, судья замолк, охрана схватила Айрикяна, гебисты и прокурор бросились к матери, стали разжимать ей сжатый рот, употребляя столовый нож, и, поломав пять зубов, в этих действиях преуспели.
«… приговаривается к семи годам исправительно-трудовой колонии строгого режима… трем годам ссылки».
Вечером мы приехали к Айрикянам. Мать лежала на постели с счастливым заплаканным лицом. Ее сын не погибнет.
Пока мы были в Ереване, КГБ исполнял захватывающие пируэты. Что черные «волги», набитые армянскими чекистами, следовали не по пятам, а рядом – мы по асфальту, а они сбоку по мостовой, – это было тривиально. Что они сидели в зале, когда я делал научный доклад в Физическом Институте, а затем дежурили под дверью кабинета, когда мы с моим старым другом Гариком обсуждали нашу общую научную статью, – это уж вовсе тривиально. Не тривиально было, что они перекрыли всю телефонную связь между Москвой и Ереваном, когда обнаружили, какую неприятную информацию передавала в Москву Татьяна Ходорович. «Связь с Москвой не исправна», – отвечали целый день телефонные операторы. Я бы не поверил, что КГБ способен принимать столь простые, дорогие и эффективные решения, если бы не аналогичный случай с Таней Плющ, (Житниковой), которая пыталась провезти из Киева в Москву особо шокирующую информацию об издевательствах над ее мужем Леонидом в СПБ, Специальной Психиатрической «больнице». На железнодорожном вокзале билетов на Москву не было. Тане показалось это подозрительным, и она прошлась по всем кассам, опрашивая кассирш. И одна, наконец, призналась: «Есть, есть билеты! Но нам их только что запретили продавать». Таня кинулась на автобусную станцию. Билеты имелись, но на первой же остановке украинские гебисты сняли ее с автобуса и вернули в Киев.
Но какой же смысл – перекрывать информацию на время, зная, что она все равно просочится позже?
А на всякий случай. Запоздалая информация не столь опасна. И потом, может завтра мы, КГБ, арестуем носителя информации, вот и не просочится.
Почему же не арестовали сразу?
А потому, что раньше не арестовывали. Вам смешно? Нам нет. Видите, новое дело еще только начато, не очень толстое. А обещает быть толстым. Нам нужны большие дела. Большое дело – больше по службе продвижение. Так что – подождем.
Хотя диссиденты были все едины в борьбе с режимом, у нас не было согласия в том, «что делать?» Никто из моих близких друзей не верил, как я, что политические реформы в этой стране могли бы начаться сверху под нашим давлением. Несомненно, что и Горбачев такой точки зрения тогда не разделял. 10 декабря 1975 года, в Международный день прав человека, я распространил мое обращение к режиму, в котором настаивал, что обладая неограниченным репрессивным аппаратом, власть могла бы без всякой боязни начать сверху проведение минимума реформ, в которых так нуждается страна. Я перечислил: всеобщая политическая амнистия; свобода передвижения граждан за границу, обратно, и внутри страны; возможность независимых издательств; создание законодательства о забастовках. Именно этот последний пункт был неприемлем для моих друзей. Так, Валентин Турчин и Андрей Сахаров указывали, что забастовки способны разрушить экономику. Я был согласен, но принимал во внимание, что у рабочих нет иного оружия для улучшения своей жизни. Поэтому забастовки, как я считал и считаю, есть нормальное явление здорового общества.
В конце декабря Сергей Ковалев, один из самых уважаемых диссидентов, был арестован…
Потом, в лагере, я буду вспоминать 1975-ый как мой последний счастливый и спокойный год. Дети были здоровы и часто заходили в гости. Я закончил три физических статьи, две из которых мои соавторы смогли опубликовать в советских журналах (третья застряла у Макарова-Землянского с сотоварищами.) Институт философии, не спросив КГБ, отправил мою первую статью по волновой логике на международную конференцию по методологии, логике, и философии науки в Канаде, и она была опубликована там в материалах конференции. У меня был стабильный режим работы, время было поделено поровну на науку, частное репетиторство и права человека. Меня не обыскивали, не допрашивали, не арестовывали. И вокруг – все еще десять топтунов. Черные «волги» с четырьмя чекистами, шофер пятый, еще не дежурили круглосуточно под нашими окнами. (Это начнется на следующий год – незаглушаемые моторы, визг тормозов, крики переговорников – круглые сутки, семь дней в неделю.) Топтуны гуляли туда, сюда, поперек и обратно по микрорайону. Ирина подходила, тыкала пальцем в живот, говорила: «Скажите вашему начальнику, чтобы вас заменили!» Агент молча уходил и больше не появлялся. Его действительно заменяли другим, но у всех у них печати на лбу, и Ирина подходила к другому, снова говорила: «Мы вас узнали». И этот тоже исчезал. Вполне возможно, что весь юридический факультет университета прошел у нас производственную практику.
Но, все-таки, – они еще не сопровождали нас в лес, в наши обычные воскресные прогулки за город, не сопровождали даже летом, даже когда мы посещали Брыксиных (и довольно часто) на их даче. Неутомимый Иван Емельянович постоянно улучшал что-нибудь вокруг дома, я помогал ему немножко. Пройдет еще полтора года и мы расстанемся навсегда: меня зимой арестует КГБ, а его летом убьют по дороге с дачи на станцию, и убийц – не разыщут… Но в этом 1975-ом все было тихо и мирно для нас обоих. И от Ани КГБ отстал.
А предыдущей осенью они вызывали ее на Кузнецкий 24, в один из их домов. Разговор шел о ее путешествии вместе с отцом и Солженицыным к брату Ивана Емельяновича в Тамбовскую деревню. Солженицын хотел записать народный говор. Братова семья обрадовалась гостям необычайно и Солженицына не испугалась. Самогон ставился на стол не то, что каждый день, а каждый час, Ане с отцом приходилось пить за троих: Солженицын не пил. Так что Аня не могла решительно ничего вспомнить об этой поездке, забыла даже имена.
«Нам все известно о ваших отношениях с Солженицыны, – сказал тогда чекист. – Фотографии показать?»
Он полез в стол, глядя на нее рачьими глазами. Медленно открыл ящик и стал вытаскивать; вытащил – белый лист. Перевернул – опять бело.
«Слушайте! Хотите поехать за границу?»
Через несколько дней ей опять позвонили, приглашая снова на Кузнецкий 24.
«Мусор. Проигнорируй, – сказали мы ей на семейном совете. – Пусть шлют повестку. Ты обязана являться только по повестке».
Она проигнорировала, и они отстали. Это была у них проба.
Несмотря на все попытки КГБ остановить ее, Таня Плющ продолжала прорываться из Киева в Москву и передавать нам информацию о муже.
Леонид Плющ, киевский математик, член одной из самых ранних диссидентских организаций – Инициативной группы защиты прав человека в СССР, был брошен в СПБ в частности за то, что подписал обращение против злоупотребления психиатрией в политических целях. КГБ использовал специальные психбольницы для наказания активных и устрашения потенциальных диссидентов. Люди боялись их больше, чем лагерей: политических «пациентов» пытали мучительными нейролептиками, избивали руками санитаров-уголовников, помещали вместе с буйными. Единственным способом бороться с этим дьявольским изобретением медицины было – посылать информацию за рубеж. Борьбу начали за несколько лет до нас Владимир Буковский и Семен Глузман. К середине семидесятых диссиденты вцепились в эту проблему когтями и зубами.
Центральной фигурой для нас был генерал-майор Петр Григоренко, боевой ветеран Второй мировой войны. Он начал с критики партии в начале шестидесятых, а затем стал одним из ведущих правозащитников, убежденных сторонников плюрализма, противников насильственных и подпольных методов. В наказание и в назидание, лишив звания и генеральской пенсии, его дважды запирали в спецпсихушку. Под напором, однако, международного общественного мнения, опиравшегося на информацию, посылаемую его отважной женой Зиной Михайловной, а также, конечно, Сахаровым, Шафаревичем и другими диссидентами, генерал был освобожден из СПБ в июне 1974-го. Он вышел оттуда таким же страстным, добрым, благородным и внутренне совершенно свободным человеком.
Я сконцентрировал свои усилия на Плюще, присоединившись к Татьяне Ходорович; мы систематически давали интервью иностранным корреспондентам, писали обращения к международным союзам математиков, психиатров, юристов. Информация шла в основном от жены Плюща Тани, других к Плющу не допускали. Весной 1975-го мы с нею решили пробиться к главному советскому психиатру профессору Снежневскому прямо домой, в его огромные московские апартаменты. Он казался мне преступником не по своей воле; настоящим, матерым негодяем был, например, директор знаменитого института им. Сербского профессор Владимир Морозов, сотрудничавший с КГБ с молодых юных лет. К нему ходить было бы абсолютно беспредметно.
Увидев Таню Плющ, Снежневский понял, что это за визит, но отказываться было поздно. Я немедля приступил к делу.
«Мы просим Вас вмешаться в действия профессора Блохиной против Плюща в Днепропетровской тюремной спецбольнице. После каждой экспертизы она пишет все более и более ужасные протоколы. Он был помещен туда с Вашим диагнозом «вялотекущая шизофрения», а теперь у него, оказывается, «шизофрения параноидального типа».
Болезнь «вялотекущая шизофрения», некое среднее между нормой и болезнью, было изобретение профессора Снежневского.
«Ваш муж болен, – вежливо, но твердо произнес профессор, отвечая вместо меня Тане. – Прежде, чем поставить диагноз, мы вели за ним наблюдение».
«Да, но люди, наблюдавшие за ним, были уголовники», – возразил я.
Я-то имел в виду уголовников в прямом смысле. Перед первой экспертизой Плюща «наблюдали» не в больнице, а непосредственно в уголовной тюрьме; следовательно, кто же это делал, если не сокамерники-уголовники? Снежневский, однако, принял замечание на свой счет и слегка покраснел.
«У меня нет оснований сомневаться в квалификации днепропетровских врачей, – сказал он. – Они постоянно консультируются со мной».
«Вот как? – сказал я. – Это очень интересно. Я не знаю, читали ли ВЫ свой учебник психиатрии. Но я – читал. Там написано черным по белому, что Ваша вялотекущая шизофрения никогда не развивается в шизофрению параноидального типа!»
Он замолк. Таня с тоской и злобой осматривала седовласого «главного психиатра».
«Хорошо, скажите, – промолвил он, наконец, – разве было бы лучше, если бы Плюща отправили в лагерь?» – «Лучше!» Мы крикнули одновременно.
«Вы растоптали его человеческое достоинство, – с ненавистью заговорила Таня. – Вы обрекли его на бессрочные – бессрочные! – мучения, вместо семи лет лагерей. И какие мучения! Он распух от инъекций. Ему вкалывают трифтазин, от боли можно сойти с ума. Его запирают вместе с буйными. Вы!..»
Он встал. Мы встали тоже.
«Когда будете докладывать, кому Вам надо докладывать, – сказал я, – будьте добры, объясните, что психиатрические репрессии подрывают престиж государства». Снежневский побледнел. – «Вы снова оскорбляете!» Мы вышли.
«Он чуть не откусил вам ухо», – сказала Таня. На моем суде в 1978 я потребовал вызова Снежневского в качестве свидетеля, чтобы он мог повторить этот разговор. Ведь пять моих обращений в защиту Плюща вменялись мне как клевета на советский общественный и государственный строй. Снежневский отказался, сославшись на командировку, в которую его, якобы, послали в первый же день суда надо мной.
Решающим ударом в защиту Плюща был грандиозный митинг в Париже, организованный «левыми без иллюзий», не коммунистами, осенью 1975-го. Я продиктовал свою речь по телефону. Французские коммунисты вначале отказались участвовать, но затем осознали, что совершили тактическую ошибку. Жорж Марше, их генеральный секретарь, поговорил о Плюще с Брежневым, и сразу после этого, в процессе все большего и большего углубления шизофрении, Плющ внезапно выздоровел и в январе 1976-го был депортирован вместе с семьей за границу, в Париж.
В то лето я написал «Возможен ли социализм не тоталитарного типа?» – по существу, более глубокое развитие идей «Тринадцати вопросов» и даже кое-чего из речи 1956 года в ИТЭФ. В этом эссе я предупреждал западных левых о потенциальной опасности централизованной плановой экономики: если в каких-либо критических обстоятельствах понадобится временно и централизация политической власти, то возникшая таким образом комбинация политической и экономической централизации может породить необратимую супертоталитарную систему, – ловушку, вырваться из которой будет почти невозможно. Для тех же, кому все же нравилась идея социализма, я предложил промежуточную схему, социалистическую по форме, капиталистическую по содержанию. Крупные средства производства могут оставаться в руках государства, но, чтобы существовали нужные стимулы, руководители производства должны быть полностью свободны в своих действиях, как если бы они были частными владельцами; их зарплаты должны зависеть от их прибыли. При этом и рабочие должны обладать всеми демократическими правами: независимые профсоюзы, неконтролируемые газеты, право на забастовки. В таких условиях в этом обществе «частной инициативы без частной собственности», как я его назвал, будет автоматически развиваться давление в сторону все более полной демократизации.
Предварительный вариант этой самиздатской статьи я раздал друзьям для критики. Первым читателем был Андрей Амальрик. Ему статья понравилась, но ему нравилось все, что я делал, – может быть потому, что мне нравилось все, что делал он. В своем самом знаменитом и самом элегантном эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984» он предсказывал скорый развал советской системы – и не слишком ошибался. КГБ его ненавидел: за независимость, за быстроту ума, за холодную ненависть к режиму, закутанную в облако шуток и издевок. Он только что вернулся из ссылки, а до того был в лагере, а еще раньше – в ссылке же. В Москве жить ему было запрещено. Можно было, правда, гостить у жены – трое суток по закону. Милиции полюбилось, однако, подымать его с постели уже в середине третьей ночи и запирать в вонявшую блевотиной КПЗ, пристанище уголовников и бездомных. Наконец, Андрей и Гюзель нашли нелегальную квартиру недалеко от нас и исчезли, выходя из тайника подышать свежим воздухом только по ночам. Мы с Ириной пробирались к ним на приемы, замысловато петляя между домами и деревьями. Из укрытия Амальрики вышли в 1976-ом, когда голландское правительство добилось для них разрешения эмигрировать в Голландию.
Среди прочих подготовок к отъезду Андрей стал брать уроки английского языка. Анатолий Щаранский давал их у меня на дому; нам был нужен английский. Толе – официально зарегистрированный источник дохода.
В декабре 1975 года десятки диссидентов из Москвы, Ленинграда, Прибалтики поехали в Вильнюс, место суда над Сергеем Ковалевым, арестованным год назад за редактирование Хроники текущих событий. (Он был также и членом Амнистии и членом Инициативной группы защиты прав человека.) Его судили теперь по статье «антисоветская агитация и пропаганда». Сахаров был тоже в Вильнюсе, а Елена Боннэр зачитывала в это время его Нобелевскую речь в Осло. Только жене и сыну Сергея позволили присутствовать в зале суда, да и то было удивительно. Суд объявили «открытым для публики», но, как обычно на процессах известных диссидентов, в особых автобусах привозили особую «публику», а затем объявляли, что свободных мест нет. И как обычно, мы собирались по вечерам на квартирах местных диссидентов и протоколировали судебные заседания со слов родных; официальные протоколы были де-факто засекречены, а кроме того, не содержали почти ничего общего с реальным процессом. Днем же собирались около суда, окруженные тайными агентами и явными чинами КГБ, спорили с милицией около дверей, подписывали обращения и петиции, собирали деньги, обсуждали события, волновались, пытались увидеть подсудимого, махнуть ему рукой и кричали «Сережа! Сережа!», когда появлялся обшитый жестью «черный ворон», в котором может быть, мы точно не знали, увозили Сергея Ковалева. И бежали за машиной, и кричали: «Сережа!» – пока «ворон» не исчезал, чтобы душевно поддержать заключенного товарища.
Никто из интеллектуалов, имевших устойчивое положение внутри системы, не выступил открыто в защиту Сергея. То не был у них только страх. «Там наверху – безусловно мафия», – объяснял мне в то время физик Игорь Кобзарев. «Но я за них, потому что этих… – он показал на улицу, – боюсь еще больше». Это была популярная теория. Интеллигенция одновременно и симпатизировала диссидентам и боялась, что их пропаганда против властей разбудит темные инстинкты толпы. Однако, самоубийственным было именно то, что делали, вернее, не делали интеллектуалы: не давили на власть имущих, на систему изнутри, требуя быстрых демократических реформ. Именно при отсутствии реформ следовало ожидать взрыва темных инстинктов. Я написал частные письма-предупреждения в этом духе нескольким академикам старшего поколения, В.Л. Гинзбургу, Н.Н. Боголюбову и другим, прося использовать все свое влияние для освобождения Плюща и Ковалева. Я пытался убедить, что необходимо помогать нам толкать правительство в сторону демократизации и гуманизации режима до того, как это станет слишком поздно. (Андрею Дмитриевичу текст очень понравился. Но никто из адресатов мне не ответил.)
В один из четвергов марта 1976-го, когда я беседовал с гениальной кошкой Амальрика, а Ирина варила картошку для участников моего домашнего научного семинара, проводимого раз в две недели, Толя Щаранский приехал с предложением. «Давайте, – сказал он, – обратимся к европейцам, пусть они организуют у себя общественные комиссии по проверке выполнения правозащитных статей Заключительного Акта Хельсинкской конференции по безопасности и сотрудничеству, который был подписан Советским Союзом. Если они сделают это, и это станет нормой на Западе, то через какое-то время и мы сможем создать такую же комиссию, не опасаясь больших преследований».
С тех самых пор, как 1 августа 1975-го были подписаны эти Хельсинкские соглашения, многие из нас, диссидентов, а также религиозные активисты и даже политические заключенные Мордовских лагерей ссылались на них в своих обращениях к Западу по поводу нарушений прав человека в СССР.
Втроем было недолго доработать принесенный Толей текст обращения. Мы сговорились собрать несколько подписей московских интеллигентов. Подписей, однако, мы не собрали. Стимул был утерян. Непохоже было, чтобы на Западе нас услышали, а даже и услышав, – раскачались.
Но я понимал очень хорошо, как важны для Советского Союза Хельсинкские соглашения: они фактически заменяли мирный договор и закрепляли послевоенные границы в Европе – выгодные Советскому блоку – в обмен на определенные обязательства, включая обязательства по правам человека. (Позже я развил эту идею в Документе группы номер 10.) Соглашения формально перевели права человека из сферы добрых пожеланий и «наших внутренних дел» в сферу конкретной международной политики, хотя на деле советский режим этого не признавал, а Запад пока что не использовал. Простые обращения к западной общественности не помогут, думал я. Нужно создать нашу собственную комиссию, которая будет посылать заинтересованным правительствам экспертные документы о нарушениях советскими властями подписанных ими международных обязательств.
Итак, я решил перевернуть идею Щаранского, начав с другого конца. После этого я еще месяца два обсуждал идею образования группы с Людмилой Алексеевой, Александром Гинзбургом, Ларисой Богораз, Виталием Рубиным и Щаранским и составил проект краткой декларации. В ней заявлялось, что документы группы будут передаваться главам правительств, подписавших Хельсинкские соглашения, и предлагалось образовывать на Западе аналогичные общественные группы – для наблюдения за соблюдением прав человека в их странах. Я назвал группу «Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР».
Оставалось подобрать окончательный состав. Я пригласил Татьяну Ходорович. Она категорически отказалась.
«Вся эта затея с Хельсинкским актом – советская и идет на пользу лишь этому режиму! Ваше название особенно безобразно. Кому вы собираетесь содействовать? Содействие этим соглашениям означает содействие советскому режиму. Нет, я не участвую».
«Я с вами не согласен, – возразил я. – Это политические соглашения, в этом их недостаток, но в этом же их достоинства. Политические рычаги можно использовать для защиты прав человека».
«Вот это-то и скверно, что вы играете в политику. Вы их не переиграете. Они переиграют вас».
Как и Андрей Дмитриевич Сахаров в то время, Татьяна Ходорович считала, что советскую систему в обозримую эпоху изменить невозможно; и это было, вероятно, еще одной причиной, почему она в своей собственной правозащитной деятельности отказывалась от какой бы то ни было политической тактики.
Примерно в тех же словах мне дала поворот от ворот и Мальва Ланда, геолог, горячая защитница прав человека.
«Группа содействия! – кипятилась она. – Содействия – властям?»
Она смотрела на меня с сожалением.
«Дорогая Мальва, – отвечал я. – Не в названии же дело. Дело в том, кто руководит группой».
Она посмотрела на меня как-то оценочно и отошла. Наконец, группа была почти сформирована. Это была комбинация асов, ветеранов движения, и новых диссидентов: Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Александр Гинзбург, Александр Корчак, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий Щаранский. Марченко был в сибирской ссылке и узнал о группе от Ларисы Богораз, своей жены. Мы никогда не встречались. Я только писал заявления в защиту Марченко да читал в «тамиздате» его книгу о лагерной жизни «Мои показания». У автора не было большого формального образования, много лет было загублено в лагерях, и тем не менее эта его первая книга была шедевром. Очевидное сочетание чистоты, мужества и ума вызывали глубокую симпатию, у меня всегда было такое чувство, будто я знал Марченко лично. Иметь в своих рядах такого человека было для нас честью.
Я не спешил с объявлением о группе, так как окончательный текст декларации был обсужден еще не со всеми членами. Но 12 мая 1976-го в моем почтовом ящике обнаружилась повестка – явиться в районный КГБ в 11 часов утра. Никаких писаных законов, регулирующих взаимные отношения КГБ и гражданина, не существовало, поэтому я ничего не нарушил, проигнорировав повестку.
В час дня к моему дому подкатил газик, и пара стандартных юношей направилась к моему балкону, где я стоял, наблюдая.
«Юрий Федорович».
«Сожалею, но – занят».
«Ничего. Вот повесточка на попозже, на 4.00. Не опоздайте. Адрес на ней найдете».
Я взял бумажку, иначе бы они забрали меня тут же.
Юноши укатили.
Итак, в КГБ узнали о моих планах и начали их блокировать. Надо было объявлять о группе немедленно! – до того, как раскрутится их машина. К счастью, у меня в гостях сидел Миша Бернштам, человек быстрый. Следовало объехать всех, с кем договорились, – согласны ли они на немедленное объявление их имен в составе группы? Мы условились с Мишей подъехать к десяти тридцати вечера на квартиру Сахарова.
К десяти тридцати мы не успели найти только Щаранского. Все подтвердили свое согласие и, кроме того, к группе присоединился генерал Григоренко. Дав Андрею Дмитриевичу текст нашей декларации, я спросил, не согласится ли он стать во главе нашей группы.
«Юра, у меня скорее отрицательный опыт с организациями. В группу я не войду. Но документ очень серьезный. Я поддерживаю».
Я не настаивал; сказать правду, мне подумалось, что организация дела у меня получится лучше.
«Я войду в группу», – сказала Елена Георгиевна и тут же села перепечатывать декларацию, с именами участников, их адресами и телефонами, если таковые имелись. Андрей Дмитриевич позвонил корреспонденту английской газеты; как только тот приехал, я зачитал ему вслух текст декларации.
Зачитав имена членов, я отдал декларацию корреспонденту. Пробило полночь.
Я вернулся домой в час. Утром КГБ заберет меня, и тогда корреспонденты уделят все свое внимание аресту, а не более важной новости о создании группы. Им надо дать два или три спокойных дня, чтобы сообщали только о группе. Значит…
Я оделся потеплее. Ирина потушила свет. Квартира прослушивалась, мы инсценировали укладывание спать. Затем Ирина открыла окно, я вылез первым. Густые кусты и деревья скрывали нас, пока мы проходили вдоль стены. Она поцеловала меня, и я исчез. Меня не было два дня.








