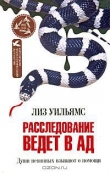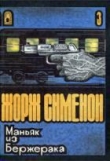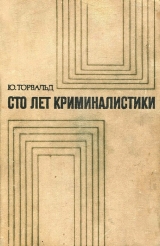
Текст книги "Сто лет криминалистики"
Автор книги: Юрген Торвальд
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 41 страниц)
Еще во много раз сложней была проблема способности крови трупа к свертыванию. В результате медленной смерти после длительной болезни в трупе находили как жидкую, так и свернувшуюся кровь. При мгновенной смерти, то есть при насильственной смерти, в трупе находили, как правило, жидкую кровь. Бруардель писал в 1897 году, что кровь повешенных свертывалась в первый час после смерти, а потом снова становилась жидкой. Об этом одно время забыли, но после второй мировой войны снова открыли упомянутое обстоятельство и начали исследование многих, еще более запутанных подробностей этого явления. Немецкие ученые Шлайер, Берг, Клайн и русские ученые Юдин, Багдасаров и Гуляев обнаружили много новых фактов. С середины 30-х годов XX века в Советском Союзе исследования крови приняли очень широкий размах. Ученые научились использовать для переливания кровь трупов. Эти переливания проходили очень успешно.
Выяснилось, что кровь у скоропостижно скончавшихся действительно в большинстве случаев на протяжении более или менее короткого времени свертывается, а затем снова становится жидкой. Во всяком случае, кровь трупа менее подвержена свертыванию, чем кровь живого человека. Но не удавалось установить закономерность этих процессов во времени. Разжижение свернувшейся крови трупа могло произойти, согласно наблюдениям советских ученых, за тридцать минут, но в некоторых случаях также и через три дня. Свертываемость или несвертываемость крови, по всей вероятности, зависела от того, в какой части тела находилась кровь. На них также влияли многочисленные физические и биологические процессы, которые происходили до, во время и после смерти и происходили по-разному в каждом случае смерти. Было не понятно, почему в случае быстро наступившей смерти кровь сердца не свертывалась, а при медленной смерти – свертывалась. Существовало много трактовок этого явления; предполагали, что предотвращает свертывание крови избыток углекислоты, а, например, в случае удушения кровь не свертывается от недостатка кислорода или, возможно, некоторые химико-биологические процессы при внезапной смерти сразу не прекращались, в то время как при медленной смерти они прекращались еще до ее наступления. Если немец Клайн путем ряда опытов ограничил время, в течение которого кровь после смерти свертывается, двумя часами, то, согласно данным советских ученых, кровь сохраняет способность к свертыванию пять, шесть и больше дней. Скорее всего, оба вывода правильны, потому что исследования проводились в разных условиях. Немец Шлайер нашел, что периферийная кровь, то есть кровь внешних частей тела, имеет совершенно разные фазы способности к свертыванию. Из своих наблюдений он сделал вывод, что в случае быстрой смерти кровь, хотя и имела способность свертываться, но не свертывалась, а оставалась жидкой. В противоположность ему немец Берг считал доказанным, что кровь сначала свертывается, а потом снова становится жидкой. Все это были предварительные выводы. Судебные медики и серологи искали пути разгадки тайны процесса свертывания крови.
В те времена, когда Кэмпс и Холден задавались вопросом, можно ли построить обвинение Хьюма на основании теории о свертывании крови, многое из перечисленного выше еще не было известно. Оба знали, однако, о работах англичанина Макфэрлена 1946–1948 годов и о результатах исследований советских ученых. Они также проверяли на практике все, что узнавали из опубликованных работ. Все они единодушно доказывали, что кровь быстро умершего человека оставалась жидкой или снова становилась жидкой. Все это позволяло Хьюму найти объяснение, почему в его квартире оказалась кровь Сетти. И хотя многие исследования говорили о том, что кровь трупа сохраняла способность к свертыванию лишь в первые после смерти часы, что было бы доказательством вины Хьюма – а Кэмпс и Холден в его вине не сомневались, – все же они понимали, что с этим аргументом нет смысла выступать в суде. Каждый опытный защитник использует отсутствие окончательного решения этого вопроса и опровергнет утверждения судебных медиков.
18, 19 и 20 января 1950 года Христмас Хамфрис выступал в качестве обвинителя Дональда Хьюма перед первым судом в Олд-Бейли. Он обвинял Хьюма в том, что тот убил Стэнли Сетти вечером 4 октября или в ночь на 5 октября в своей квартире, расчленил труп, упаковал его части и сбросил их с самолета в канал 5 и 6 октября. «Благодаря пышным черным волосам и круглому свежему лицу Хьюм казался моложе своих тридцати лет, – так описывал обвиняемого английский журналист Джон Уильямс. – И хотя холодное выражение его глаз в эти дни было смягчено, зато рот и линии густых бровей свидетельствовали о его жестокости и твердости». Ждать долго не пришлось, чтобы Хьюм продемонстрировал, как он тверд и какой обладает фантазией. На протяжении трех дней Хамфрис вызывал своих свидетелей, начиная со сторожа аэродрома в Элстри, миссис Страйд и кончая различными представителями Варрен-стрит, которые отрицали существование каких-то Мака, Гри и Роя. Но главным козырем обвинения, без сомнения, было появление в суде Фрэнсиса Кэмпса и Генри Холдена и их исследования обнаруженных следов крови. Это была абсолютная неожиданность. «Хьюм сидел на скамье подсудимых, – писал Джон Уильямс, – положив руки на перила. Он был собранным, как всегда, но чувствовалось его внутреннее напряжение. Это было триумфом обвинения…» Но напряжение обвинителя было ничуть не меньше. Он буквально чувствовал на себе тяжесть решающего момента. Удастся ли Хьюму так изобразить все события, чтобы обнаруженные следы крови нашли свое объяснение, а он сам при этом остался бы в стороне от убийства Сетти?
Хамфрису, Кэмпсу и Холдену не пришлось долго ждать, чтобы с захватывающим волнением и разочарованием убедиться, что Хьюму этот трюк удался. Когда защитник Леви попросил его объяснить все, он повторил сначала всю историю вплоть до вечера 5 октября, когда Мак, Гри и Рой принесли большой сверток в его квартиру, в помещение для угля. До этого места он ничего не изменил в своих показаниях, но только до этого места.
«Что вы сделали со свертком, – спросил защитник. – Что с ним вы сделали, когда ушли эти люди?»
«Я пошел в помещение для угля, – ответил Хьюм, – чтобы переставить сверток к стенке. Когда я его поднял, послышался какой-то булькающий звук, и я увидел на полу лужу крови».
Хамфрис на мгновение закрыл глаза, затем подался весь вперед, чтобы не упустить ни слова, не пропустить в показаниях Хьюма ничего, за что можно было бы зацепиться. Спокойно и хладнокровно Хьюм рассказывал, что в этот момент его охватил ужас. Он нашел кровь также в гостиной, где сначала находился сверток, и стер ее. На следующее утро он попытался убрать сверток из дома и понес его сначала к кухонному столу, а затем в столовую. При этом сверток развязался, и на пол хлынула кровь, которая протекла даже в коридор. Он вытер кругом кровь, перевязал груз и завернул его в одеяло. Затем снова замыл везде следы крови. Лишь потом появился рабочий гаража, чтобы циклевать пол, и он попросил помочь донести груз до машины. Затем шла известная уже история поездки на аэродром в Саузенд.
Хамфрис чувствовал трезво рассчитанную ложь. Взволнованно он пытался перекрестным допросом запутать Хьюма в противоречиях. Напрасно. Он использовал единственный пробел в рассказе Хьюма: как могла попасть кровь на ковер, в гостиной. Но Хьюма нельзя было ничем смутить. Равнодушно он заявил, что сам этого не может понять. Разве нельзя и в других квартирах на коврах найти следы крови, происхождение которых никто не может объяснить? Насколько ему известно, не было даже установлено, человеческая ли это кровь. Во всяком случае, ни Кэмпс, ни Холден ничего подобного не доказали. С каждым словом Хьюма в Хамфрисе росло убеждение, что он лжет. Но он не мог опровергнуть эту ложь, Кэмпс и Холден ничем не могли ему помочь. Кончив перекрестный допрос, Хамфрис понял, что проиграл. Все, что было потом, уже не играло большой роли. Адвокат представил нескольких свидетелей из Парижа, которые знали Мака, Роя и Гри. Не очень важным было также утверждение Дональда Тьера, выступавшего свидетелем защиты, что невозможно распилить кости пилой так, чтобы не привлечь внимание соседей. Все это второстепенные вещи. Решающим было, как выразился один корреспондент, что «единственное доказательство, кровь убитого, не могло внести ясность в дело».
На шестой день суда, 23 января, присяжные удалились на совещание. Когда они вернулись в зал, один из них заявил, что они не могут прийти к единодушному решению. Голос говорившего свидетельствовал о его убеждении в том, что Хьюм виновен, но его просто не удалось уличить во лжи. Хамфрис потребовал создания нового состава суда, но в иной исход дела уже не верил. Однако он все же решил не дать Хьюму возможности уйти от ответственности. Использовав его показания о том, что из свертка лилась кровь, он обвинил его в соучастии по устранению трупа, то есть в содействии сокрытию убийства. На вопрос, считает ли он себя виновным в содействии сокрытию убийства, Хьюму пришлось ответить – «да, считает». Судья Зеллерс осудил его на 12 лет каторги. На следующий день Хьюма отправили в Дартмур.
«Вся Англия, – писал позднее корреспондент газеты «Санди пикториель» Виктор Симс, – чувствовала, что Хьюм лгал ради спасения своей головы». Раздавались голоса, признававшие, что Кэмпс и Холден смогли бы доказать вину Хьюма, если бы наука предоставила в их распоряжение более надежную точку опоры. Были минуты, когда Кэмпс с большой горечью говорил об ограниченных возможностях судебной медицины после ста лет ее развития. Особенно ярко эта мысль прозвучала в его реферате от 23 ноября 1950 года, с которым он выступил в Лондонском обществе судебных медиков и где он говорил о деле Хьюма. При всей объективности ученого чувствовались его убежденность в виновности Хьюма и признание собственной беспомощности. В заключение он сказал: «Вопрос о том, кто убил Сетти, так и остался темой для размышлений». Он и не подозревал в тот момент, что пройдет лишь несколько лет – и одно из циничнейших признаний в истории криминалистики еще раз поставит в центре внимания дело Сетти и ответит на вопрос, кто был его убийцей.
1 февраля 1958 года Хьюм был досрочно освобожден из Дартмура. Спустя четыре месяца, 1 июня 1958 года, английская воскресная газета «Санди пикториель» вышла с заголовком: «Сенсационное признание Дональда Хьюма. «Я убил Сетти и избежал смертной казни!» В это было трудно поверить, но это было так. Не желая вести трудовую жизнь, руководимый цинизмом и жаждой наживы, Хьюм продал газете за 2000 фунтов стерлингов истинную историю убийства Стэнли Сетти. Он хорошо знал, что ни один английский суд не будет судить его за преступление, которое уже разбиралось в суде.
Признание Хьюма, подвергшееся перед опубликованием тщательной проверке, подтвердило точную картину хода преступления, как ее представляли себе следователи в результате судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. После крушения всех послевоенных коммерческих дел Хьюм стал компаньоном Сетти в его темных операциях. Он воровал автомашины, вывозил оружие за границу. Сетти ему хорошо платил, но смотрел на него как на ублюдка, на хвастливого лжеца. К 1949 году ненависть Хьюма к своему высокомерному работодателю достигла предела. Когда вечером 4 октября 1949 года Сетти тайком посетил Хьюма, чтобы дать ему новое поручение, они поссорились. В бешенстве Хьюм схватил кинжал и всадил его в Сетти. Сетти не успел защититься и рухнул на ковер. Здесь Хьюм добил его. Все произошло в течение нескольких минут. Даже занавески на окнах не были опущены. Затем Хьюм потащил тяжелый труп через коридор в столовую, а оттуда в кухню и, наконец, в помещение для угля, куда его жена из-за страха перед мышами никогда не входила. При этом на пол и ковер в гостиной пролилось много крови. Хьюм тщательно вытер всю кровь и попытался отчистить ковер, но это ему не удалось. Затем он вытер все предметы, которых мог касаться Сетти, и таким образом ликвидировал его отпечатки пальцев. После вышел на улицу, сел в «Ситроен» Сетти и отогнал его в Кембридж Терраса Ньюз. Там он оставил машину, взял такси, проехал часть пути, вышел и пешком вернулся домой. Никто не видел, как он вернулся домой. Ночью при помощи кухонного ножа и старой пилы Хьюм отделил голову и ноги от трупа Сетти. Занятие это отняло меньше времени, чем он предполагал. Голову он упаковал в пустую консервную банку фабрики Хайнц, ноги – в коробку, торс и руки сначала обернул войлоком, потом одеялом.
Когда в полдень следующего дня появилась домработница миссис Страйд, работа Хьюма была уже давно завершена. Кухня и помещение для угля были тщательно убраны, ковер сдан в чистку и крашение, а пол было приказано проциклевать. Ни из пакетов, ни из свертка кровь не просочилась. Так как у него было мало времени, труп он выбросил с самолета не очень далеко, до канала. Только эта его ошибка привела к тому, что труп всплыл у берегов Эссекса. Три недели до его ареста Хьюм использовал для проведения работ по дальнейшей очистке квартиры. Наконец он решил, что устранил абсолютно все следы убийства. Лишь когда были опубликованы номера банкнот Сетти, Хьюм понял, что ему не удастся избежать ареста. Тогда он стал придумывать свою первую версию – историю с Маком, Гри и Роем. Обнаружение следов крови было для него ужасной неожиданностью. Но это заставило придумать продолжение. «А разве оно мне не удалось?» – спрашивал он.
Ко времени опубликования беспримерно циничного признания Хьюм уже покинул Англию. Он появился в Цюрихе, выдавая себя за канадского летчика Бирда. В 1959 году его поймали при налете на банк, где он ранил кассира и застрелил шофера такси. Суд приговорил его к пожизненному заключению.
Признание Хьюма в июне 1958 года было запоздалым оправданием для Хамфриса, Бевериджа и его сотрудников. Для Кэмпса и Холдена оно имело тоже большое значение, так как показало, что их исследования и выводы были правильными.
24. Судебная медицина мира
В 1840 году один из первых судебно-медицинских журналов «Хенкес цайтшрифт фюр ди штаатсарцнайкунде» опубликовал список лиц, посвятивших себя судебной медицине. Он включал двадцать два имени; то были французы, немцы, итальянцы, австрийцы и шотландцы. Все они жили в Европе, в центре научного мира тех лет. Спустя сто лет, на пороге второй половины XX столетия, многие судебно-медицинские журналы публиковали новые списки, в которых они пытались перечислить институты судебной медицины и судебных медиков мира. Им это уже не удавалось сделать. Их списки состояли из тысяч имен, и мир не ограничивался больше Европой, а охватывал всю Землю. Пусть страны, где зародилась судебная медицина, все еще проводили большую часть всех исследований и практических работ, пусть Париж, Лион, Лилль, Берлин, Лейпциг, Мюнхен, Гейдельберг, Кёльн, Эрланген, Гамбург, Вена, Грац, Инсбрук, Милан, Рим, Неаполь, Палермо, Эдинбург, Глазго считаются международными центрами научной работы судебной медицины, все же они только часть большой армии судебных медиков. За последнее время даже в Европе появилось много новых научных центров судебной медицины, которые подчас отличались более современными взглядами и оборудованием. Они находятся в Цюрихе, Базеле, Берне и Женеве, а также в Брюсселе, Льеже, в Мадриде, Валенсии, Барселоне, в Афинах, Любляне, а также в Бухаресте, Будапеште, Кракове, Лодзи. Они имеются в Хельсинки, Копенгагене, Осло и Стокгольме, в Москве и Ленинграде, Лондоне и Лидсе. Истинное распространение судебной медицины станет понятным лишь тогда, когда бросишь взгляд на другие континенты, на институты судебной медицины в Тегеране, Пекине, Шанхае, Токио, Фудзияме, Хиросиме, Хоккайдо, Осаке, Нагасаки, в Брисбене в Австралии и в Окленде в Новой Зеландии, в Маниле на Филиппинах, Каире и Йоханнесбурге в Африке. Пришлось бы заглянуть также в Южную Америку от Буэнос-Айреса до Ла-Платы в Аргентине, в Монтевидео в Уругвае, в Сантьяго в Чили, в Каракас в Венесуэле, в Боготу в Колумбии, в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти и Санта-Катарину в Бразилии.
Наш взгляд проследовал бы в Квебек и Монреаль в Канаде и, наконец, в Бостон, Кливленд, Нью-Йорк, Балтимор, Сан-Франциско и Лос-Анджелес в Соединенных Штатах Америки.
Но до сих пор именно США составляют исключение. Ровно тридцать лет после смерти Чарлза Норриса продолжалась борьба между медицинскими инспекторами и коронерами, между признанием значения судебной медицины для криминалистики и представлением, что любой врач может выполнять криминалистические экспертизы. Только семь американских штатов переняли тысячи раз проверенную систему судебных инспекторов Нью-Йорка. Только пять штатов отменили выборность коронеров и четыре ввели закон, что коронером может быть только медик. В преобладающей же части страны лицо судебной медицины представляют коронеры.
Еще в 1950 году из 70 коронеров в Висконсине 33 являлись хозяевами похоронных бюро, то есть так же, как и в годы «десятилетия бесправия». И все же коронеры уже были не те, что раньше. Растущее влияние последователей Норриса заставило провести некоторые реформы системы коронеров. Некоторые коронеры стали настоящими судебными медиками. Например, Генри Туркель владел судебной медициной не хуже судебных медиков Старого Света. То же можно сказать о коронере Лос-Анджелеса, как и о Консалесе или Хельперне в Нью-Йорке, которые читали лекции студентам-медикам. Сюда следует отнести также таких бывших коронеров из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, как Ньюбарр, Мирс или Карр, которые основали преподавание судебной медицины в университетах Калифорнии. Аллан Мориц, основавший Институт судебной медицины при Гарвардском университете, преподавал судебную патологию в университете Кливленда вместе с коронером С. Гербером. Рихард Форд продолжил дело Морица в Гарварде и ежемесячно собирал в Бостоне полицейских со всей страны, чтобы продемонстрировать им значение судебной медицины. Такие же цели преследовали Рассел Фишер в Балтиморе и Тео Курфи на Лонг-Ислэнд. Они знали, что страна не будет копировать развитие судебной медицины Старого Света, а пойдет своим путем. С присущим этой стране оптимизмом они верили, что судебная медицина США рано или поздно внесет свой вклад в судебную медицину мира, как это случилось с общей медициной Америки, вклад которой во всемирную медицину увеличивается из года в год.
Нет сомнения, за сто лет судебная медицина стала всемирной наукой. Но это только одна сторона вопроса. Есть и другая сторона: с самого своего зарождения она научилась бороться и изменяться. На протяжении целой эпохи судебная медицина боролась, чтобы доказать своей «матери» – медицине, что у нее другое содержание и другие цели: стать мостом между медициной, с одной стороны, и юстицией, криминалистикой – с другой. В следующую эпоху она не без успеха объединила в себе все знания медицины, естествознания и, наконец, также техники, которые были ей необходимы для решения задач, поставленных криминалистикой, исследовала и развила их. Но к середине столетия она оказалась перед новыми требованиями криминалистики, которые не шли ни в какое сравнение с тем, что было когда-либо известно. Криминалистика требовала таких широких познаний в медицине, естествознании и технике, что, казалось, это требование разорвет рамки судебной медицины. То, что вызвало к жизни такие дела, как дело Дженни Дональд или Хьюма, – применение различнейших методов расследования с привлечением разных дисциплин, – принесло также и разочарование от несовершенства знаний, осветило современную картину состояния судебной медицины. Судебная медицина все больше стремилась к координации действий различных наук в интересах криминалистики, как этого хотел в 1934 году Сидней Смит. Правильный путь избрал датчанин Кнут Санд, который создал при Институте судебной медицины в Копенгагене «большой судебно-медицинский совет», куда входили специалисты всех отраслей медицины и естествознания. Этот совет собирался под председательством Санда каждый раз, когда возникала трудная криминалистическая проблема.
III. «Раскроите тайну яда!», или Триумфы и заблуждения судебной токсикологии
1. Начальные представления о токсикологии. Дело Марии Лафарг
В начале 1840 года мало кто знал имя двадцатилетней француженки Марии Лафарг. Но спустя несколько месяцев оно уже было на устах многих людей не только Парижа, Лондона, Берлина, Вены и Рима, но и Петербурга и Нью-Йорка. Мир узнал о ней, как об обвиняемой в отравлении своего мужа Шарля Лафарга.
Почему эта смерть в малоизвестной французской провинции Легландье всколыхнула весь мир? Может быть, из-за таинственной личности молодой женщины, которую Лафарг привез в Легландье из Парижа? Может быть, потому, что с давних времен к отравительницам окружающие относились, как к колдуньям? Скорее всего, причину надо искать только в том, что процесс над Марией Лафарг познакомил мир того времени с новой наукой – токсикологией. Впервые стало известно, что перед судом могут выступать врачи и химики, которые пытаются узнать тайну яда, приведшего к смерти. Новая наука, дитя бурно развивающейся общей химии, казалась такой же таинственной, как и смертельно опасный предмет ее исследований. Психологическое воздействие обстоятельств убийства и личность убийцы приковали все взоры к новой науке. И не удивительно, что именно токсикология стала центром внимания суда и всех споров, порожденных делом Марии Лафарг.
Но пора начать все по порядку. Шарль Лафарг был простоватым молодым человеком лет тридцати, сыном литейщика, который построил на территории бывшего монастыря свои плавильные печи и сумел нажить небольшой капитал. После смерти отца Шарль женился на дочери зажиточного человека, господина де Бофора, а ее приданое использовал для расширения мастерской. Вскоре его жена умерла. С 1839 года литейная мастерская не работала. Шарля притесняли кредиторы. Единственный выход из своего отчаянного положения он видел в новой женитьбе на богатой. И вот он поручил парижскому посреднику в брачных вопросах подыскать ему подходящую невесту. Методы сватовства, как и его суть, не отличались порядочностью. Лафарг выдавал себя за промышленника и владельца замка в провинции. В августе. 1839 года он установил связь с приемными родителями двадцатичетырехлетней сироты по имени Мария Капель.
Мария Фортюнэ Капель была дочерью бедного, но болезненно гордого и честолюбивого полковника, служившего когда-то при Наполеоне. После его смерти и смерти его жены приемные родители Марии, зажиточные, но далеко не богатые парижские буржуа, воспитывали девочку в лучших школах, где она встречалась с дочерьми аристократов и богачей. Унаследовав болезненную гордость и честолюбие своего отца, она изображала из себя дочь богатых и знатных родителей. После окончания школы она продолжала жить в выдуманном ею мире. А так как она была слишком некрасива и бедна, чтобы найти в Париже блестящую партию, то со всевозрастающим озлоблением наблюдала, как ее подружки выходили замуж за дворян и переезжали в замки. Незадолго до появления в Париже Шарля Лафарга она сопровождала свою школьную подругу в замок виконта де Лото, с которым та была обручена. Во время их пребывания в замке у невесты исчезли драгоценности, и виконт просил шефа Сюртэ, Аллара, произвести расследование. Аллар пришел к выводу, что воровкой могла быть только Мария Капель. Но виконту такое подозрение показалось невероятным, он удержал Аллара от ареста Марии и дал ей возможность уехать в Париж. Там приемные родители встретили ее известием, что нашелся богатый жених.
Когда Мария увидела Шарля Лафарга, он показался ей отвратительным. Но сообщения о том, что он владеет замком, было достаточно, чтобы она подавила свои истинные чувства. Без колебаний она дала согласие на немедленную свадьбу. И сразу же супружеская чета покинула Париж. Марию сопровождала ее служанка Клементина. По дороге в Легландье Мария мечтала о том, как она, наконец, станет хозяйкой замка и сможет принимать у себя своих подруг.
Разочарование было беспредельным: Легландье – это печальный ландшафт, грязные улицы, вместо замка – полуразрушенное здание монастыря, мрачное, сырое, грязное, запущенное, полное крыс, которые шныряли по комнатам среди бела дня. Новые родственники Марии, внушавшие ей отвращение своей бескультурностью, встретили парижанку с глубоким недоверием. Вместо ожидаемого богатства на нее обрушилась тяжесть долгов. В первую же ночь по прибытии в Легландье Мария заперлась с Клементиной в одной из жалких спален и написала своему мужу письмо, в котором она заклинала его немедленно дать ей развод. Если он на это не согласен, то она выпьет мышьяк. Письмо было результатом столкновения мира ее мечты с действительностью. Но со временем она, видимо, успокоилась. Лафарг был готов на все, только не на развод. Он обещал Марии восстановить дом, купить ей верховую лошадь и нанять слуг.
Вскоре Мария написала своим родным и подругам письма, которые могли бы вызвать удивление у каждого, кто знал истинное положение вещей. Она хвасталась счастьем, которое нашла в Легландье. Казалось, она смирилась со своей судьбой и продолжала играть в обман и самообман. Неожиданно она перевела на имя Лафарга часть своего небольшого капитала и написала рекомендательные письма, с которыми он поехал в Париж, чтобы собрать деньги для восстановления своего пришедшего в упадок хозяйства. Перед отъездом мужа в декабре 1839 года Мария неожиданной без видимых на то причин написала завещание на случай своей смерти, завещая все свое имущество мужу, и потребовала, чтобы он сделал то же самое. Лафарг исполнил ее просьбу, но втайне от нее одновременно написал второе завещание, в котором завещал свое имущество матери.
В то время как Шарль находился в Париже, она писала ему полные страстной любви письма. В знак любви она послала ему свой портрет, нарисованный молодой, проживавшей у них художницей Анной Брён. Наконец, она попросила свою свекровь испечь для Шарля новогодние праздничные пирожки, чтобы он не остался в Париже без домашних сладостей. В письме сообщила ему, что к Новому году он получит пироги и в знак их тесной дружбы она тоже будет есть такие же пироги.
18 декабря в отель «Универ» Шарлю Лафаргу прибыла посылка. Но в ней были не обещанные пирожки, испеченные матерью Лафарга, а один большой пирог. Лафарг не обратил на это внимания и съел кусок. Вскоре у него начались страшные боли в животе, рвота и понос. Целый день он пролежал в постели, чувствуя страшную слабость. Так как похожие на холеру явления холерины в те времена были повседневным явлением, Лафарг отказался от врача. Испорченный пирог он просто выбросил.
3 января Шарль возвратился домой, но чувствовал себя все еще слабым и больным. Собранные им 28 000 франков и мысль, что он сможет оплатить самые неотложные долги, заставили его забыть о всех своих недомоганиях. Мария встретила его сердечно, уложила в постель, угостила дичью и трюфелями. Тотчас после еды у него повторились все явления «парижской болезни». Его рвало, он корчился от боли в животе. Ночью вызвали домашнего врача Барду, который тоже нашел холеру. Врач ничего не заподозрил, когда Мария попросила его выписать ей рецепт на мышьяк, объяснив это тем, что яд ей нужен для уничтожения мышей.
На следующий день Лафаргу стало хуже. У него сводило ноги, мучила страшная жажда, но любые напитки, которые ему давали, вызывали рвоту. Все члены семьи и многие родственники собрались у кровати больного. Мария давала мужу лекарства и напитки. Особенно часто она давала ему лекарство гуммиарабикум, которое якобы сама принимала и носила всегда с собой в маленькой малахитовой коробочке. Но и теперь никто ничего не подозревал, хотя силы покидали Лафарга. 10 января вызвали другого врача, Масена. Он также нашел, что у больного холера, и для поддержания организма прописал давать молоко с яйцами. Когда Мария готовила напиток, художница Анна Брён заметила, что она положила в него порошок из малахитовой коробочки. Спросив Марию, какое это лекарство, она услышала в ответ, что это сахар. После того как больной выпил несколько глотков. Анна Брён взяла стакан и увидела белые хлопья какого-то вещества, плавающего на поверхности молока. Ей показалось странным, что сахар не растворился в молоке.
С чувством еще не осознанного подозрения она показала стакан с хлопьями доктору Барду. Тот положил их на язык и почувствовал что-то жгучее, но объяснил, что это, наверно, известка, упавшая в молоко с потолка. Это объяснение показалось Анне странным, и она спрятала стакан с молоком в шкаф. С этого момента она наблюдала за Марией, где только могла. Вскоре она заметила, что Мария снова добавила в суп, который сварила мать Лафарга, какой-то белый порошок. После первого же глотка больной воскликнул: «О Мария, чем ты меня кормишь? Суп жжет как огонь!» Анна Брён спрятала также остаток супа и, наконец, поделилась своими подозрениями с матерью Лафарга, его сестрами и кузиной Эммой, которая одна из всей семьи питала симпатию к Марии и даже восторгалась ею.
Вечером 12 января у старых стен Легландье бушевала буря. Выли волки. Дождь лил как из ведра. Очень трудно представить себе настроение, царившее в это время в старом доме, когда к опасениям за жизнь больного прибавилось подозрение, что он является жертвой собственной жены. Мать Лафарга сидела с его сестрами в комнате больного, а кузина Эмма побежала к Марии, чтобы сказать ей о невероятном подозрении. Подозрение возросло, когда слуга Лафарга Дени сообщил женщинам, что Мария посылала 5 января садовника Альфреда, а 8 января его самого в Люберсак к аптекарю Эссартье за мышьяком для борьбы с крысами. Альфреду она дала рецепт доктора Барду. Ему же удалось получить без рецепта 64 грана мышьяка. Яд он передал Марии. Мать Лафарга опустилась на колени перед постелью сына и, молясь, заклинала его ничего не есть из рук своей жены.
Единственной, кто среди страхов и сомнений, казалось, не потерял самообладания, была Мария Лафарг. С высоко поднятой головой она вошла в комнату больного и велела позвать садовника Альфреда. Он подтвердил, что Мария передала ему мышьяк, купленный им, и мышьяк, купленный Дени, для изготовления ядовитой пасты против мышей, что он и сделал. Подозрения утихли. Но когда сестра Лафарга, Амена, на следующий день в стакане с сахарной водой, приготовленной Марией, обнаружила осадок, подозрения вспыхнули с новой силой. В ночь на 14 января в Легландье прибыл третий врач – Леспинас. Описание симптомов болезни Лафарга убедило его, что больной отравлен мышьяком. Но было уже поздно, и спасти больного не удалось. На рассвете 14 января Шарль Лафарг скончался.