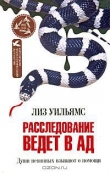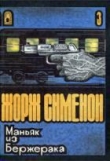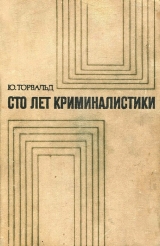
Текст книги "Сто лет криминалистики"
Автор книги: Юрген Торвальд
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
3 февраля 1927 года наступил решающий момент. Литлджон выступил главным свидетелем обвинения. Он плохо себя чувствовал. Но уже после первых его слов стало ясно, что он имеет силы для защиты своего мнения. Он подробно изложил, как проводились эксперименты и к каким выводам и результатам они привели.
Ачисон записывал каждое его слово. Перед ним лежали книги по судебной медицине, среди них альбом иллюстраций Литлджона «Судебная медицина» и книга Сиднея Смита «Судебная медицина и токсикология». Ачисон предварительно ознакомился с этой литературой, чтобы быть готовым к выступлению Бернарда Спилсбери.
Так он приступил к перекрестному допросу Литлджона. Он спросил, не Литлджон ли написал вступление к книге Сиднея Смита. «Да», – был ответ.
Литлджон одобряет это произведение?
Конечно.
И тогда защитник прочитал: «Эксперт должен иметь в виду, что патроны автоматического оружия наполнены бездымным порохом и что отсутствие следов ожога и копоти при выстрелах с близкого расстояния не исключает возможности самоубийства». Литлджону было нетрудно отразить эту атаку. Он предложил продолжить чтение. Там Сидней Смит как раз писал, что установлению истины может помочь только эксперимент с оружием и патронами, которыми произведен выстрел. Он и провел эксперимент, в ходе которого установил, что так называемый бездымный порох в патронах Мерретта оставляет отчетливые следы.
Тогда Ачисон заявил: «А как обстоит дело со следами бездымного пороха при мытье?» Литлджон не будет возражать, если он процитирует книгу «Судебная медицина», которую профессор Литлджон опубликовал в 1925 году? На стр. 120 Литлджон дает иллюстрацию входного пулевого отверстия при самоубийстве до и после расчистки раны. При этом он пишет: «Губкой можно смыть копоть от порохового дыма». Придерживается ли Литлджон и теперь того же мнения? Конечно, Литлджон не отказывается от своего утверждения. Он предложил и на этот раз продолжить чтение. Дальше сказано, что копоть смывается, но зато невозможно удалить вкрапления пороха, которые отчетливо видны на иллюстрации стр. 120.
Ачисон с ожесточением пытался добиться от Литлджона показаний, что следы могут быть уничтожены при кровотечении или каких-либо других обстоятельствах, но все было напрасно: Литлджон упорно стоял на своем. Наконец Ачисон оставил его в покое.
Глайстеру ничего не оставалось, как только подтвердить правоту Литлджона. Теперь все зависело от Спилсбери. Что он приготовил? Удастся ли ему убедить присяжных, как это случалось в многочисленных процессах в Англии?
7 февраля, после нескольких дней, которые ушли на разбор вопроса о растратах Дональдом Мерреттом денег матери, свидетелем выступил Спилсбери.
Пятидесятилетний Спилсбери привык считать себя непогрешимым человеком, которому присяжные верят безоговорочно. С 1922 года его знания и опыт обогатились еще пятью тысячами вскрытий. И все же 1925 год был годом его кризиса.
8 декабре 1924 года бесследно исчезла двадцатитрехлетняя лондонская стенографистка Элиза Камерон. Единственное, что о ней было известно, так это то, что она собиралась навестить своего жениха, некоего Нормана Торна. У Торна была небольшая птицеферма в Гровбору в Суссексе. Он утверждал, что не виделся с Элизой. Однако спустя несколько недель ее труп был найден закопанным на птицеферме. Ни головы, ни ног не нашли. Теперь Торн признался, что расчленил и похоронил труп Элизы. Элиза приехала к нему, чтобы принудить жениться на ней. А он отказывался. Элиза осталась в его комнатушке, в то время как он уехал к другой девушке. Вернувшись, он увидел, что Элиза повесилась на балке крыши. Испугавшись, что его обвинят в убийстве, он захоронил ее у себя на птицеферме.
Спилсбери обследовал останки и нашел многочисленные телесные повреждения. В районе шеи он обнаружил лишь естественные складки кожи, а не следы повешения. Ситуация была ему так ясна, что он не предпринял даже никаких микроскопических исследований. Он сделал заключение: девушка была избита и умерла от шока. Утверждение Торна, что девушка повесилась, – ложь. Кутис Беннет, защитник Торна, пригласил целый ряд других патологов. Среди них были Роберт Брантё, ирландец, долгое время работавший судебным патологом, а также Дэвид Наборро, патолог лондонского госпиталя на Грит-Ормонд-стрит.
В середине февраля Роберт Брантё и Дэвид Наборро еще раз исследовали эксгумированный труп Элизы Камерон, изготовили микроскопические препараты области шеи, исследовали их и заявили, что гистологические данные свидетельствуют о том, что имело место повешение. Они не оспаривали прижизненное происхождение прочих повреждений на теле Элизы Камерон и не отрицали, что эти повреждения могли явиться причиной ее смерти. Они считали, что девушка могла попытаться повеситься, чтобы вызвать у Торна угрызения совести. Торн мог обрезать веревку и потащить умирающую к кровати. При этом возникли повреждения на ее теле. Тогда Спилсбери тоже изготовил микроскопические препараты и заявил перед судом, что гистологические исследования бесполезно проводить на таком устаревшем материале. Он утверждал, что влажная почва могилы Элизы Камерон не оставила и следа крови в клетках кожи и что Брантё и Наборро приняли кожные железы за следы кровоизлияния.
Может быть, Спилсбери был прав. Он был знаком с изменениями в клетках ткани трупов, пролежавших многие месяцы под землей, в то время как опыт общих патологов опирался на вскрытия только что умерших людей. Мнение Спилсбери опиралось на специальные исследования, проводившиеся судебными патологами как раз в это время. Были изучены как повреждения, наносимые самими повешенными в борьбе со смертью, так и повреждения, причиняемые при неосторожном снятии повешенного. Подвергались изучению также следы, оставляемые на балках веревкой повешенного. На балках крыши в доме Торна подобных следов найти не удалось. Итак, упущением Спилсбери было лишь то, что, понадеявшись на свои визуальные заключения, он не провел гистологических исследований при первом обследовании трупа.
Судья в процессе Торна заявил присяжным: мнение Спилсбери более убедительное и его следует придерживаться. Присяжные признали Торна виновным, и он был казнен. Но еще раньше, чем это произошло, всеобщее преклонение перед авторитетом Спилсбери было поколеблено. Еще на суде защитник Торна крикнул судьям: «Разве не может быть других мнений, кроме мнения сэра Бернарда Спилсбери? Сколько трагических ошибок может совершить суд, полагаясь на мнение одного человека. Можно верить отдельному человеку, но это не гарантирует от ошибок».
Когда Спилсбери появился в Эдинбурге, он, несмотря ни на что, производил впечатление очень самоуверенного человека. Все взоры были устремлены на появившегося в суде в качестве свидетеля защиты Спилсбери, как всегда уверенного в себе, свежевыбритого, с неизменной гвоздикой в петлице.
Узнав об экспериментах, проведенных в Эдинбурге, он тоже поставил опыты. С этой целью он пригласил известного во всем мире оружейника Роберта Черчилля. Спилсбери начал: «Эксперименты проводились с автоматическим оружием, очень близким по типу к тому пистолету, из которого в данном случае был произведен выстрел. У нас было описание этого пистолета, и мы выбрали оружие, длина ствола и калибр которого полностью совпадают. Мы выбрали также наиболее похожие патроны».
Большинство присутствующих были так заворожены легендарным образом Спилсбери, что не заметили, как уже эти слова вступления сводили на нет все, что он может сказать дальше. Ведь примененное им для экспериментов оружие имело лишь приблизительное сходство с пистолетом Мерретта и уже поэтому было непригодным для сравнительного эксперимента. То же можно сказать и о патронах. Но кому это было известно? Все, затаив дыхание, слушали рассказ Спилсбери о его опытах, приведших к прямо противоположным результатам по сравнению с опытами Литлджона.
Спилсбери и Черчилль тоже сначала стреляли в бумагу, затем в человеческую кожу и в результате обнаружили незначительное оседание копоти и вкрапления пороха, которые легко смылись и стали незаметны для невооруженного глаза. Итак, Спилсбери считал, что кровотечения и обработки раны было достаточно, чтобы ликвидировать все следы. Те незначительные следы вокруг раны Берты Мерретт могли исчезнуть даже при транспортировке ее в больницу.
Спилсбери продолжал. Он проделал также опыты с пистолетом Мерретта в Эдинбурге, правда, патроны были те же, что и в Лондоне. Экспериментальные выстрелы производились только по бумаге, а не по коже человека.
Каждому внимательному слушателю должно было броситься в глаза, что, говоря об экспериментах в Эдинбурге, Спилсбери заметил, что следы копоти и пороха были более заметными, чем это имело место в Лондоне. Итак, использование оригинального оружия (без использования оригинальных патронов) уже привело к другим результатам.
И все же Спилсбери заключил, что разницы в легкости удаления следов в опытах, проведенных в Лондоне и Эдинбурге, нет.
На вопрос Ачисона: «Можете ли вы утверждать, что опыты в Эдинбурге подтвердили выводы, сделанные из опытов в Лондоне?» – последовал ответ: «Они не изменили моих выводов».
Прокурор заметил поверхностность экспериментов, проведенных Спилсбери. Путем перекрестного допроса он пытался доказать противоречивость его показаний и спросил Спилсбери, не считает ли тот, что подобные эксперименты следует проводить только тем оружием и теми патронами, которыми совершено преступление. Ответ был утвердительным.
Прокурор напомнил, что эксперименты Спилсбери на коже человека проводились в Лондоне другим оружием и патронами, в то время как Литлджон проделал их с оружием и патронами Мерретта. Спилсбери подтвердил правоту утверждения. Тогда прокурор спросил, не правильнее ли было бы положить в основу экспертизы (выводов) результаты опытов, проведенных Литлджоном. Не задумываясь, Спилсбери бросил: «Нет». Единственное, чего удалось прокурору добиться от Спилсбери, так это признания, что результаты опытов Литлджона тоже могут быть приняты во внимание.
Но это высказывание Спилсбери прошло мимо присяжных. Они были готовы положить в основу своего вердикта показания человека, пользовавшегося наивысшим авторитетом в судебных кругах, показания Спилсбери. Ачисон почувствовал это. «Не приходится напоминать о том, что в этом деле мы получили помощь сэра Бернарда Спилсбери, самого опытного судебного медика. Я не хочу отрицать, что профессор Литлджон и профессор Глайстер – крупные специалисты. Но я ни минуты не сомневаюсь и заявляю, что ни в Великобритании, ни в Европе нет в области судебной медицины имени, равного имени сэра Бернарда Спилсбери. Ясно, что медицинское заключение целиком и полностью говорит в пользу обвиняемого!» – крикнул он присяжным.
8 февраля суд признал Дональда Мерретта виновным в подделке чеков, а обвинение в убийстве отклонил как недоказанное.
Когда Сидней Смит услышал в Каире о решении суда, он заявил: «Мы еще услышим о молодом Мерретте». Однако Литлджону не довелось услышать о Мерретте. Несколько месяцев спустя, в августе 1927 года, он скончался. А Сидней Смит покинул Каир и сменил умершего учителя на его посту. Спилсбери тоже не дожил до дня, который показал бы его заблуждения. 19 декабря 1947 года семидесятилетнего Спилсбери нашли мертвым в лаборатории колледжа Лондонского университета. После двадцатилетней неустанной работы, после 25 000 произведенных им вскрытии, накопив ценнейший опыт, который ему, практику, так и не удалось обобщить в учебнике, Спилсбери покончил с собой, отравившись газом. Пережив личную трагедию и два серьезных приступа болезни, подавленный сознанием, что теряет работоспособность, он избрал путь добровольной смерти.
Семью годами позже, 16 февраля 1954 года, в лесу под Кёльном был найден труп мужчины, приехавшего в Западную Германию после второй мировой войны вместе с британскими войсками. Он использовал свой военный пост для совершения всяких незаконных сделок. Приятели знали его под именем Рональда Чеснея. Но это был не кто иной, как Дональд Мерретт. Отбыв наказание за подделку чеков, он стал наследником отцовских 50 000 фунтов и принял фамилию Чесней. Какая-то семнадцатилетняя девушка, покоренная его обаянием, вышла за него замуж, и ей удалось получить с Мерретта на личные расходы до конца жизни 8400 фунтов. Остальные деньги Чесней растратил за несколько лет и стал шантажировать, воровать, обманывать. То он сидел в тюрьме, то выходил на волю. Во время войны он оказался в военно-морском флоте и использовал корабль, на котором служил, для контрабандных перевозок. В 1950 году, находясь в Западной Германии, он вспомнил о состоянии, оставленном когда-то жене. Она уже давно не жила с ним и содержала вместе с матерью дом для престарелых в Илинге. В феврале 1954 года Мерретт-Чесней решает убить жену, чтобы завладеть ее деньгами. Он изготовил себе фальшивый паспорт на другое имя, посетил свою жену сначала под своим именем, вернулся в Западную Германию с тем, чтобы уже на следующий день полететь снова в Англию с фальшивым паспортом. Тайно он пробрался в дом для престарелых, где утопил жену в ванне. Неожиданно наткнувшись на тещу, он после жестокой борьбы убил и ее. В окровавленной одежде, с исцарапанными руками Мерретт улетел обратно в Кёльн. Но соседи видели высокого, плотного человека с черной бородой. Спустя несколько дней Скотланд-ярд уже шел по его следу. Поняв, что на этот раз ему не уйти от возмездия, он застрелился. Но прежде чем покончить с собой, рассказал своей приятельнице, что зовут его Дональд Мерретт и что более двадцати пяти лет назад он застрелил свою мать.
Неожиданный конец Мерретта напомнил судебным медикам о суде над ним в 1927 году и произвел на них большое впечатление. Стали глубже изучать проблемы, связанные с повреждениями от огнестрельного оружия, накапливались новые познания в этой области. Когда в 1912 году Юлиус Краттер из Граца опубликовал свой «Учебник по судебной медицине», то описание огнестрельных повреждений заняло у него всего шесть страниц (из 608 содержащихся в книге). Спустя пятьдесят лет познания в этой области можно было изложить уже в отдельной книге. Нельзя не учитывать, что огнестрельные повреждения самых различных органов человека могут привести к смертельному исходу. Если сначала бесспорно смертельными считались только повреждения сердца, определенные ранения головы, брюшной полости и легких, то изучение нервной системы показало, что даже касательные ранения, раздражая вегетативную нервную систему, могут привести к смерти вследствие шока. Уже давно прошли те времена, когда огнестрельные повреждения обследовались визуально, невооруженным глазом. Теперь этим целям служили спектроскопический, химический и биологический анализы. Многие годы и десятилетия специально потратили на изучение этих проблем французские ученые Гериссель, Хаусер, Грильон и Пиделье, немецкие – Мюллер, Эльбель, Шёнтаг, Крауланд и русские ученые Молчанов и Скопин.
21. Научные достижения на службе криминалистики. Лейпциг, 1929 год
К концу 1929 года наиболее ощутимые успехи в развитии судебной медицины были достигнуты в Германии. Самым ярким представителем судебной медицины в Германии в это время был Рихард Кокель.

Рихард Кокель (1865–1934)
Из дела Мерретта там сделали вывод о необходимости совместного осмотра места происшествия судебными медиками и полицией о необходимости их тесного сотрудничества вообще. Именно за это боролся Кокель. Он также боролся за то, чтобы привлечь к сотрудничеству с судебными медиками очень важных для криминалистики специалистов в области естественных наук и техники. Всесторонние познания Кокеля позволили ему перешагнуть границы чистой медицины. Новая техника судебной медицины позволяла охватить большую область исследований от огнестрельного оружия, следов пыли, биологических следов самого разнообразного характера до сравнения нитей ткани и почерков. Как в свое время в Австро-Венгрии шла борьба между сторонниками судебной медицины, ограниченной патологией, и сторонниками более энциклопедического ее вида, включавшего в себя токсикологию и психиатрию, так и Кокель боролся за современную судебную медицину, которая использовала бы все достижения естественных и технических наук.
У Кокеля были противники, желавшие ограничить судебную медицину традиционными рамками. Но у него было и много сторонников и последователей. Он был уверен, что будущее за ним, даже если со временем естественнонаучные и технические методы превратятся в самостоятельные дисциплины. Правда, до этого было еще далеко.
Что касается других сторон тесного сотрудничества с уголовной полицией, то Кокель не без основания заявил в своем докладе на 16-м заседании Всегерманского общества судебной и социальной медицины в сентябре 1927 года в городе Граце: «Вы знаете, что влияние полиции на все вопросы, связанные с правом, растет. Полиция стала фактором, с которым нельзя не считаться. Я думаю, что необходимо достичь соглашения с полицией о привлечении нас для собирания важных вещественных доказательств…» Идея Кокеля была проведена в жизнь, и в 30-е годы присутствие судебных медиков на месте преступления стало обычным явлением при расследовании убийств. Среди сторонников Кокеля был, например, берлинский судебный врач профессор Курт Штраух, самая популярная личность в берлинской уголовной полиции между первой и второй мировыми войнами, который сумел убедить советника уголовной полиции Эрнста Генната в том, что место судебных медиков не только в моргах и лабораториях, но и «на фронте». Пусть профессор Штраух предпочитал белым халатам старые пиджаки и работал (как Спилсбери) самыми грубыми инструментами, зато он знакомил с миром судебной медицины и ее возможностями всех, даже самых простых сотрудников уголовной полиции. То же самое можно сказать о более молодом, но глубоко образованном Вальдемаре Ваймане, который в 1930 году создал врачебный чемодан для дежурной автомашины берлинской комиссии по расследованию убийств, где было все необходимое судебному медику для осмотра места происшествия. Это был человек такого же масштаба, как и Кокель.
Такова была обстановка, при которой произошли события, начавшиеся 30. ноября 1929 года. В полдень в институте судебной медицины Лейпцигского университета появился служащий германского страхового общества «Нордштерн». Он попросил Кокеля принять его по очень важному и неотложному делу и заявил следующее: в капелле лейпцигского кладбища Зюдфридхоф лежит труп человека, который через час будет похоронен. Документы умершего свидетельствовали, что это Эрих Тецнер, торговец из Лейпцига, 1903 года рождения. Из данных полиции и прокуратуры Регенсбурга следовало, что 27 ноября во время служебной поездки на зеленом «Опеле» Тецнер потерпел аварию, налетев на столб. Машина загорелась, и обгоревший труп Тецнера был извлечен с места водителя. Прокуратура разрешила похоронить труп.
Это предыстория.
Вся проблема, волновавшая страховое общество, заключалась в том, что Тецнер застраховался от несчастного случая не только в «Нордштерн», но и в страховых обществах «Фатерлендише» и «Аллианц», притом на такую неимоверно большую для его материального положения сумму, как 145 000 марок. Страховые договоры вступили в силу только несколько недель назад. Вдова Тецнера, Эмма Тецнер, сразу же после смерти мужа потребовала выплаты страховых сумм. Все эти обстоятельства, естественно, вызвали у страхового общества подозрения. Представитель страховой фирмы заявил, что не исключена возможность сердечного заболевания у Тецнера, которое и явилось причиной его смерти. Можно предположить и самоубийство. Так или иначе, он добился разрешения вдовы на вскрытие трупа. И теперь от имени «Нордштерн» просил Кокеля произвести вскрытие. Возможности доставить труп в институт Кокеля не было, и вскрытие пришлось произвести в капелле кладбища.
Как и у большинства судебных медиков, у Кокеля за время работы развилось определенное чувство интуиции. Несмотря на обеденное время, он отправился вместе со своим посетителем на Зюдфридхоф. В гробу лежал, как он писал позднее, «сильно обуглившийся торс, к которому были приставлены: шейная часть позвоночного столба с основанием черепа, верхние части обоих бедер, нижняя часть сустава правого бедра и части рук. Кроме того, при трупе была часть мозга с кулак величиной. Верхняя часть головы отсутствовала, поэтому волос обнаружить не удалось. Как ни бесперспективно выглядело вскрытие трупа в таком состоянии, все же его провели. То, что это труп мужчины, установить было нетрудно».
Кусок мозга был в удивительно свежем состоянии, чему Кокель сначала не мог найти объяснения. В полости рта, в гортани и в сохранившейся части трахеи не удалось обнаружить ни сажи, ни копоти. В сердце было немного сгустившейся крови. Нижняя часть правого легкого хорошо сохранилась. Кокель собрал кровь из сердца и легкого в стеклянные баночки. Сохранившиеся кости были необычно слабы и напоминали своим строением скелет женщины, что вызвало некоторое сомнение у Кокеля. Удивление его возросло, когда он распилил сохранившийся сустав левого плеча. Без труда он обнаружил остаток хрящевого ремешка, наличие которого доказывало, что человеку менее двадцати лет, так как к двадцати годам, самое позднее к двадцати трем он исчезает. Кокель поинтересовался еще раз, сколько лет было Тецнеру. Ответом было: «Двадцать шесть».
А как он был сложен? Страховой агент посмотрел в свои бумаги и ответил: «Крепкого телосложения, рост 1,70, широкоплечий, приземистый, несколько полный»…
У входа в капеллу уже раздавались приглушенные голоса собравшихся для траурной процессии людей, когда Кокель через заднюю дверь покинул капеллу. Идя через кладбище к выходу, Кокель невольно вспомнил один случай, которым с августа 1928 года занималась не только уголовная полиция Фульды, но и профессор Эрнст Гизе, директор института судебной медицины при Йенском университете. 1 января 1928 года тридцатидвухлетний торговец Генрих Альбердинг из Фульды, попрощавшись с женой, поехал во Франкфурт в театр. Домой он не возвратился. В начале февраля уголовная полиция в Фульде получила письмо, отправленное 7 февраля из Регенсбурга. Письмо было от Альбердинга. В нем было написано, что он выбросил это письмо из окна в надежде, что кто-нибудь его отправит. Сам он находится в руках двух своих конкурентов, которых он разоблачил как торговцев опиумом. Они захватили его, когда он ехал во Франкфурт. В случае если когда-нибудь найдут его труп, пусть распорют подкладку правого рукава пиджака. Может быть, ему удастся таким образом передать некоторые сведения о насильниках. Спустя семь месяцев, 23 августа 1928 года, в зарослях леса под Заальфельдом был найден скелет мужчины. Череп свидетельствовал об огнестрельном ранении, кости ног были отрублены, одежда опалена. На безымянном пальце – обручальное кольцо с гравировкой «М. Т. 1920», в кармане жилетки – часы с надписью «Г. Альбердинг, Фульда». Под подкладкой правого рукава пиджака нашли написанную рукой Альбердинга записку: «Собираюсь в свой последний путь. Если со мной что-нибудь случится, то прошу тотчас сообщить в уголовную полицию Фульды. Мой адрес: Генрих Альбердинг, Фульда, Марктштрассе, 24».
Вдова Альбердинга, услышав о смерти мужа, тут же предъявила двум страховым компаниям требование о выплате ей страховой суммы за мужа в размере 60 000 марок. Тем временем профессор Гизе занимался в своем институте изучением останков найденного трупа. По степени развития позвоночного столба он установил, что здесь может идти речь о человеке в возрасте двадцати, максимум двадцати двух лет. Одновременно гёттингенский анатом профессор Штадтмюллер новым методом тоже доказал, что пострадавший не может быть Альбердингом. Он использовал прижизненные фотографии Альбердинга для изготовления на прозрачной бумаге точного рисунка формы его черепа в натуральную величину я наложения его на рисунок найденного черепа. Различия в форме черепа были убедительными.
Хотя Альбердинг и не был еще найден, но никто больше не сомневался, что с целью получения страховых сумм было совершено убийство другого человека.
В 1934 году Альбердинга нашли под кроватью в его спальне в Фульде, когда он тайно посетил свою жену, а в 1935 году его приговорили к смертной казни за убийство. Убитого им человека так и не удалось идентифицировать.
Об этом в 1929 году еще не раскрытом деле и вспомнил Кокель. Покидая кладбище, он неожиданно спросил страхового агента, уверен ли тот, что пострадавший действительно Тецнер. Агент сначала даже не понял вопроса. Что, разве Кокель сомневается в этом?
Судебная медицина к тому времени уже в течение ста лет изучала различные формы сожжения и смерти от огня. Одним из сенсационнейших происшествий прошлого была смерть графини Герлиц в Дармштадте, когда ее нашли 13 июня 1847 года сожженной в ее личных апартаментах. Кроме гессенского врача по фамилии Графф, таинственной смертью графини занимался знаменитый ученый-химик Юстус Либиг из Гисена. Этот случай породил дискуссии о возможности «самовозгорания». Под этим понимали воспламенение выдыхаемого воздуха после того, как человек употреблял алкогольные напитки. Подобное представление о самовозгорании было одной из сказок древней судебной медицины. Хотя Либиг и отклонил возможность самовозгорания, но ни он, ни другие эксперты не смогли научно доказать, что графиня была сначала задушена своим слугой, потом ради сокрытия следов преступления сожжена. Лишь признание слуги привело к раскрытию преступления.
Трагическая гибель многих людей во время пожара в венском театре в 1882 году послужила толчком для изучения Эдуардом фон Гофманном проблемы идентификации сгоревших людей и особенностей телесных повреждений, причиняемых огнем. С тех пор судебной медицине все чаще и чаще приходилось заниматься проблемами повреждений, причиненных огнем, с одной стороны, при экспертизах для учреждений социального страхования, а с другой стороны, во время расследования преступлений. Увеличилось число экспертиз, при помощи которых были установлены убийства путем сожжения, а также случайная гибель в огне. Наблюдались случаи, когда преступник сжигал труп, маскируя совершенное перед тем убийство. Главной задачей исследований стало умение различать все эти виды смерти.
Было установлено, что человек, попав в огонь живым, вдыхал копоть, которая обнаруживалась в гортани, трахее и в легочных пузырьках. Еще важней было то, что при горении вдыхался угарный газ и, следовательно, в крови заживо сгоревшего можно обнаружить окись углерода.
Колоссальное число несчастных случаев и самоубийств со времени введения в XIX веке осветительного газа, в состав которого входил угарный газ, научило судебную медицину определять наличие следов окиси углерода в крови пострадавших. Между окисью углерода и гемоглобином существует необыкновенная «притягательная сила». Она гораздо сильнее, чем связь гемоглобина с необходимым для жизни кислородом. Окись углерода, если она достаточно долго воздействует на организм, вытесняет из гемоглобина кислород и приводит к смерти путем внутреннего удушения. На этом ее свойстве и основан метод судебной медицины, которым определяется наличие в крови окиси углерода. Красный цвет гемоглобина, насыщенного окисью углерода, был более стойким, чем при насыщении его кислородом. Подвергая кровь обработке определенными химикалиями, можно было установить, что кровь, содержащая окись углерода, оставалась ярко-красной, в то время как кровь, насыщенная кислородом, быстро принимала коричневый цвет.
Однако большее значение приобрел метод спектрального анализа крови. Спектральный анализ давал безошибочный результат. Лишь одно условие было при этом необходимо: кровь должна содержать не меньше 20 % окиси углерода. В 1921 году австрийцу В. Шварцахеру удалось определить при помощи спектрофотометрии и значительно более низкий процент окиси углерода в крови.
Все подобные исследования еще были на пути к достижению цели, когда 30 ноября 1929 года Кокель вернулся к себе в институт. Там он приступил к исследованию крови, извлеченной им из сердца пострадавшего, на содержание в ней окиси углерода. Все химические и спектроскопические методы исследования дали отрицательный результат. Кокель считал, что его подозрения подтверждаются. Труп, захороненный на кладбище Зюдфридхоф, не Эриха Тецнера. Так как в дыхательных путях не было копоти, а в крови – окиси углерода, то пострадавший вообще не мог быть живым и дышать, когда машина загорелась. Может быть, здесь случай, аналогичный делу Альбердинга? Может быть, Тецнер на самом деле убил кого-то в своей машине, чтобы, считаясь погибшим, с помощью жены получить страховку?
Чтобы лишний раз убедиться в правильности своих подозрений, Кокель решил заняться другим аспектом судебной медицины, который в 30-е годы стал предметом целенаправленного изучения многих судебных медиков. Целью исследования было выявление отличий между повреждениями, полученными при жизни, от повреждений, нанесенных уже мертвому. Препарировав под микроскопом принесенные с кладбища легкие пострадавшего, Кокель увидел, что мельчайшие сосуды легких заполнены прозрачными продолговатыми каплями жидкости. Другими словами, он наблюдал эмболию, закупорку кровеносных сосудов легких жиром. Уже много лет назад хирурги и патологи заметили, что в результате грубого насилия над человеком, при переломах костей, повреждениях черепа, при издевательствах и даже во время нервных потрясений жир из жировой ткани проникает в кровеносные сосуды. С потоком крови он попадает в правый желудочек сердца, а оттуда – в легкие. В результате получается закупорка маленьких легочных сосудов, что, как правило, приводит к нарушению кровообращения и к смерти. Если же кровообращение оказывается достаточно сильным, то оно гонит с кровью частицы жира в другие органы тела и частицы жира попадают в почки и мозг. Весь этот процесс протекает в течение нескольких секунд и всегда является следствием насилия.
Так Кокель окончательно пришел к выводу, что пострадавший, которого он обследовал на кладбище Зюдфридхоф, был убит до того, как сгорел, и решил об этом немедленно сообщить в полицию Лейпцига. Кокель всегда работал в тесном контакте с полицией.
С наступлением вечера он отправился к заместителю начальника лейпцигской уголовной полиции, криминальрату Кригерну, которому изложил свои тезисы: 1. Пострадавший – не Тецнер. 2. Речь идет о неизвестном, который был убит и сожжен. 3. Убийцей является, по всей видимости, Тецнер, желавший получить страховые суммы. 4. Исключается возможность исчезновения некоторых частей тела в результате сгорания (верхняя часть головы, голени и стопы ног), которые не обнаружены на месте происшествия. Часть головы, вероятно, удалена, потому что на ней имеются повреждения, приведшие к смерти. Другие части тела убийца, возможно, отделил с целью сокрытия признаков, которые могли свидетельствовать, что это не Тецнер. Возможно, их удалось бы найти, если бы на месте происшествия находился судебный медик. Во всяком случае, необходимо еще раз тщательно осмотреть все место происшествия с целью обнаружения недостающих частей трупа. 5. Наверняка Тецнер где-то спрятался и попытается связаться с женой.