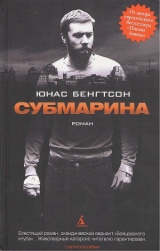
Текст книги "Субмарина"
Автор книги: Юнас Бенгтсон
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Родительские собрания в школе. Там говорили о Нике. О том, как ведет себя Ник.
И тогда наступала его очередь. Сначала – в ванную. Подстричь ногти, почистить их щеткой. Одежда на постели. Чистая одежда. Вот он стоит в коридоре, а мать оценивающе его рассматривает. Поверни голову, покажи мне уши. Сначала левое, затем правое. Мама больше не похожа на маму. Мама похожа на чужую женщину. Такую, что никогда не ругается. Не ссыт в кровать, не рыгает. В новой невиданной одежде. Мама, на которую смотрят в автобусе, смотрят на улице. Мама выпила таблетки, только те, от которых становишься нормальной, сказала она и засмеялась, а нам смеяться было не обязательно.
О братике мы не говорили.
Мы начнем все заново, сказала мама.
Она опять начала все заново.
Ник не был похож на Ника, когда они уходили.
Я дошел до второго ряда на комоде, пузырек номер три слева. Раздавил голубую таблетку и положил в апельсиновый сок. Проснулся только к их приходу.
Когда Ник вошел в комнату, я все еще был как в тумане. Он пару раз стукнул кулаком в стену, сел на подоконник и выкурил сигарету.
Почему ты не можешь быть как твой брат? Так они сказали. Он такой тихий. Ведет себя хорошо. Получает тройки. Бери пример с брата. С тебя. Ты горд?
В школе я большую часть времени боролся со сном. Я еще не очень хорошо разбирался в маминых таблетках. Пробовал одно, другое. Разбирался не так хорошо, как мама. Иногда я не мог отвести глаз от доски. Треугольники, четырехугольники, круги, которые рисовал математик, были поразительными, просто поразительными, мне приходилось держаться за стол, чтобы руки не пустились в танец. Но чаще всего я просто боролся со сном. Одноклассники, учитель, класс походили на каталог с цветовой палитрой красок для стен, который мать принесла домой, когда мы собрались красить нашу комнату. Желтый, желтый, желтый, менее желтый, менее желтый. Красный, красный, красный, менее красный. Я боролся, чтобы не уснуть. Я получал тройки.
В этой школе тройки ставили, если ты присутствовал на большинстве уроков, если не дрался, во всяком случае в классе. Если не забывал учебники. Как правило. Если не орал на учителя, не обзывал его жирным педерастом. Не обзывал ее сучкой, которую трахают бульдоги. Не обзывал его дрочилой, который имеет тайских мальчиков. Если ты не говорил ничего подобного, то тебе ставили тройки. А Нику тройки не ставили.
62
– Так ты задвинул Бекима? – сказал он. Размешал два кусочка сахара в кофе. – Ты задвинул промежуточное звено.
Только теперь до меня дошло, что Беким – это албанец. А я же знал, как его зовут, неоднократно слышал, как к нему обращаются другие. Но в моем сознании он всегда был просто албанцем.
Сижу в «югославском» кафе. Еще полгода назад оно носило другое имя. До того как появились статьи о парне, которого убили справа от барной стойки. С тех пор здесь все перекрасили. Я до сих пор помню фотографии в газетах. Тогда стены были розовыми, а теперь они белые. На одной из стен – фотография Тито. Я думаю, что это Тито. Догадка Пожилой человек, черно-белое изображение. Над ним висит телевизор. Поет женщина, звук выключен.
– Да, – говорю. – Я не стал звонить албанцу. Какие-то проблемы?
Он отвечает не сразу, аккуратно отпивает кофе из чашечки, ставит ее на стол. Мы сидим вдвоем. Но не одни. У бара я замечаю одного из тех громил, что присутствовали при нашей первой сделке. Он смотрит на нас в зеркало, висящее за стойкой.
Пару дней назад я поехал в парикмахерскую в Рёдовре [18]18
Рёдовре– пригород Копенгагена.
[Закрыть]. Туда, где брал товар.
Объяснил парикмахерше, как хочу постричься. Мне принесли кофе. Я слушал, как они говорят на незнакомом языке. Пытался вычислить, кто держит это место. Заплатив, я положил записку с номером моего телефона и попросил передать ее Горану, сказал: от человека, получившего наследство.
Мартин удивился моей новой стрижке, когда я забирал его из сада. Мне несколько раз пришлось наклониться, чтобы он мог потрогать волосы.
– Не слишком лояльно. Давно его знаешь?
Югослав склонил голову набок. Может, он со мной играет, а может, испытывает. В любом случае главный здесь он. И может хоть до вечера развлекаться, если захочет.
– Несколько лет.
– И так просто вычеркиваешь?
– Мне есть на что потратить десять тысяч.
Он смеется. Закуривает:
– Пойми меня правильно, – говорит он. – Мы с ним не братья родные. Елы-палы, да он албанец, понимаешь? Нормальный мужик. Но албанец. Сколько тебе нужно?
– Как в прошлый раз.
– Отлично. Молодец. Обещаю, товар хороший. Очень хороший. Но придется подождать недели две. Может, три.
– Как насчет цены?
– Быстро учишься, а? Цепа та же, с ценой я ничего поделать не могу. Но в этот раз товар позабористее.
– Как насчет коки?
– А что?
– Можешь достать?
– Сколько тебе надо?
– Штук на пятьдесят.
– На тридцатку сегодня, попозже. Остальное – через два дня. Устраивает?
Это не вопрос.
– Не понимаю их, – говорит он и смотрит в окно.
Мимо кафе проходит мужчина, короткие темные волосы, борода свисает на грудь.
– Я их не понимаю. Не все же из них террористы. Уф, ну нельзя же всех их подозревать в том, что они собираются нас взорвать, а? И вот так одеваться. Вот так!
Он тычет указательным пальцем в сторону. Я пожимаю плечами. Мне не до того, мне есть о чем подумать.
– Будь со мной честен. Представь, что он сидит рядом с тобой в автобусе. Рядышком, жарким летним днем. В здоровенном толстенном пальто. Ты бы что подумал: бедняга, оделся не по сезону. Жарко ему, наверное. Да ты бы обосрался от страха! Ты бы подумал: когда же он дернет за шнурок или нажмет на кнопочку? Или что они там делают.
Я забираю Мартина из сада. Покупаю ему пару фильмов, пиццу с ветчиной и ананасом. Пока он смотрит телик, вызываю такси. Еду обратно в Нёребро. Иду от железнодорожной станции до парковки за спортзалом. Битая тротуарная плитка. Кое-где ее вовсе недостает. Стены разрисованы. Низенькие кустики. Узнаю его большой черный джип. Я сажусь, он заводится. Показывает на упаковку, лежащую на торпеде. Похоже на пакет мяса из лавки. Белая бумага, перетянутая двумя резинками. Кладу ее в карман и достаю пачку денег. Он сует деньги в бардачок. Мы уезжаем с парковки.
– У тебя есть работа? – спрашивает он, пока мы едем по городу на максимально разрешенной скорости.
Изнутри машина еще роскошнее, здоровые кожаные сиденья, черные. Кожаный руль и рычаг КПП, очень тихо.
– У тебя есть работа?
– Я продаю наркотики…
– Ну да, – смеется он. – Это не совсем то, что я имею в виду. У моего шурина клининговая компания, в основном по чистке ковров. Если тебе надо…
– Я, пожалуй, буду держаться наркотиков, если можно.
– Ну-ка послушай…
Мы проехали по Нёреброгаде, свернули к Озерам. Мы медленно едем по городу, он все время держит машину в движении.
– Чувствуется, что я был таксистом?
Одна рука на руле, другой он, разговаривая, жестикулирует.
– Итак, мытье лестниц. Тебе не придется мыть лестницы. Ни единой. Но тебе нужна работа. Я говорю тебе это, потому что ты хороший клиент, становишься хорошим клиентом.
– Работа?
– На бумаге. Или все это как-то подозрительно. Если ты на пособии, ты всегда под колпаком. Им надо знать, чем ты занимаешься. Если у тебя есть работа, тебя оставляют в покое.
– А твой шурин?..
– У него клининговая компания. Позвонишь ему, передашь от меня привет. И ты обеспечен работой.
Проезжаем Ратушную площадь. Машина большая, отвоевывает себе место на дороге. Уверен: сквозь тонированные стекла ничего не видно.
– Числишься у него. Получаешь минимум. А работает это следующим образом. Ты платишь ему каждый месяц. Отдаешь свою собственную зарплату. И платишь налоги каждый месяц. Поскольку зарплата минимальная, сумма будет небольшая. И можешь спать спокойно.
– Сколько он за это берет?
– Нисколько. Он оказывает мне услугу. Лестницы моют нелегалы. И ему нужны сотрудники, которых можно предъявить. И все довольны.
– За исключением тех, кто моет лестницы…
Мы останавливаемся на красный. Он смотрит на меня:
– Ты просто не знаешь, откуда они приезжают. Это лучше, чем пуля в башке.
Он прибавляет звук, чуть-чуть. Хип-хоп, я всем телом чувствую гудение басов из стоящего где-то сзади динамика.
– Какой в этом плюс? – говорит он и снова улыбается. – А плюс такой, что если внезапно на тебя налетит полиция, таможня, налоговая… Придут и увидят твой большой, сорокадвухдюймовый телевизор с плоским экраном и захотят узнать, на какие деньги… Как мытье лестниц может это обеспечить… В этом случае мой шурин предъявит кое-какие бумаги. В бумагах-то был беспорядок, а у тебя переработки, которые пока что не успели оформить честь по чести как дополнительный доход. Ты мыл лестницы по семьдесят два часа в неделю, весь август, ясно? И таким образом расплатился за телевизор.
Мы медленно едем по Вестеброгаде. Потом по Вэльбю-Лангтаде. Он спрашивает, где меня высадить. Здесь, отвечаю я, здесь, отлично. Он предлагает отвезти меня домой.
Он же бывший таксист.
63
Сегодня Хеннинг не пришел. Вообще не пришел.
Мы ждали десять минут, двадцать минут, тридцать минут. Он не пришел. И мы поймали такси.
Теперь сидим у его девушки в Южной гавани [19]19
Южная гавань– рабочий район Копенгагена.
[Закрыть]. Когда она открыла дверь, слово взял Карстен. Она смотрела на нас такими глазами, словно мы требовали у нее лицензию.
Карстен прямо заявил, что нам нужно войти, что мы договорились встретиться с Хеннингом. Я, конечно, боюсь потерять свой товар, но Карстен в ужасе от того, что я могу лишить его работы. Понятное дело, ведь Хеннинг – его друг. И придется ему опять воровать автомагнитолы и лазить по чужим квартирам.
Мы сидим за журнальным столиком. Она худенькая, одни кости и хвост. Натянула рукава вязаного свитера на кулаки, сидит и мнет их пальцами. Прихлебывает кофе, на низеньком столике лежат книжки вроде:
«Педагогика дошкольного возраста»
«Обучение в игре»
«Музыкальный ребенок».
Она улыбается. Ей проще быть вежливой, проще изображать, что это просто дружеский визит, Стокгольмский синдром похож на растворимый кофе: долго ждать не приходится.
– Я подумываю продолжить учебу. Может, летом начну, чай будете?
Как бы это провернул албанец?
Я зол на самого себя не меньше, чем на Хеннинга.
Вчера я взял выходной. Первый раз за долгое время. Я заготовил достаточно, чтобы им хватило до конца дня, а рассчитаться собирался утром. Я поступил так от лени. Нет, я поступил так, потому что хотел побыть со своим сыном. Сегодня Хеннинг не пришел. Много денег, много героина и со всем этим он свалил. Если его взяли, она бы сказала это сразу, завидев нас. Первым делом, открыв дверь. Я почти надеялся, что его взяли.
Девушка Хеннинга меняет положение на диване. Передвигает кости.
– Так вы должны были встретиться с Хеннингом?
– Не здесь, в городе.
– А он ничего не сказал.
– А он тебе все говорит?
Она смотрит в чашку, поднимает глаза, пытается улыбнуться, кожи у нее для этого крайне мало.
– У меня еще есть кофе, если хотите.
Наверное, когда-то она была хорошенькой, и не так уж давно, но это было до джанка, до анорексии или что там с ней не так.
Смотрю на часы: половина пятого. Я уже должен был забрать Мартина Он привык, что я рано прихожу.
Девушка Хеннинга тянется через стол и вытряхивает из пачки «Look 100» сигарету. На пальцах, на суставах обнаруживаются следы булимии. Из-за желудочного сока ее руки выглядят как старушечьи.
Закуривает сигарету.
Что бы сделал албанец?
Здесь речь идет о большем, чем деньги, здесь речь идет о том, что Карстен и Джимми работают на меня. О том, что, если эти задницы начнут меня надувать, я пропал.
Я ловлю ее взгляд и громко говорю:
– Твой парень должен мне три с половиной штуки.
Я хочу вернуть деньги.
Она переводит взгляд с Карстена на меня, затем опять на Карстена.
– Это мои деньги. Хеннинг взял мои деньги, понимаешь?
– Не думаю, что… у меня нет…
– Сколько у тебя есть?
– Ну, если Хеннинг у тебя одолжил…
– Заткнись и скажи, сколько у тебя есть.
Она встает, избегая моего взгляда, выходит в прихожую и берет сумочку из искусственного крокодила. Достает кошелек, вынимает купюру в пятьсот крон. Беру у нее деньги.
– Скажи Хеннингу, что мне нужны остальные.
Спускаясь с лестницы, я говорю Карстену:
– Увидишь его, забери деньги. Я хочу вернуть свои деньги. Если я первым его найду, если мне придется искать…
– Конечно-конечно.
Карстен крупный мужчина, худой, но на голову выше меня. И все же он бежит за мной по улице. Я ловлю такси. Уже без четверти пять. Я знаю, что Мартин ждет меня.
64
Все воскресенье мы ищем. Обходим район. Заглядываем под заборы и кусты. Спрашиваем алкоголиков на лавочках: вы не видели голубой детский велосипед?
Спрашиваем пацанов у гриль-бара: вы не видели голубой детский велосипед?
Первый час Мартин крепится.
А папа говорит:
– Мы его найдем. Далеко они уехать не могли.
– А что, кто-нибудь его забрал?
– Да, малыш, но мы его найдем.
Мы два раза облазили весь район, и тут он начал плакать. Уже на подходе к нашему магазинчику.
Я говорю ему:
– Я куплю тебе другой, малыш.
– А я хочу этот. Этот!
– Солнышко, папа купит тебе другой. Такой же. Абсолютно такой же.
– Но я этот хочу. Хочу этот. Он…
Я утираю его слезы. Прижимаю к себе.
Мы делаем еще один круг. Вдоль низких кирпичных домов, по маршруту автобуса. Проходим мясную лавку, супермаркет, парковку. Я уже не верю, что мы его найдем, но Мартин должен увидеть: папа делает все, что возможно.
Вечером показываю ему шведскую брошюру с изображением дачи. Он никогда никуда не ездил, никогда не уезжал на каникулы. Изредка, когда она была жива, мы ездили в Берлин, но он был слишком мал, чтобы помнить.
Я прожил с этой мыслью два дня. Можно взять машину напрокат. Поехать туда на машине. На границе со Швецией наркотиков не ищут, наркотики идут другой дорогой. Через Россию. В Прибалтийских странах их полно. Возьму с собой сколько надо. А на обратном пути машина будет чистой.
Показываю ему картинки в каталоге. Показываю озера, большие лесные озера, может, каноэ возьмем напрокат. Показываю фотографии шведских танцоров в национальных костюмах.
Он улыбается, он радуется. Через два часа велосипед забыт.
Я решил больше не упоминать об этом, пока мы не сядем в машину. Столько раз давал ему обещания, которых не исполнял. Я уложу его вещи, пока он будет в саду. Как-нибудь в пятницу. Спрошу перед уходом, не забыл ли он пописать. Может, скажу: пойди пописай как следует. Рано заберу его. Спустимся по лестнице, держась за руки. Застегну на нем ремень безопасности. В бардачке будут лежать «Утиные истории». «Это не „Утиные истории“, папа, это „Книга джунглей“». Он прочитает первые две страницы, а потом поднимет глаза и спросит: куда мы едем? Увидишь, солнышко. А потом он спросит: это Амагер, пап? Да, солнышко. На мосту он начнет крутиться, захочет посмотреть на воду, может, корабли будут. Проводит взглядом чайку. Куда мы едем?
В Швецию, солнышко, в Швецию.
Я не рассказал ему о том, что через пару дней увидел его велик. Разбитый вдребезги, руль на боку, кто-то от души попрыгал на колесах. И сильно пахнущий мочой. Я закинул его в живую изгородь, чтобы Мартин не заметил, когда будем здесь проходить.
65
У мамы в гостях был мужчина. После запоев, пьяных шатаний, зассанных ног. После похорон братика. Второе дыхание, третья попытка стать нормальной. Создать семью. Она в это время работала в столовой, возвращалась домой в форменном платье. У мужчины были темные редкие волосы, очки. Он нервничал, сказал, что рад с нами познакомиться. Сказал, что наша мама – самая красивая официантка во всей столовой, и она засмеялась. Он был ревизором, одиноким, улыбался нам, ел очень аккуратно. Старался не скрести вилкой по тарелке. После ужина мама поставила пластинку. Убрала со стола. Он сидел, пока она не спросила, не удобнее ли будет на диване. Мы спросили у мамы разрешения пойти во двор. Первый раз за всю жизнь мы у нее спросили разрешения. Она улыбнулась и кивнула, стоял теплый сентябрьский день, и у мужчины на воротничке было маленькое пятнышко соуса.
Солнце зашло. Других детей всех позвали, одного за другим. А мы все сидели во дворе. Стало холодать. Когда новый мамин друг вошел под арку, мы его уже ждали. Мы были не особо здоровыми, но все равно, наверное, было больно, когда мы ударили его молотком и разводным ключом. Ударили его, он упал, и мы продолжили бить. Сказали, чтобы он держался подальше. Сказали, чтобы не звонил. Сказали, чтобы не приходил ни сюда, ни в столовую. Что нам не нужен еще один братик. Что мы не хотим хоронить еще одного братика. Он уполз из арки. Мы убрали инструменты обратно в подвал, ополоснулись под краном, из которого управдом мыл двор, посмотрели друг на друга. Поднялись к матери. Доели остатки их пирога, допили кофе с молоком.
66
Я отвел Мартина в сад. Один бутерброд у него с черным хлебом и индюшачьей грудкой, другой – со вчерашней котлетой. По дороге домой поглядываю на часы, в воздухе пахнет весной. В такой день, как сегодня, не хочется спешить, но меня ждет Карстен. Когда речь идет о наркотиках, по джанки можно часы выставлять: у голода нет выходных. Захожу в квартиру, переодеваюсь в пальто – в нем больше внутренний карман, – из коробки в шкафу достаю двадцать пакетиков, кладу их в обложку из-под диска. Я жду автобуса, когда звонит Карстен. Он произносит буквально два слова, и связь прерывается. Это уже пятая карточка оплаты за год. Скромный бизнесмен. Сижу в автобусе, когда раздается второй звонок.
– Я сегодня не могу.
– Что?
– Не могу. Сегодня не могу, прости.
– Да ты вообще что?
Двери открываются, я выхожу, как-то не хочется орать на весь автобус о наркотиках.
Сворачиваю в переулок, подальше от чужих ушей.
– Да что это значит – ты не можешь? Должен смочь!
– Я заболел. Мне очень плохо.
– Что? Хлопковая лихорадка?
Когда наркоман колется, он использует для фильтрации кусочки ваты. А когда кончается героин, приходит время собирать эти кусочки. Их кипятят и колют то, что получилось. Бактерии, грибок, микробы обожают влажные белые комочки, разбросанные по полу грязной однушки. Это знают все, кто сидел на игле. Но когда твой мозг грозит взорваться, тебе не до капризов. Когда из стен появляются чудовища, хватаешься за любую возможность.
– Хлопковая лихорадка?
– Нет-нет.
Скажи он «да», я бы его проклял. Я дал ему хорошую цену, обеспечил хорошим качеством. И количеством, достаточным и для него, и для его девушки, живущей на Энгхаве-плас, – она ставилась раз в день.
– Нет, живот. Не знаю, что такое. Всю ночь просидел на толчке.
– Болит живот? Попей теплого молока, черт тебя подери!
– Я оделся, собирался успеть. Но дальше прихожей не ушел – наделал в штаны.
– И что дальше?
– Марианна сказала, чтобы я ложился в кровать.
Бросаю трубку.
Ему сорок, бо́льшую часть жизни он просидел на игле, а теперь его мадам устроила ему санаторий на диване, с горячим шоколадом и телевизором. Я проклинаю себя за то, что так щедро снабжал его героином, а теперь он сэкономил, а теперь он может себе позволить валяться дома и колоться и сидеть на больничном. Валяться в свое удовольствие, пока я тут бегаю по городу с двадцатью дозами в кармане. Чертов мудак, пиявка. Сначала Хеннинг, теперь Карстен. Я знаю, что произойдет. Эти пиявки присосались прочно. Эти пиявки не отцепятся, пока я не окажусь на улице с такими же дикими глазами, как у них. Пока у меня не заберут Мартина. Пока мне не придется зарабатывать деньги ртом и задницей и рассказывать о временах, когда у меня были четыре больших пакета. Через неделю передо мной будет стоять хорват с полной сумкой и потребует денег.
Я дошел до школы, переменка. Дети бегают друг за другом, стучат мячом о кирпичную стену, на асфальте нарисованы классики, до такой степени стертые ветром и дождем, что, если не знаешь, и не разглядишь. Но девочек это не смущает, они кричат друг на друга, смеются: «Черта!» – показывая на невидимую линию.
Вот одна сражается со своим платком, прыгает дальше. Я не спеша выкуриваю сигарету. Забавно наблюдать, как играют дети, на это стоит посмотреть. Одежда на мне дорогая, часы швейцарские, стоят месячную зарплату. Я больше не похож на педофила. Я думаю. Думаю, думаю, думаю. Я не хочу быть Карстеном. Я не хочу быть Хеннингом. Я не хочу быть Майком, не хочу, чтобы меня съели черви. Хорват должен получить свои деньги.
Я возвращаюсь на Нёреброгаде, сажусь в автобус, идущий в центр. Двадцать штук, столько я никогда не продавал за день. Но это возможно.
Кладу сумку в шкафчик в Глиптотеке. Вынимаю десять упаковок, они как раз помещаются у меня в кулаке. Проходя мимо охранника, коротко киваю.
Иду по улице, сегодня продать нужно много. Десять штук – и домой. Завтра Карстен поправится. Послезавтра Карстен найдет еще одного, чтобы работал на меня. У меня чуть больше недели. Успею. Пара быстрых сделок за церковью. Все проходит легко, давненько я не был на улице, но народ не понаслышке знает о качестве. Иду дальше.
Меня хватают за плечо. И только. Слышу, как на тротуар сзади заезжает машина Приглушенный звук радио. Я чувствую запах табака исходящий от его одежды. Рука на плече – хватка надежная, основательная.
Я бегу. Сую пакетики в рот. Думаю: а я их плотно закрыл? А я их плотно запаял? Я почти добежал до перекрестка, и тут ноги подо мной подкосились. Я уткнулся лицом в тротуар, я вижу темные пятна от раздавленных жвачек.
Он глотает! – кричит кто-то. Он глотает.
Меня хватают за шею, пальцы пахнут табаком. Пытаются помешать мне проглотить.
67
Они говорят мне: если у тебя что-то есть, если ты что-то проглотил, лучше тебе прочистить желудок. Ради тебя самого. Просто совет. И дают мне спортивное приложение к какой-то газете. Могу почитать о теннисе и женском футболе. Предлагают попить кофе.
Я отказываюсь. В моей куртке они находят пачку сигарет и дают мне две штуки.
Я чувствую это. На секунду отключился, и теперь во рту полно пены. Проклятье! – слышу я. Следователь вскакивает, повалив стул. Держит мне голову, а пена все идет. Он кричит: позвоните в «Скорую»! Быстро!
Я все булькаю, пена так и валит, как будто выпил бутылку шампуня. Горло саднит, и я замечаю, что из носа тоже пошла пена. И одновременно возникает мысль: дали бы они мне поспать. Дали бы мне поспать, в самом деле, я, может, сообразил бы, как все это объяснить. Так вот и пляшем: я на коленях, следователь меня поддерживает, а у меня изо рта пена все идет и идет.
В машине «скорой помощи» полный шухер. Мне делают уколы. Я за свою жизнь много игл перевидал, но не таких длинных, как та, что они приготовили. Это, наверное, для сердца А для чего еще, думаю. Зачем впрыскивать желтоватую жидкость в легкие? Наверное, для сердца Пена больше не идет, но тело сотрясается, и надо мной в ускоренном темпе выкрикивают иностранные слова, сокращения.
Они так быстро движутся в этом крошечном пространстве. Два человека, они разговаривают со мной, говорят, чтобы я на них смотрел, но это непросто, машина едет, я уже сам не могу удерживать голову, она болтается из стороны в сторону. Может, это мои последние минуты. А может, у меня даже и минуты нет. Я бы хотел объяснить врачам, поговорить с ними, сказать, что не надо так стараться. Что это не важно. Я не первый и не последний джанки, погибающий от пере-доза на этой неделе. Не стою их стараний. Потому что это – конец. Похоже, это последнее мое ясное мгновение, теперь я знаю, что все кончено. Они заберут Мартина. Мартина у меня отнимут, он больше не будет моим. И больше не будет сыра «Гавайи». Космических кораблей. Мультфильмов. Псов с лазерными пистолетами.








