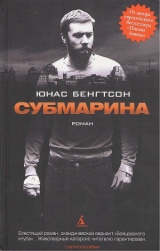
Текст книги "Субмарина"
Автор книги: Юнас Бенгтсон
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Или: Джимми Торсен тебя ищет, у него деньги есть.
Прошла пара дней, прежде чем я понял, что это один и тот же человек.
Джимми сегодня при деньгах.
– Обычно я на улице не покупаю, – сказал он, когда я вложил ему в руку три пакетика. – Но мой контакт присел…
Он встретил меня у Центрального, заулыбался.
– Вчера купил понташку. Найду этого парня…
Когда покупаешь порошок, который оказывается не тем, за что его выдают. Когда покупаешь героин, а это оказывается толченый аспирин, мел, цементная пыль. Это называется понташка. Ты купил понташку. Тебя кинули. Тем, кто такое продает, нужно уметь очень быстро бегать. Тех, кто продает такое, называют кидалами. Они – худшее, что бывает на свете. Хуже полиции, хуже Пии Кьерсгор [17]17
Пиа Кьерсгор(р. 1947) – современный датский политик, лидер Датской народной партии, проповедующей националистические взгляды.
[Закрыть], Гитлера. Кидалы.
Белые продают чеки. Они похожи на пакетики. Маленькие пакетики, как в игре – «Маленький почтальон». Как те, что приклеены к ручкам гномов. Маленькие пакетики, называются чеки. Это все мне рассказали на улице. Они говорят: покупай у белых. Меньше шансов попасть на развод. Черные не продают пакетиков, они продают болики. Так это называется. Носят их во рту. Негры могут засунуть в рот много болюсов. Иногда это не болики, а понташки. Поэтому покупай у белых.
Я не расист. Такое на улицах тоже часто слышишь. Я не расист, просто не хочу попасть на развод.
Джимми сегодня при деньгах. Он вкладывает в мою руку купюры, хороший клиент, зря время не тянет.
– Ты на кого работаешь? – спрашивает Джимми, задумчиво ковыряя этикетку на бутылке с пивом.
Бар находится на улице – на углу, – поблизости от Центрального вокзала. Окна темные, в воздухе висит сигаретный дым. Мы сидим на барных стульях, пьем бутылочный «Карлсберг». Джимми сегодня при деньгах.
– С собакой нельзя! – кричит официант женщине, заходящей в дверь.
– Он спокойный!
– Табличку видели? Уберите отсюда свою псину!
Она медленно пятится, держа овчарку на поводке.
«Роллинг стоунз» в музыкальном автомате сменяют Йона Могенсена.
– Так на кого ты работаешь? – тихо спрашивает Джимми, отлепляя крошки табака от нижней губы.
Когда Джимми начал у меня покупать, я не сомневался, что в следующий раз он вместо денег достанет из кармана наручники. Он был в отличной форме. Слишком хорошей для джанки. Недостаточно худой.
Желтый Джимми – настоящий мужик, говорят.
Желтый Джимми нюхает, говорят. Не любит уколов.
Желтый Джимми умеет ладить с дамами, ему всегда удается найти бабенку, которая его приголубит.
Джимми покупал у меня считаное количество раз. И я не был в нем уверен. Пока мы не зашли в бар, пока не пошли в туалет и он не попудрил носик. Глазом не моргнул, не дрожал и не чесался. Даже если он коп, даже если это спектакль в мою честь, да он бы помер от целой дозы.
Джимми смотрит на меня поверх бутылки, ковыряет этикетку.
Я не ответил, по крайней мере сразу. Попытался вспомнить какое-нибудь имя. Джимми меня опередил:
– Товар ведь твой. Твой товар.
Я молчу.
– Черт… – Джимми делает большой глоток пива. – Пообещай мне кое-что, – говорит он, у него хорошее настроение, он кайфует. – Пообещай мне никому об этом не рассказывать. Пообещай мне.
Я киваю.
– Никто не должен знать, что это твой собственный товар. Поверь мне.
Он шмыгает, вытирает нос тыльной стороной руки.
– Оптимально для тебя было бы нанять продавца. Ты подумай.
Джимми заказывает еще два пива. Кладет деньги на стойку, пригоршню монет. Если я и сомневался еще, не полицейский ли он, если хотя бы на секунду усомнился в том, не поменял ли он пакетики, не устроил ли спектакль: вдохнул лактозу или тальк, а теперь примется выспрашивать у меня имена, а тут и наручники появятся, – если я и сомневался в какой-то момент, то теперь все сомнения позади. Он доволен, он под кайфом. Я узнаю эту реакцию, этот покой в глазах. Улыбку на губах. Все хорошо.
– Я и сам продавал, – рассказывает мне Джимми. Желтый Джимми. – Несколько лет назад. Был не очень осторожен. Поэтому я знаю, о чем говорю, шеф. Я чувствовал это, спинным мозгом чувствовал. Но не обращал внимания. Я думал: Джимми, черт возьми, у тебя просто паранойя. Паранойя – вот что это такое. Что может случиться? И продолжал в том же духе. Неосторожно. Будь осторожен, шеф, – говорит он. – Мой контакт присел. Ты мне нужен.
По пути домой захожу в супермаркет. Я предпочитаю те, что в центре: там выбор больше, овощи и мясо свежие Плачу наличными, не всю пачку вынимаю, а аккуратно выуживаю из кармана нужное количество купюр.
Кружным путем возвращаюсь домой. Размышляю над словами Джимми. А нет ли у меня такого чувства? Легкого зуда в затылке, а? Сажусь в автобус, еду до Амагера. Прохожусь пешком, сажусь на другой автобус. Доезжаю до Остебро и беру такси.
Дома кладу покупки в холодильник, читаю газету, пью кофе под аккомпанемент телевизора. Напоследок еще раз осматриваю квартиру. Не завалялось ли где порошка.
Забираю Мартина одним из первых. Пью с воспитателями очередную чашку кофе, пока Мартин доигрывает. Бывает, он договаривается с кем-нибудь из ребят пойти к ним в гости поиграть. Тогда я захожу в кабинет и звоню Анни, или Могесену, или Сенполь и спрашиваю, в курсе ли они. Но не сегодня.
Помогаю Мартину одеться, комбинезон дается с трудом. Нет, папа, это не та нога. Спрашивает, что на ужин. Лазанья, говорю. Да, конечно, он хочет помочь мне на кухне.
49
Мартин читает вслух книжку о кошках. Сидит с ней на диванчике, с «кошачьей» энциклопедией. Читает: для норвежской лесной кошки характерно наличие светлой отметины и острых ушей. У норвежской лесной кошки красивая густая шерсть, часто серая с белой грудкой. Он не то чтобы читает вслух, а тщательно ведет по строчкам пальчиком, медленно выговаривая слова. Сколько раз он просил меня почитать ему эту книжку. Лесной кот – его любимый, он помнит текст наизусть.
В дверь звонят. В обычной ситуации я бы запаниковал. Потому что у меня нет знакомых, которые могут прийти в семь вечера во вторник. Я бы спустил героин в туалет или попробовал запихать в нос, если бы его не было так много.
Но сегодня я знаю, кто пришел.
Нажимаю кнопку домофона. Вскоре в дверях появляются двое мужчин в рабочих халатах, они несут первые коробки. Большое кресло в картонной упаковке. «ИКЕА» – написано на ней синими буквами. Пусть поставят в гостиной.
Я целый день потратил на покупку мебели. Новый диван, новый столик. Обеденный стол. Записывал номера, тебе правда нравится, Мартин? Какой больше: желтый или голубой? Потом мы ели в кафе тефтельки с картошкой и брусничным вареньем. Я выпил чашку кофе, а Мартин съел большую порцию мороженого со взбитыми сливками. После мы отправились в отдел детской мебели.
Большая деревянная кровать в форме гоночного автомобиля, светло-голубая. На нее он сразу запал. А шторы выбрал, потому что они назывались «Дикая собака».
Вот вносят диван, поставьте на кухне. Я потом освобожу место.
Гостиная и прихожая заполняются большими коробками, я подписываю квитанцию.
Начинаю с нового дивана. Мартин помогает снять упаковку. Это трехместный черный кожаный «Крамфорс». Выбор был между ним и коричневым «Хамра». Но этот больше. Удобнее засыпать. И дороже. Мы не знали, какой выбрать, для окончательного решения нам не хватало женского совета, и поэтому взяли тот, что дороже. Может, это безвкусно. Какой возьмем, солнышко? Тот, который дороже. Но мы годами демонстрировали хороший вкус бедности.
Он помогает прикручивать ножки к дивану. Старый отправляется в прихожую. Мартин говорит, что устал; можно он сделает маленький перерыв? Сидит на новом диване. Большой кожаный диван, маленький мальчик. Я говорю, что у меня для него есть сюрприз. Пусть посидит. Когда я, достав из шкафа коробку, подхожу к дивану, он от нетерпения уже совсем сполз на краешек, глядит во все глаза. Распаковывает подарок. Конечно, он играл на «плей-стейшн», но эта приставка – его собственная. Он убивает зомби, а я тем временем собираю журнальный столик «Ивос» со стеклянной столешницей и полочкой для журналов. Он несется в красном гоночном авто по мокрой от дождя улице, а я прикручиваю ножки к нашему новому обеденному столу «Эдефорс» из солидного, лакированного дуба. Когда я дошел до тумбы под ТВ «Фриель» – не просто тумбы, а стойки под аппаратуру, – когда я прикрутил к ней колесики, он уже спал на диване, продолжая держать палец на кнопке. Завтра я возьму выходной, и мы вместе соберем его мебель.
После того как я занялся продажей героина, мы стали именно такой семьей, какой нам всегда хотелось быть.
50
Пакетики – у меня в кармане.
Карстен ждет у Центрального вокзала. Он нервничает. Похоже, ему очень нужно то, что у меня в кармане. Деньги готовы, он и не пытается торговаться, не сегодня. Мы вместе идем по улице. Он говорит:
– Где ты был?
– Тебя не касается.
– Да нет… нет, я просто подумал…
– О чем?
Он говорит:
– Я могу на тебя работать. Я могу продавать по десять-двенадцать чеков в день. Может, больше. А ты будешь отдыхать, слышь? Я буду работать.
– Хорошо, – говорю. – Я подумаю.
Дальше иду один. Только теперь замечаю, как устал. Не спал ночью.
Думаю: у меня есть деньги снять комнату в отеле. В кармане достаточно денег, чтобы снять комнату и поспать пару часов. Хоть немного выспаться. А потом – за работу. Продам все, поеду домой, возьму еще. Просто немного посплю. В «номерах». Зароюсь головой в подушку, почувствую запах моющих средств, которыми отстирывали сперму и кровь.
Но я здесь не для того, чтобы спать. Я здесь не для того, чтобы деньги тратить. Я здесь затем, чтобы их зарабатывать.
На красные гоночные машинки.
На жизнь, в которой папа не погружает канюлю в ватку, а потом колет себя в шею.
Я продаю одну дозу шлюхе на Истедгаде. Она выглядит так же устало, как и я. Практически отсутствует. Как в тумане. Спрашивает, берет, платит. Не отложила на утреннюю дозу, пришлось срочно найти клиента, пока не начался тремор. Есть какой-то анекдот. Про тремор… Не помню.
Иду дальше. Дойду до Энгхаве-плас, выпью крепкого кофе, прежде чем пойти обратно. Может, две. Иду медленно. Чтобы заметили, чтобы покупателям не надо было за мной бежать. Для наркоманов я – как те люди, которые стоят у магазинов. С табличками спереди и сзади. Лучшая цена, лучшая цена! Покупайте героин здесь!
И вот я чувствую это. За мной кто-то идет. Не покупатель. Я уже чувствую руку на плече.
Это с недосыпу. Уверен, почти. Такое же ощущение у меня было вчера утром на выходе из дома.
Я думаю о кофе.
Вознаграждении, которое последует, когда я дойду до конца улицы.
Думаю о круассане. Может, съем круассан. Найду такое кафе, где рядом с кофе обязательно кладут шоколадку. Черный итальянский шоколад, упакованный в желтую или красную блестящую бумажку. Такой, который успевает подтаять еще до того, как его развернут.
Я заставляю себя идти медленнее. Не беги, не беги.
День холодный, но, пока я дохожу до кафе, успеваю весь вспотеть. Мне даже трудно, не пролив, донести чашку с кофе до столика у окна.
Делаю большие глотки горячего напитка, читаю газету.
Беру еще чашку и смотрю в окно.
По ту сторону оконного стекла как будто бы идет плохое кино.
Нереальное. Фантастическое.
И все же такое ощущение, что за мной наблюдают. С улицы.
Мне не надо запрокидывать голову и смотреть в потолок, чтобы увидеть этот фильм:
Я бегу.
Бегу, бегу. В джинсах трутся суставы. Ботинки слишком плоские. Совсем немного пробежал, а уже задыхаюсь.
Позади слышен крик. Стук подошв по мостовой.
Треск радио.
Зверь. Гонят зверя. Улица Эленшлегера упирается в Энгхаве. Зверь бежит.
В этом фильме я не оглядываюсь. Бегу сломя голову.
Перебегаю дорогу, слышу звук тормозов. Металл и резина.
Бегу по переулку, перекидываю пакетики через высокий забор и бегу дальше.
Бегу по двору. Мимо детской площадки.
Мимо Планетария.
Я у Озер. Бегу дальше.
«Озерный павильон», легкие болят. Кашляю и бегу.
Этот фильм не обязательно досматривать. Выхожу в туалет, вынимаю оставшиеся пакетики. Потом я буду себя ненавидеть. Но сейчас испытываю облегчение.
Я нахожу Карстена у церкви. Он пьет йогурт. Действие дозы, которую я ему сегодня продал, потихоньку проходит, голова у него, похоже, ясная.
– Будешь на меня работать?
– Да, конечно, черт возьми. Ты не пожалеешь.
– Надеюсь, что так. Найди Желтого Джимми, скажи, я хочу с ним переговорить.
51
– Он болен, – сказал я. – Похоже, он болен.
Ник сказал:
– Просто выделывается.
Мальчик лежал в коляске в прихожей. Он не замолкал с тех пор, как мы встали.
Мы держали у его носа овсянку, но он не замолкал.
Все плакал и плакал. Орал и кричал.
Мы засунули ему в рот полкусочка черного хлеба, он закашлялся и снова заплакал.
Ник спросил: тебе когда-нибудь дарили подарки, хоть что-нибудь?
Нет.
В детдоме, если ты не ел, что бывало?
Ты оставался голодным.
Да, ты оставался голодным. Он просто привык к тому, что с ним возятся.
Ему надо усвоить: если дают есть, ешь.
Глотай, или ночью тебе придется плохо.
Брат посмотрел одну передачу о боливийских беспризорниках, нюхающих газ и клей.
Но матери не было дома четыре дня, у нас не было денег на клей, нам пришлось искать магазин подальше, где нас не знали. Мы сидели на полу в гостиной, нюхали остатки краски из пакета. Пили вермут. Пили «Писает Амбон» и зеленый ликер со вкусом киви, все, что мы нашли в кухонном шкафу, где она это оставила или забыла.
В тот вечер мы слушали Элвиса. Если выкручивали звук на полную, вопли братика становились частью музыки. Как малый барабан, почти неслышный. Когда иголка перескакивала на следующую дорожку, мы громко разговаривали. Если надо было перевернуть пластинку, мы гремели бутылками. Мы говорили:
Ну как тебе красная краска? Как зеленая или хуже?
И мы смеялись. Громко смеялись. Смеялись, пока снова не начинала играть пластинка.
Я сказал Нику: может, он болен? Ник был голубоватым силуэтом. До дивана были сотни километров. Удивительно, как это он меня слышит.
Он сказал: давай посмотрим. Если через час все еще будет плакать. Когда Элвис снова споет «Wooden Heart».
Когда он пропоет куплет на немецком. Тогда посмотрим.
Если все еще будет плакать, найдем мать. Придется найти. Если она не в «Обезьяне» и не в «Медведе», то наверняка в «Клоуне». Если только не лежит на спине. Как гоночный автомобиль, на котором меняют колеса.
На пит-стопе.
Через час?
Да, и мы ее найдем.
Наутро мы проснулись на полу в гостиной. «Писанг Амбон» кончился, краска в пакетах высохла. Когда мы заглянули в коляску к братику, он больше не плакал.
Больше не плакал.
52
Три недели. Столько времени нужно. Три недели, и ты привыкаешь.
Три недели.
Утром я сидел в гостиничном ресторане, набивал рот шоризо. Ранним утром, и я успевал выпить еще один эспрессо до встречи с Карстеном и Джимми.
Три недели.
Когда кто-то говорит: дела, бизнес, – думаешь, они имеют в виду холодность, жестокость, деньги прежде всего.
Но теперь я понимаю.
Это бизнес. Я сижу по вечерам с бумажкой и ручкой, считаю оборот, считаю, сколько у меня осталось, насколько разбавить, сколько выручу за грамм, разбавленный и чистый.
Я сижу по вечерам и горбачусь, мастеря упаковку за упаковкой.
Три недели, и ты привыкаешь.
Карстен ждет на скамейке перед Глиптотекой. Так мы договорились. Карстен старше меня на десять лет, сидит на героине с четырнадцати.
Даю ему двенадцать упаковок. Я положил их в коробку из-под компакт-диска «Три тенора в Лейпциге».
Карстен сует коробку во внутренний карман. Угощаю его сигаретой, курим. Два старых друга, любителя оперы, на лавочке перед Глиптотекой. Он сухо кашляет, прикрывшись рукой. Затем говорит:
– У меня есть друг, так? Хеннинг.
– Ну?
– Он нормальный парень, давно его знаю, лет шесть-семь или что-то вроде того.
– Так.
– И когда я ему рассказал, что работаю на тебя, он жутко заинтересовался.
– Он надежный?
– Я давно его знаю…
– Приходи с ним в двенадцать.
Карстен поднимает большой палец и встает, направляясь к Истедгаде. К церкви, к шлюхам.
Через десять минут я встречаюсь с Джимми. На Старой площади, у фонтана. И ему я даю коробку от диска. Он в хорошем настроении. Говорит, познакомился с новой девушкой. В баре работает, у нее большая толстая задница. Огромная задница. И она готовит. Джимми смеется. Я спрашиваю, не знает ли он Хеннинга, друга Карстена? Он качает головой.
Я покупаю две рубашки. Магазин только открылся, продавец стоит у кассы, засовывает диск в магнитофон с таким видом, словно сейчас свалится и уснет. Потом еду домой, готовлю новую порцию. Надо успеть до двенадцати. Я всегда с трудом успеваю на автобусе. Но тощий парень, ловящий такси, слишком сильно смахивает на наркодилера.
Карстен ждет на скамейке. Отдает мне конверт, тот топорщится от купюр.
Спрашивает, не передумал ли я насчет Хеннинга. Киваю. Обходим Глиптотеку, Хеннинг стоит, потирая красные руки. Моих лет, грязная замшевая куртка, впалые щеки. Когда Карстен о нем рассказал, я подумал: как в плохом кино. Я подумал: стукач, диктофон в сапоге. Но парень, стоящий напротив, – настоящий джанки.
Задувы и признаки гепатита.
– Карстен говорит, ты хочешь раскидывать?
– Спрашиваешь, конечно хочу.
– Карстен говорит, тебе можно верить.
– Можно.
– Надеюсь, Карстен прав.
Протягиваю им по диску.
«Три тенора в Лейпциге».
«Три тенора в Мюнхене, Рождественский концерт».
Последний достается Хеннингу.
– Увидимся на этом месте ровно в три. Не без четверти и не четверть четвертого.
Снова встречаюсь с Джимми, на этот раз в парке Орстед. Снова обмениваемся дисками. Он говорит, что поспрашивал о Хеннинге, не знает ли кто. Знают. И говорят разное. Одни – что он нормальный пацан. Другие – что на него нельзя полагаться.
– Жульничает?
– Люди скажут все, что угодно, лишь бы самим получить работу. Такова жизнь. Испытай его.
Мы в задумчивости стоим, глядя на уток, затем расходимся.
Захожу в утренний магазин, обмениваю брюки и покупаю черную рубашку. Черная рубашка всегда пригодится. На выходе я думаю, что нелишнее теперь и утюг купить. Иду в кино, фильм о летчике-истребителе, который сбил самолет своего лучшего друга, из-за того что его ослепило солнце.
Мы с Карстеном снова на скамейке у Глиптотеки. В десять минут четвертого Хеннинга все еще нет. Когда Карстен нервничает, он зевает, дергает мочку уха, чешет руку. Он поручился за парня и теперь нервничает. Давай прогуляемся, предлагаю я.
Карстен снова говорит, что Хеннинг придет. Обязательно придет. Я встаю, и он за мной. Если Хеннинга взяли, здесь не стоит оставаться.
Мы обходим Глиптотеку. Карстен рассказывает мне о героине. Истории о героине. Он много их знает.
О том, что в восьмидесятые доза стоила столько же, сколько девочка на Скельбэкгаде. И цены совпадали в течение многих лет. Росла цена на джанк, росла цена на девочек. Им нужно было обслужить всего трех клиентов в день. Дневная, вечерняя и утренняя доза, так все и шло. Если у какой-нибудь имелся мужик, она брала дополнительно одного-двух клиентов. Это было еще до того, как дилеры разобрались, что они здесь главные. Что цену можно и поднять. Что девочкам придется всего лишь поработать побольше. Рынок продавца…
Он виновато на меня смотрит:
– Послушай, я…
– Все нормально.
Он смеется над собой, я смеюсь вместе с ним. Теперь я дилер. Нет места высоким чувствам. Называй вещи своими именами.
– Ты знаешь, где найти Хеннинга? Если его, конечно, не забрали?
– У него есть девушка, но… Можем попробовать к ней наведаться. Но у них то так, то сяк… Вряд ли она нам обрадуется.
– А меня очень волнует, обрадуется она или нет.
Если только Хеннинг не курит сейчас в полицейском участке любезно предложенную следователем сигарету, попутно описывая мои волосы, штаны и ботинки, то он шляется по городу с десятью моими дозами. Я зол, сам на себя зол. Вообразил себя хозяином мира.
Обойдя Глиптотеку два раза, мы вдруг увидели Хеннинга на скамейке. Он быстро и громко заговорил:
– Прости, чувак. Потерял три чека. Пересчитал деньги, понимаешь, все прикинул, прикинул в уме. Похоже, три чека улетело. Из кармана выпали.
– Выпали из кармана?
– Просто не понимаю, куда они могли деться. Может, меня кто развел, но…
– Давай оставшиеся деньги.
Он вынимает пачку денег из куртки, протягивает мне.
– В коробку надо было положить.
– В какую?..
– Три тенора! От диска, идиот.
Он вынимает из кармана коробку и собирается засунуть туда деньги. Я отбираю у него все, бросаю в пакет с купленной одеждой.
Он ломает руки.
– Остальное ты продал?
– Да. Да, хороший товар, он сам себя продает. Шикарно, черт, ты бы видел, как все разлетелось. Мне б машины продавать.
– Давай-ка притормози.
Не то чтобы кто-нибудь остановился или косо посмотрел, но я стою у Глиптотеки с двумя пацанами. Не надо быть криминалистом или медиком, чтобы понять: эти ребята – наркозависимые.
Сажусь на скамейку, рукой похлопываю по сиденью рядом. Хеннинг садится и, похоже, собирается продолжить. Я поднимаю руку:
– Ты потерял три чека, три моих чека?
– Да, я потерял, я ж говорю, не понимаю как. Потому я и опоздал. Все обыскал. Думал, где обронил, может.
– Слушай сюда. Даю тебе еще один шанс. Завтра. Если ты меня подведешь, если мне покажется, что ты меня дуришь, я наведаюсь к твоей подружке с пятью здоровенными гамбийцами. И они ее будут юзать, пока я не получу свои деньги. И поверь, я за ее жизнь не дам и ломаного гроша. Когда вернешься домой, найдешь там только кровь, зубы и волосы. Понял?
53
Меня будит какой-то незнакомый звук в квартире. Первое, что приходит в голову, – ограбление. Сразу думаю о героине. О моем славном героине, кто-то вломился, кто-то хочет им завладеть. Они его учуяли. Знают сколько. У джанки носы лучше, чем у собак, они знают, сколько его у меня. Они ходили под окнами и принюхивались, а теперь стоят в моей кухне. Я оглядываю спальню. У настоящего дилера была бы бейсбольная бита, нож, пистолет. Что-нибудь острое. Беру с тумбочки лампу, выдергиваю шнур из розетки, поднимаю над головой и медленно открываю дверь.
Никого.
Никого в гостиной, никого на кухне. Снова этот звук, я опускаю глаза.
Нога Мартина скребется о линолеум, изо рта идет пена.
Мы едем в такси. Я держу его голову, рукавом вытираю рот, его тельце дрожит. Глаза вялые, красные, вот они закатываются, видны одни белки. Я трясу его, пока снова не показываются зрачки, но он не фокусирует взгляда.
Шофер едет и на желтый, и на красный. Собранно, откинувшись назад, держит руль обеими руками. К радио даже не прикоснулся, как мы сели. А по радио идет викторина, проигрывают музыкальные отрывки, а слушатели должны звонить и отгадывать, что это. Он проезжает еще один красный. Нам вслед гудят. Шофер не сразу решился нас взять. Молодой пакистанец со шрамом на щеке. Я смотрел на него сквозь стекло, стучал, а он тупо таращился, не знал, что делать. Затем вышел, обежал машину и помог залезть.
В больнице мне задают кучу вопросов. На бо́льшую часть я просто отвечаю «да» или «нет». Врачу лет сорок – сорок пять, ранняя седина. Мартин лежит на каталке, которую везут санитары, я держу его за руку, идем быстро, но на бег не переходим, а врач все задает вопросы. Где-то позади слышны звуки шагов медсестры.
Врач спрашивает:
У него есть на что-нибудь аллергия?
Нет.
Аллергия на орехи?
Нет.
Он ел орехи сегодня или вчера?
Я не знаю.
Аллергия на пенициллин?
Молоко, рыбу, глютен?
Пылевых клещей?
Кошек?
Собак?
Он получает какое-то лечение?
Нет ли у него диабета?
Он ел?
Курицу, морепродукты, сырые желтки?
Что он ел? Ел что-нибудь необычное?
Страдает эпилепсией?
Нарколепсией?
Его завозят в палату, в горло засовывают шланги, делают уколы. Много уколов. Забрали кровь и впрыснули в него прозрачную жидкость.
Один ил врачей стоит между мной и Мартином, пытаясь поймать мой взгляд, он спрашивает:
А он мог выпить из какой-нибудь бутылки с моющими средствами? Вы нашли его на кухне, верно? Вы ведь там храните моющие средства? Да, под раковиной. Как обычно. Все там держат. Попытайтесь вспомнить, не стояли ли бутылки на полу? Какая-нибудь открытая? Какие там стояли бутылки: «Аякс», «Хлорин»? Что-нибудь на полу стояло? Вы должны вспомнить, это очень важно.
Я думаю.
Думаю.
Вижу белый порошок. Вижу, как Мартин его находит. Ищет что-нибудь поесть. Он уже большой мальчик, сам может себе завтрак приготовить. Чего будить папу, он и сам поест. Работает телевизор, звук на минимуме, чтобы не разбудить папу. Притащил одеяло, сидит на диване. И вот он проголодался. Долго искал хлеб, может, хлопья. Что-нибудь пожевать. Залез на стул и ищет. Приходится встать на цыпочки, что-то там в коробочке? Любопытство, вечное любопытство. И вот достал. Так, наверное, и было. Может, принял за сахарную пудру.
Сунул в рот. Голодненький, целую горсточку.
Я качаю головой. Нет. Не знаю. Не знаю, что он мог выпить, «Хлорин» или что-то еще.
Врач смотрит на меня, прямо в глаза, ну просто гипнотизирует. Как будто если он достаточно долго будет смотреть мне в глаза, все ответы на его вопросы проступят у меня на лбу. Отворачивается, меня больше нет.
Аппарат работает с каким-то чмокающим звуком. Тело Мартина выгибается на носилках, затем снова замирает. Медсестра берет меня за локоть.
Я сижу в коридоре. Меня попросили подождать снаружи. Так, дескать, проще будет. Они возятся уже двадцать минут. Еще один врач вошел в палату. Снова вышел, как будто куда-то спешит. Я сижу. Смотрю на руки. Потею. Если он умрет, думаю я. Если он умрет…
Иногда приходится прислушиваться к собственной лжи.
Он поправится – это первая.
Вторая: не важно, что он съел. Ему просто сделают промывание желудка. Так всем делают, это не важно. Я верю в это. Я правда в это верю.
Я верю в это.
Если он умрет…
Я знаю: если вбежать в палату, закричать, что ему нужен укол нарканти, или налоксона, или другого антидота к героину…
То это конец, ничего уже не исправишь. Я его больше не увижу. Он больше не будет моим, он больше не будет ничьим.
Ночью я сижу на стуле рядом с его кроватью, работает аппарат искусственного дыхания. Рано утром он открывает глаза и осматривается, взгляд все еще не фокусируется. Я целую его в лобик.
Через три дня мы возвращаемся домой на такси. Голос у него охрипший из-за всех этих шлангов. Всю дорогу говорит о том, что ему хотелось бы съесть: пиццу, гамбургер, картошку фри.
Я сказал: да. Да, солнышко, все будет, не хватает мужества объяснить, что ему больно будет есть, что пару дней придется питаться супом. Под стулом на кухне я нахожу бутылку с отбеливателем, она опрокинута, жидкость вытекла и оставила на линолеуме нестираемое пятно. Завернувшись в одеяло, он смотрит мультик.
54
Веду Мартина в садик. Он очень хотел. Сказал, что хочет. Можешь не ходить, если не хочешь. Под мышкой новый радиоуправляемый автомобиль. Развивает скорость до тридцати километров в час, на коробке было написано. Это правда, пап? Да, малыш. Полдороги он несет его, потом ему становится тяжело, и дальше несу я.
– Не забывай, что, если берешь игрушку в садик, другим тоже надо дать поиграть. Ладно? Такие правила.
Он кивает. Идем дальше. У меня уже плечо заболело, даже не понимаю, как он его так долго нес. Большой красный гоночный автомобиль с антенной на полметра. Сбоку реклама нефтяной компании и компании по производству табака. Дороже не бывает, если только на бензине. Для взрослых мужчин, у которых в детстве такого не было.
Мартин останавливается. Я по инерции прохожу пару шагов, и только тогда замечаю, что он стоит. Выглядит весьма решительно. Злой, расстроенный. Озабоченный. Всё вместе.
Опускаюсь на корточки:
– Что случилось, солнышко?
– Не пойду в садик.
Он еще охрипший, с голосом уже лучше, но еще охрипший. Спрашивал: а я теперь буду говорить, как дядя Ник? Нет, малыш, это пройдет.
Стоит, скрестив руки.
– Почему, солнышко мое? Почему ты не пойдешь?
– Не хочу, и все.
– Хорошо, лапонька, не ходи. Я просто подумал, что…
– Они ее сломают.
– Машину?
– Да. Они же ее сломают.
– Ну и ладно, солнышко ты мое…
– Но я…
– Я тебе другую куплю.
– Правда?
– Обещаю, малыш. А если и ту сломают, я тебе куплю третью.
Он опускает глаза, все еще сомневается.
– А если и третью сломают… куплю тебе четвертую.
– А если четвертую тоже сломают, а, пап?
– Куплю пятую.
Он смеется.
Мы идем, держась за руки.
Я ставлю машинку и вынимаю из сумки пульт. Машина едет перед нами по тротуару, перепрыгивая через неровные плитки.
Нас встречает Мона. Как будто ждала. Берет меня под руку. Такое легкое прикосновение, что непонятно, дотронулась ли она на самом деле.
– Ну как он, выздоровел? – спрашивает.
– Ему лучше…
– Я так расстроилась…
– Да., у меня был просто шок.
Мартин вбегает в группу. Меньше недели прошло, а ребята уже встречают его так, словно он уезжал в Америку. Пахнет пластилином и жженой пластмассой от термомозаики, которую они как раз обрабатывают с помощью утюга.
Ставлю машинку на пол, даю Мартину пульт. Он сразу отдает пульт девочке в очках и с хвостиками.
Машина натыкается на стулья и столы.
– Надо было мне позвонить, – говорит Мона.
Смотрит серьезно. Только сейчас я замечаю, какие темные у нее глаза. Скорее даже черные, чем карие.
– Мне как-то было не до…
– Да нет, – говорит она, – я не имею в виду… Я, может, могла бы помочь чем-то. Ну, если…
– Мы справились… но все равно… спасибо.
Улыбаюсь ей:
– Я позвоню.
– Нет, – говорит она.
– Нет?
– Нет, если только я не позвоню первая. Твой номер висит у нас на доске.
Отправляюсь в город. Не работал четыре дня. В парке встретился с Карстеном и Джимми, обменялись рукопожатиями, горсть пакетиков для каждого, хватит на несколько дней. И бегом обратно. Сидел с Мартином. Смотрел на него, спящего. Ранним утром немного дремал, пока не начинались мультики. Первые два дня ему нравилось есть мороженое. Он все спрашивал про вафли, вафли было нельзя. А потом я дал ему спагетти со шпинатом и горой сыра. Сосиски на обед Мягкая пища, чтобы горло не болело.
Поделив утреннюю дозу между своими неграми, я пью кофе в кафе. Иду в магазин игрушек на Стрёгет. Покупаю новый радиоуправляемый автомобиль. Джип размером с небольшую собачку. Черный, с большими хромированными бамперами. Если от первого что-нибудь останется, мы сможем поиграть в гонки.
Рядом с парком есть один съезд. Его когда-то построили, потом перегородили, получилась большая ровная площадка, там мы и покатаемся. Куплю футболки, шлемы, «ламборгини», «феррари». Полный набор.
55
Пришел врач, и она преобразилась. Чистая одежда. Прическа.
Это запомнилось лучше всего. Как она поменяла подгузник белому младенцу.
Он тихо лежал, а она его помыла и надела чистую одежду.
Как будто он больше не был собой. Больше не был никем.
Это запомнилось лучше всего.
Мы не говорили о братике.
После похорон мы о нем не говорили. Никогда.
Коляска исчезла.
Игрушки, соски, всего было немного. Исчезли.
Она пошла лечиться от алкоголизма. Выяснила, что можно жульничать, если, например, принимать вместе с препаратом антигистамины или сразу после пить кислую пахту. Выходила на улицу и прочищала желудок. Но в итоге бросила пить, иногда запивала, но все реже и реже. Она заменила алкоголь таблетками. В большом количестве. Кучи разных таблеток. Всегда их любила, но, бросив пить, по-настоящему влюбилась. У нее было два врача. Я знаю, потому что ходил с ней. Причесанный. В чистой одежде. Это когда мы ходили к доктору Шмидту. Не к ее врачу, доктору Поульсену. Тот выписывал ей все, что нужно, и даже больше. Но этого было мало. Доктор Шмидт выписывал серьезные препараты.








