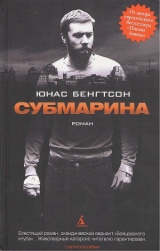
Текст книги "Субмарина"
Автор книги: Юнас Бенгтсон
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Юнас Бенгтсон
СУБМАРИНА
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Йоргену Кьеру
Томасу Расмуссену
Сейит Ёзтурк
Касперу Расмуссену
Издательству «Арт-Пипл»
Юнас БенгтсонКопенгаген март, 2007.
Мокрая субмарина: метод пытки, при котором голову человека удерживают под водой до наступления удушья.
Пролог
Утром мы проснулись, он лежал так тихо.
Утром мы проснулись, он лежал так тихо.
Утром мы все проснулись, утром мама вышла из комнаты, где проспала всю ночь, а он лежал так тихо.
В своей коляске, в прихожей.
Такой белый.
Мама проспала здесь всю ночь, но ничего не слышала.
Нечего было слышать.
Он лежал так тихо.
У мамы случился шок, когда она нашла его.
Мама тоже сидела тихо-тихо, она была в шоке. Несколько часов.
Позвонили мы. Мама, в общем-то, не могла.
Но было надо. Надо было позвонить.
Мама сидела с ним, хоть он лежал так тихо, пыталась покормить его грудью.
Она же в шоке была.
Утром мы проснулись…
* * *
Мы сидим в поезде. Мужчину напротив зовут Йон. Может, мы отец и сын, может, мы друзья. Но проходящие мимо люди видят только двух незнакомцев, сидящих друг против друга.
Перед тем как сесть в поезд, Йон сказал:
Давай обойдемся без сюрпризов.
Мы ведь обойдемся без сюрпризов?
Я кивнул. Затушил сигарету.
И мы сели. И больше не разговаривали.
Йону пятьдесят с хвостиком. У Йона борода и усы с проседью. Йон на работе.
Я смотрю в газету, лежащую рядом, Йон смотрит в окно.
Краем глаза Йон поглядывает на меня.
Я здесь из-за Йона, это он нашел бумаги. Я почти что уверен.
Но он ничего об этом не сказал.
Выходим на Центральном вокзале. Йон идет рядом, очень близко. Стоя вплотную, ждем автобуса. В автобусе Йон пробивает билетик за двоих. Мы снова сидим рядом. Был дождь.
Заходим в кладбищенские ворота, идем между длинными рядами могил: свежие могилы, могилы постарше.
Из бетонного цоколя, рядом с лейкой и маленькими граблями, торчит кран.
Мы направляемся к безымянной могиле, к зеленому прямоугольнику, окруженному низким кустарником.
Он здесь? – спрашивает Йон.
Я киваю.
Трава неухоженная, с желтыми проплешинами. Закрываю глаза, пытаюсь вспомнить, где он похоронен. Я не был здесь с тех самых пор. Я с тех пор о нем не думал. Не думал много. Я его, в сущности, не знал. Так и сказал, когда меня спросил тюремный священник. Это уже после того, как они нашли бумаги. После того, как обозвали меня лжецом, добивающимся освобождения. После того, как нашли для меня крошечное, малюсенькое такое оправдание.
Я не думал о нем. Видел перед собой его лицо, когда сильно уставал. Только тогда. И всё.
До бункера.
Бункер. Так они это называют. На воле это называется камерой одиночного заключения. Тут сидишь в ожидании приговора, и тут сидишь, когда уже приговорили, когда ты сделал что-то, чего делать было нельзя. Наркотики или насилие. Одно из двух. Я сидел уже второй раз. В ботинках без шнурков и под таким высоким окном, что до него не достать. Солнце заглядывало на полчаса в день. Когда проходило над стеной напротив. По-моему, на полчаса. Это догадка. Может, и больше. У меня там часов не было: слишком многие пытались процарапать дыру в артерии железным штифтиком от застежки. Меня будили в восемь, завтрак на подносе. В двенадцать охранник приходил снова, обед на подносе. В шесть кормили ужином на подносе. Оставшееся время я гадал. Я мог жать на тревожную кнопку, долго жать. Спрашивать, который час. Мог.
Если я буду так делать слишком часто, они забудут про ужин. Это я узнал еще до того, как попал сюда.
Бункер. Сначала Ана. Ночью, днем. Ее лицо. Затем мой брат. С потолка.
Мне больше не требуется уснуть, чтобы увидеть его.
Такого маленького.
Такого маленького.
У меня два брата. Один с именем, которое мне теперь без надобности.
И один оставшийся без имени.
Здесь он похоронен? – спрашивает Йон.
Я чувствую на себе его взгляд.
Копаюсь в кармане, ищу сигареты. Передо мной маленький неровный прямоугольник, засеянный травой.
Много раз копали. Направо, пару метров вглубь. Как мне помнится. Ищу спички, Йон протягивает зажигалку. Глубоко затягиваюсь.
Сначала сквозь брюки я ощущаю сырость, затем чувствую ствол дерева за спиной. Открываю глаза. Вокруг все зеленое, во рту – земляной привкус. Йон сидит рядом на корточках.
– Ты… Ты упал.
Медленно поднимаюсь на ноги. Йон протягивает мне руку, я не беру.
Идем по дорожке к выходу, калитка захлопывается за нами с металлическим клацаньем.
В автобусе мы оба молчим. На Центральном вокзале Йон смотрит на часы, говорит, что обидно будет вернуться раньше времени. Пьем кофе в привокзальном кафе. Люди перекусывают или читают газеты. Две пожилые женщины едят пирожные.
– Я подойду к стойке?
Йон смотрит на меня, затем кивает. Я спрашиваю девушку за барной стойкой, есть ли у них телефонный справочник. Новый справочник. Она вынимает кусок пирога из маленькой печки, висящей на стене, кладет возле пирога большую ложку сметаны, ставит на стойку. И только тогда поднимает глаза. Я повторяю вопрос. Порывшись под стойкой, она протягивает мне справочник. Этого года, и ни капли кетчупа на обложке.
– Я верну.
Сажусь рядом с Йоном, листаю.
– А пирог аппетитно выглядит, – говорит он. – Хочешь кусочек?
Ана. Не Анна. Ана. Фамилия иностранная. Такая не затеряется среди прочих.
Я провожу пальцем по странице.
– Я бы съел кусочек. Хочешь?
Может, я неправильно помню фамилию. Одна буква, и всё. Я знаю, что это не так, но все же переворачиваю страницу.
– Ты обязательно должен попробовать пирог.
К тому времени, как Йон возвращается с двумя кусками пирога, я уже положил справочник. Я искал ее, ее маму, ее младшего брата Ивана. И не нашел никого. Никого с такой фамилией.
Йон снова сидит напротив меня в поезде. Почесывает коленку. Уже не такой напряженный.
Понимает, что я не сбегу. Некуда мне бежать.
– Если хочешь поговорить… – И он наклоняется ко мне.
Йона считают правильным. Йон правильный, говорят. Он из охранников-старослужащих. Йон не шмонает больше, чем необходимо, не терроризирует одного и того же беднягу только оттого, что не любит его. Йон следует правилам. Он не обращает их ни в твою пользу, ни против тебя. Йон говорит с тобой вежливо.
И все же никогда я не видел в нем столько человечности, как теперь, когда он склонился ко мне, взгляд провоцирует на откровенность. Я отвожу глаза, смотрю на проносящийся пейзаж. Деревья, кусты, промышленные здания из красного кирпича. Городишки, домишки – все быстро проносится мимо.
Иван
1
Спортцентр находится на втором этаже старого фабричного здания. Дверь открывается, и парень спускается по лестнице, смотрит вокруг мутным взглядом, ничто в мире его не волнует.
Здоровяк, накачанные мышцы, очень мало жира. Сквозь белую футболку просвечивает татуировка с пауком, почти на весь торс. Паутина опутывает шею, частично скрываясь под коротко подстриженными светлыми волосами.
Он почесывает татуировку на шее, затем останавливается рядом со мной, смотрит в землю.
– Ну? – говорит он.
Не «куда?» или «ну что?», просто «ну». Глаз не поднимает. Как и с наркотиками, это рынок продавца, и тот может вести себя, как ему заблагорассудится. Я – покупатель, он – продавец. Такой был вежливый, когда мы присматривались друг к другу в раздевалке, а теперь у него кое-что есть, и это кое-что нужно мне. Рукой делаю ему знак следовать за мной. Идет позади, я слышу, как он сплевывает на землю.
Обходим здание. Дверь в фабричный вестибюль открыта, свет проникает сквозь грязные окна под потолком. Ржавое железо на полу, одиноко стоят большие грязные машины.
– Ну, ты берешь?
Тут он замечает около двери Кемаля. Рядом с Кемалем стоит здоровенный борец из спортцентра. Мужик с татуировкой бросает на меня короткий взгляд. Затем обращает все внимание на Кемаля. Хочет что-то сказать, но слово берет Кемаль:
– Не нужно сбывать у меня.
Парень медленно кивает, рука на полпути к спортивной сумке. Кемаль делает шаг вперед и пинает его в живот. Парень складывается и падает. Кемаль поднимает сумку и швыряет ее борцу. Его зовут Сами, здоровый парень, сидит на стероидах. Выглядит пугающе, но я знаю, что он здесь для украшения. Когда Кемаль был помоложе, он был чемпионом Скандинавии по тайскому боксу. Пару лет удерживал титул, потом потерял интерес. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так быстро двигался.
Кемаль снова совершенно спокоен.
– Ты не работай у меня, ладно? Это просто.
Он разговаривает таким тоном, словно просит положить еще сахара в кофе.
Кемалю прекрасно известно, что в его центре принимают стероиды. Это видно по телам, по мускулам, иногда по глазам, если человек не может с собой справиться. Ребят выгоняют, потому что они вдруг съезжают с катушек из-за какой-нибудь ерунды. Не могут взять вес и орут, разбрызгивая слюну. Кемаль знает, кто принимает, кто продает и что продают. Ему приходится с этим мириться, такова жизнь. Он и сам с этого стрижет понемножку, помещение-то его. Но это совсем не то, что пустить рынок на самотек.
Парень встает с бетонного пола. Медленно кивает, он понял.
– Итак, мы тебя больше не увидим, правильно?
– О’кей, хорошо, да…
Парень почесывает короткую щетину на затылке, ласкает паука.
– Я могу уйти?
– Нет.
– Нет?
– Я должен убедиться, что ты понял.
Кемаль медленно к нему приближается. Борец не двигается, стоит у двери. Выходя, я киваю ему:
– Увидимся.
Солнце режет глаза. Пошарив в кармане, вытаскиваю пару поцарапанных темных очков.
До меня доносятся звуки первых ударов из фабричного вестибюля. Глухих ударов, усиливаемых акустикой пустого помещения.
Захожу в дисконтный магазин у железной дороги, сдаю пустые бутылки и двигаюсь вглубь магазина, к пиву. Беру пять бутылок. Заплатив, кладу в сумку, сверху – полотенце, чтобы не звенели.
В гриль-баре покупаю две шавермы. На стоянке позади меня громко смеются. Куда пойдем? Что будем делать?
Молодые ребята в спортивных костюмах, с серебряными цепочками, готовые на все.
Меня они не замечают. Я так долго прожил в этом квартале, что сливаюсь с пейзажем.
Жуя шаверму, проглядываю старую, двухдневной давности, газету. Молодому пакистанцу, свежеиспеченному отцу и владельцу магазинчика, плеснули в лицо кислотой на Аматере. Покупаю еще одну шаверму и запихиваю ее в себя. Я не голоден, я почти никогда не бываю голодным. Возвращаюсь в общагу. Дорога домой всегда длиннее. В мышцах усталость, чувство тяжести. Приятное чувство, как будто сделал что-то полезное.
Каждый день я вижу одних и тех же людей.
Полную даму с безупречным макияжем, вид у нее всегда такой, будто в это самое мгновение ее настиг инсульт: взгляд бессмысленный, в глазах – пустота. Стоит так, а сигарета дымится между пальцами или в уголке рта. Затем уходит. Иногда я прохожу мимо, когда она передвигается, шевелит своими килограммами. Сегодня стоит.
Здание общаги – из красного кирпича. Его видно издалека, красная четырехугольная коробка.
Общага – это не общага. Это называется социальным жильем. Соцжилье. Задумано как временное пристанище для тех, кому некуда идти. Пристанище. Очень позитивное слово. Пристанище. Временное. Все здесь временное. Не такое место, где задерживаются надолго. Содержит самый минимум удобств для людей, готовых двигаться дальше. В комнате – минимум квадратных метров, в кровати – минимум комфорта. Всей кухни – плита на две конфорки и холодильник.
Я прожил в общаге полтора года. Поднимаясь по лестнице, стараюсь не задевать сумку, чтобы не звенеть бутылками. Прохожу по коридору, отпираю дверь как можно тише.
Достаю из сумки пиво, из блока под кроватью – сигареты. Я купил их у парня, который торговал прямо из багажника. Кемаль стоял рядом и смеялся, он был прав, у этого парня действительно, что называется, «special price for you» [1]1
Специальная цена только для вас (англ)
[Закрыть]. Датчанин, лет тридцати с хвостиком, с намечающейся лысиной. Невысокий коренастый парень, хорошо смотрелся бы у барной стойки. Машина стояла на площадке, засыпанной щебенкой, у спортцентра, с работающим мотором, с багажником, под завязку набитым польскими сигаретами.
Сидя на подоконнике, пью тепловатое пиво. Я насчитал одиннадцать красных машин, семь алкоголиков, четырех наркоманов и два велосипеда с детскими сиденьями. И вот идет он, кульминация вечера.
Тащится со своей детской коляской.
Смех, да и только.
В узких леопардовых рейтузах, в куртке из белого искусственного меха.
И такой он смешной, что ты будешь смеяться, пока он не трахнет какого-нибудь ребеночка во дворе за мусорным контейнером.
Он ведь такой безобидный.
Чудик, гном.
Он ничего не делает, оставьте его в покое.
Нет среди нас безобидных. Просто у некоторых нет шанса навредить.
Для этого требуется доверие, для этого требуется инициатива, для этого требуются возможности.
А возможности такого вот старого, чокнутого, похожего на клоуна старика, бесспорно, ограниченны. Он бездомный с домом, повезло, предоставили жилье, раз уж у города все еще есть что предложить. Он собирает старые вещи. Иногда пропадает на двадцать минут, иногда – на несколько часов, вне зависимости от того, как далеко ему приходится отправляться за своей добычей. Я видел его со сломанными клетками для птиц. Садовыми гномами без голов. Зонтиками, ботинками, старыми газетами, разлезающимися чучелами. Хочется закричать на него, потому что это безумие, потому что нельзя быть настолько сумасшедшим, потому что загнанных лошадей пристреливают. А клоун везет в коляске старый разбитый унитаз. Белый, фарфоровый, выломанный, с бетонными сколами у основания. Дощечки нет, вода из унитаза облила коляску с одной стороны. Клоун исчезает в воротах.
2
После вынесения приговора у меня было ощущение, будто я только что очнулся. Я понимал, что произошло, но ко мне это имело мало отношения. Парня, что я ударил, звали Йон. Это выяснилось в ходе слушания. Моложе меня года на два. Меня спросили, за что я его избил, может, он задирался. Попросили изложить мою версию происшедшего. Я сказал, что не помню. Когда меня взяли, я спал, привалившись к дереву. По дороге в участок дала себя знать боль в костяшках. В камере я хорошо спал.
Ана порвала со мной.
Неделю я не чувствовал вкуса соли. Что бы я ни ел, мне недоставало соли. Соли как будто вовсе не было. Все равно что есть вату или опилки. Я много пил. Иногда в одиночку, в одиночку пил, в одиночку орал. Иногда в городе.
Мне показали фотографии Йона. Фотографии, запечатлевшие его состояние, то, что я с ним сделал. Фотографии молодого человека с крайне малым количеством зубов во рту, всего окровавленного. Во время слушания он говорил тихо, ему трудно было издавать какие бы то ни было звуки из-за челюсти, скрепленной стальной проволокой. Он рассказал, что способен есть суп, лишь запрокинув голову, вливая жидкость в рот. Один глаз у него дергался, тик усиливался, если он смотрел на меня. После оглашения обвинительного приговора он улыбнулся, продемонстрировав новенькие белые зубы. Когда он услышал, что мне дали всего восемнадцать месяцев, у него снова начался тик.
3
Просыпаюсь ранним утром, меня будит звук захлопнувшейся в конце коридора двери.
Лежу на спине, наблюдаю за тем, как в комнату проникает свет. Падает на потолок, трещинки будто растяжки на коже. А дом-то, похоже, просел. Раньше я их не замечал. Думал, мне все здесь знакомо. Комната маленькая, бесконечно маленькая. Заходишь в дверь – будто пальто надеваешь.
Лежа здесь, вне сна, вне бодрствования, трудно не видеть его лица.
Очень маленького, взгляд бегает, ищет мои глаза.
Маленькая головка с большими глазами, одеяльце голубое.
Трудно не видеть ее.
На полшага передо мной на улице звук ее каблуков.
Поворачивает голову. Смеется?
Да, это улыбка, точно.
Я укладываю пустые бутылки в спортивную сумку, на полотенце, сверху кладу треники, застегиваю. Запираю за собой дверь. Стены в коридоре светло-зеленые и грязные, на полу – темно-зеленый ковер из синтетического войлока. Откуда-то слышен шум телевизора, громкий смех, записанный на пленку.
Я почти у лестницы, когда Тове распахивает дверь ногой. Смотрит на меня, кашляет в кулак. Это общага Тове. Не ее собственная, она управляющая, но сомнений в том, кто здесь хозяин, не возникает. Ей за шестьдесят, красные пятна на лице можно принять за сильную экзему, но живущие здесь знают, что это рак. Если подойти поближе, поневоле обратишь внимание на сладковатый запах отмирающей кожи. Я улыбаюсь ей, она мне нет. По-моему, ей недостает скалки или утюга в руке – реквизита другой эпохи.
– Это ты шумишь?
Не думаю, что она услышала звон бутылок в сумке.
– У кого-то телевизор…
– Нет, вчера, ночью. Меня разбудили несколько раз. Кто-то громко говорил и смеялся.
– Не я.
– Нет, тебя никто и не обвиняет. Ты знаешь кто? В седьмом номере?
– Я крепко сплю, так что…
– Скажи мне, если снова услышишь, как они шумят.
Я ухожу, осторожно придерживая сумку.
Жаркий, тягостный летний день. Шел дождь, небо до сих пор серое. Иду из Биспебьерга [2]2
Биспебьерг – район Копенгагена. (Здесь и далее прим. перев.)
[Закрыть]в сторону центра, десять минут на своих двоих, а я все еще на Северо-Западе. Время от времени я чувствую прикосновение редких солнечных лучей.
Эрнст говорит, что я выгляжу уставшим. Он насаживает кольца на штангу.
Эрнсту между пятьюдесятью и шестьюдесятью, на нем тяжелоатлетический пояс. Мускулы на ногах уже не те, но грудная клетка просто огромная. На нем очки с толстыми прямоугольными стеклами, кадык размером с теннисный мяч.
Он говорит: поспи, хорошо питайся, Ник, или не наберешь вес. Ешь и спи.
Уж не Эрнсту советы-то давать. Ни по поводу здоровья, ни по какому другому поводу.
У Эрнста большое сердце. Не в том смысле, что он добрый и заботливый.
А в том смысле, что сердце заполняет всю его грудь. Он был одним из первых, кто занялся бодибилдингом в начале семидесятых. Еще до шварценеггеровского «Качая железо». Эрнст ходил в «качалку», брал очень большой вес. И глотал все стероиды, какие удавалось заполучить Дозы были немалые, и принимали их не по часам, как теперь. Тогда глотали все. И это едва ли было незаконно. У Эрнста сиськи, живот висит не только из-за жира, но и из-за повреждения брюшных мышц. Эрнст однажды умрет, у него большое сердце и нет денег на дорогие операции. Эрнст по-прежнему много тренируется. Тренируется, потому что не знает, чем еще заняться, и чтобы тело не пришло в упадок. Он больше не принимает стероиды, даже таблетка от головной боли может его убить. Я никогда не смотрю, как он берет вес, не хочу видеть, как он умрет в жиме лежа.
Он говорит: поспи, Ник. Ты не спишь, по тебе видно, что не спишь.
Покупаю пиво. Ем шаверму. Возвращаюсь в общагу.
Каждый день одни и те же люди.
Пьяницы у магазина прислонились спинами к красной кирпичной стене. Всегда одни и те же. Сегодня нет гренландца. Но мадам без мизинца здесь. И двое бывших рабочих, один в строительной каске, другой с собакой, она бегает без поводка и обнюхивает пустые бутылки. Кличка Грундтвиг. Я слышал, как он звал ее.
Я пытался вычислить закономерность. Видя их каждый день, пытался вычислить, когда приходит гренландец. Приходит мадам без мизинца вместе с собакой или с мужиком в каске. Я не думал о том, что у них есть дела или другие магазины, какие-нибудь любимые лавочки. Я смотрел на это как на уравнение.
Как на теорию хаоса. Я ломал голову, пока до меня не дошло: хоть здесь и есть закономерность, мне никогда ее не понять.
В общаге, поднимаясь по лестнице, я придерживаю сумку.
Благополучно миную Тове, идет сериал, я знаю, она смотрит. Может, гладит, она часто гладит. Курит, смотрит сериалы, гладит.
Вставляю ключ в замок, собираюсь повернуть, но останавливаюсь. Последняя дверь в конце коридора. «Кристиан Мэдсен» – написано на табличке, которую он сам повесил. Хлопанье этой двери будит меня каждое утро; его шаги по коридору, я их слышу.
Я стучу костяшкой среднего пальца. Как можно громче, но чтобы Тове не услышала и не вышла.
– Сегодня он вернется поздно.
Голос Софии за спиной. Я не слышал, как открылась дверь ее комнаты.
– Когда?
– Не знаю, но позже.
– Ты что, слушаешь шаги в коридоре, а?
Она молчит, на губах – едва заметная улыбка.
– Ты что, все шаги узнаешь?
– Не все…
Ее улыбка становится шире.
– Пойдем ко мне, Ник?
София на несколько лет меня старше, ей слегка за тридцать. По ней не скажешь, она очень худенькая, под летним платьем маленькие упругие грудки, лифчика нет. Волосы практически черные, до плеч.
Я прохожу пять шагов, отделяющих меня от ее комнаты. Она бросает взгляд в коридор, смотрит, нет ли Тове, и закрывает за нами дверь. Комната Софии – близнец моей, те же двенадцать-тринадцать квадратов, но зеркально расположенная. Однако здесь все по-другому. На стенах картины: плакаты в рамках, на них кувшинки и купающиеся дети. На обеденном столике темно-красная скатерть. На кровати куча подушечек и покрывало с бахромой. На стене висит скотчем прилепленный детский рисунок.
– Хочешь белого вина?
Она улыбается, достает два бокала, из холодильника берет бутылку, заткнутую фольгой.
Улыбаясь, наливает мне.
Я беру бокал, сажусь в плюшевое кресло у кровати. Включаю телевизор. Она садится на кровать, гладит мои короткие щетинистые волосы.
– Может, тебе волосы отрастить, по-моему, тебе пойдет.
Убирает руку: знает меня.
Отпивает глоток вина, опускает глаза.
– Мне сказали, я скоро смогу увидеть Тобиаса… может быть.
Ему должно быть лет пять уже, Тобиасу. Муж добился того, что ее лишили родительских прав. Ей запрещено к нему даже приближаться. Я не хочу ее расспрашивать.
Она протягивает руку, мы чокаемся.
Сидим, пьем вино, молча.
Но вот она ставит бокал. Встает, разглаживает платье и опускается передо мной на колени.
С молнией она сама справится. Переключаю канал. Передают, что завтра солнечно, незначительная облачность. Отпиваю глоток вина, кладу руку ей на затылок.
Она кашляет, на глазах выступают слезы. Смотрит на меня, пытаясь улыбнуться, глаза красные.
– Просто не в то горло попало.
И продолжает.
Снова переключаю, нахожу викторину. Закуриваю, стряхиваю пепел в полупустую кофейную чашку.
Я кончаю, она выходит в туалет, пару раз сплевывает, полощет рот. Обнимает меня, говорит, чтобы приходил снова.
4
Хлопает дверь, и я слышу его шаги в коридоре. Сна как не бывало. Зажмуриваю глаза, но это не помогает. Поворачиваюсь к стене. Ложусь на спину. Ранним утром я ищу на потолке их лица.
Лицо Аны.
Лицо брата.
Но я их не вижу. Вижу отслоившийся кусочек сероватой краски. Не свожу с него глаз.
Однажды ночью, когда я буду спать, он упадет. Приземлится у меня на лбу, и, может, я его проглочу. Может, вдохну носом. Я смотрю на него, удерживаю взглядом, пока снова не засыпаю.
Все штанги заняты, так что я работаю на тренажерах. Вытряхиваю из тела сон. Тренажеры в центре старые, разбитые, это вам не «Техноджим», не «Наутилус». Одно старье, лак отшелушивается, резина на ручках стерлась давно. Но все работает, все смазано, и вес здесь можно выставить больший, чем где-либо в городе. Такой вот он, Кемалев спортцентр. Душевая насадка в раздевалке покрыта белым налетом, но вода идет. Палас протершийся, обтрепанный, с отметинами от штанги, от масла для тренажеров, от сигарет. На стене висит табличка, запрещающая использование талька. Это для штангистов. Тех, кого выкинули из других клубов, потому что допинг слишком сильно давал себя знать, потому что тела их были так раздуты, что на другое списать уже было нельзя. Тех, кого застукали в раздевалке с канюлей в бедре, кто боялся остаться без укола до или после тренировки, когда действие достигает наибольшей силы. Но штанги не бросивших. Большой штанги, огромной штанги, штанга идет вверх. Адреналин, отвечают они, если спросить. Чертов адреналин. Дурман. Невозможно, спина сейчас лопнет, голова взорвется. Но штанга идет вверх. И для таких здесь есть место, они приходят по утрам, когда некому пялиться, слушать, как они ревут, вздымая штангу.
Жду, когда пожилой мужчина за прилавком обслужит другого покупателя. Он рекомендует ему какое-то вино, тот берет две бутылки, их кладут в коробку, делают подарочную упаковку. Продавец забирает у меня пустые бутылки из-под дешевого пива, ставит их рядом с бутылками из-под французского, бельгийского, ирландского импортного пива. Покупаю хорошей водки, не дешевой, не сегодня.
Выхожу с бутылкой, завернутой в красную бумагу.
Я покупаю газету и сажусь в автобус, идущий в сторону центра. Проезжаю мимо шаверма-баров, рядком стоящих на Нёреброгаде [3]3
Нёреброгаде – одна из центральных улиц Копенгагена.
[Закрыть], мимо кладбищенской ограды с намалеванными лозунгами «Fuck U. S.!», «Долой буржуев!» и вот еще, новое: «Иран – трорист». Не террорист, а трорист. Вот еще одна надпись: «Люби!» Большими красными буквами. Это приказ.
Девушка за барной стойкой слишком пристально разглядывает мой спортивный костюм. Я мог бы сказать ей, что приходил сюда до нее и, возможно, буду приходить и после того, как она подыщет себе работенку получше. Заказываю френч-пресс. Сажусь в тот же угол, что и тогда. Кафе находится недалеко от Озер [4]4
Так называемые Озера представляют собой остатки крепостных сооружений средневекового Копенгагена. В настоящее время – рекреационный район в центре города.
[Закрыть]. Когда я жил поближе, то часто сюда приходил. Достаю газету, принимаюсь за первую полосу. Не знаю, сколько просидел. Передо мной большая газета, а в сумке – хорошая водка. Спешить мне некуда. Беру еще кофе и принимаюсь за вторую полосу.
Потянувшись через стол за своими польскими сигаретами, я поворачиваю голову.
Глянуть на улицу, прикурить, глоток кофе и – снова за газету.
Но кое-что привлекает мое внимание: на другой стороне улицы стоит молодой человек. Одежда грязная, волосы темные, сальные. Ковыряется в мусорном ведре. Вытаскивает винную бутылку, бросает обратно. Залезает поглубже, по плечо, лицо сосредоточенное. На мгновение он кажется мне знакомым. Иван со своей математикой сидит за столиком на кухне в квартире матери, в руке ручка. Я встаю, иду к двери. Стоя в проеме, вижу его удаляющуюся спину.
Наливаю еще кофе. Думаю: может, ошибся. Давно это было. Он тогда в гимназию ходил, учился на одни пятерки. Ана им гордилась. Иван за рекордное время выучил датский и учил немецкий и английский.
Не уверен, что это он. Пытаюсь отыскать место, где читал. Перечитываю одно и то же по нескольку раз. Закуриваю.
Ана.
Они приехали с Балкан в конце восьмидесятых.
Ана, ее брат Иван, мать. Отец собирался приехать позже. Надо было кое-что уладить, продать квартиру, попрощаться с родителями. Больше они его не видели.
Предполагали, что он попал в лагерь, но ни единой весточки о нем так и не дошло.
Не успел я вставить ключ в замок, как услышал звук открывающейся двери, София. Стоит, смотрит мне в спину, скоро заговорит. Она прислушивается к звуку моих шагов по коридору. Как индейцы выслушивают бизонов, приложив ухо к земле.
– С днем рождения.
Обращается к моей спине. Я вожусь с дверью: ключ чуть приподнять, повернуть, вот так, толкаю дверь ногой.
– Поздравляю, Ник.
Когда я поворачиваюсь, она расплывается в улыбке.
Волосы еще влажные, духи почти что заглушили запах грязи, доносящийся от паласа в эту жару.
Смотрю на нее, она принимает мой взгляд за вопрос.
– Твой день рождения, поздравляю.
– Да нет…
– Ты уверен? Я посмотрела в календаре, я…
– Конечно уверен.
– Не хочешь зайти?
Я захожу в свою комнату и закрываю дверь. Знаю, она так там и стоит.
Вынимаю из сумки водку. Нахожу стакан, мою в туалете, вытираю банным полотенцем. Сажусь на подоконник, откручиваю пробку, сначала нюхаю, затем наливаю. Сегодня я еще немного приблизился к тридцати. Закуриваю свою польскую сигарету. Пью, курю, телик работает без звука. Смотрю на улицу, насчитал восемь красных машин. Сижу так до захода солнца.
Еще пью. Еще наливаю, стакан не должен оставаться пустым.
Глазам своим не верю, свешиваюсь вниз, держась за подоконник: чокнутый старикашка возвращается из очередной своей экспедиции. Когда он проходит под фонарем, луч света падает на кожу, бледную кожу. Свисают маленькие ручки и ножки, тележка полна мертвых младенцев.
Боль привела меня в чувство, сигарета обожгла пальцы. Я моргаю, тру глаза, улица внизу пуста.
Телевизор все еще работает. Мужчина собирает с обеденного стола песок ручным пылесосом.
Наливаю.
5
Ану мучил кошмар.
Она будила меня по ночам. Кричала. Это было, может, всего несколько раз за время нашего знакомства. После первых двух я уже знал, что делать. Сначала в темноте нащупать выключатель, потом обнимать ее, пока она не перестанет дрожать, прижимать к себе как можно сильнее, так сильно, что ей, сидящей в еще теплой луже мочи, даже может быть больно. Потом отвести в ванную, помочь раздеться, взгляд постепенно становится осмысленным. Поменять простыню, положить наматрасник в стирку, сменить пододеяльник.
И все это без единого слова. Она, которая не хочет или не может говорить, и я, не знающий, что сказать. Потом я лежал, обняв ее, пока мы не засыпали.
Утром она вела себя как ни в чем не бывало. Само ее поведение подчеркивало, что говорить здесь не о чем. Что сегодня – это сегодня. А то, что было ночью, мне вообще могло присниться. Когда я просыпался, наматрасник и грязное белье были убраны с глаз долой, вертелись в стиральной машине где-то в подвале. Уже куплены свежие булочки, сок в постель. Утро ночи мудренее. Утро, свет, трудно даже представить себе то, что таится во мраке.
Когда я сказал Ане, что понимаю ее, она мне не поверила. Откуда мне знать о том, каково быть беженцем, пережить утрату, не иметь дома.
Я никогда не рассказывал ей о детдомах.
О моей матери, которая свела нас и исчезла.
О моих братьях, одном с именем, которое мне как будто без надобности, и другом, без имени.
6
Кемаль роется в пакете, протягивает мне белковый коктейль с банановым вкусом. Я сначала отказываюсь, но он настаивает, говорит, мне надо поесть.
Мы сидим на самом верху спортцентра. В шезлонгах, которые Кемаль поставил на крыше фабричного здания. С видом на Северо-Западный район. На обветшавшие заводики, авторазбор, красные кирпичные дома, увешанные «тарелками». Я откручиваю крышку, делаю глоток.
– Черт, на вкус как та паста со фтором в детстве.
– Ага, прямо ностальгия начинается.
– Ну так что, что случилось? Проблемы?
– Да нет, – смеется. – Или как посмотреть…
Он откидывается на спинку шезлонга, подкладывает под голову руки, вытягивает ноги.
– Я тут просто задумался о спокойной жизни…
– Да?
– Нет, я правда подумал…
Он поворачивается, смотрит на меня.
– У тебя усталый вид, Ник.
– Спасибо.
– Ты не спишь?
– Да это из-за соседа… Не важно. О чем ты думал? Он смотрит перед собой, понижает голос, как будто говорит о чем-то противозаконном:
– Я надумал жениться.
– Серьезно?
– Серьезно.
Я закуриваю, почесываю щетину, прямо не знаю, поздравить его или расхохотаться.
– Что скажешь?
– Попытаюсь себе представить.
Я делаю затяжку, медленно выпускаю дым. Кемаль нетерпеливо ерзает.
– Ну что? Что скажешь?
– Не могу…
– Что?
– Представить.
Кемаль смеется, берет из моей пачки, лежащей между нашими шезлонгами, сигарету. Кемаль ведет всю бухгалтерию спортцентра сам. И официальную, и ту, что держит заведение на плаву. Но в этом районе не принято хвастать интеллектом. Я лично слышал, как он в спортцентре орал на ребят, – с таким сильным арабским акцентом. И как потом по телефону говорил то ли о договорах лизинга, то ли об изменении условий аренды, – не уверен, что я сам смог бы все это настолько изящно сформулировать.








