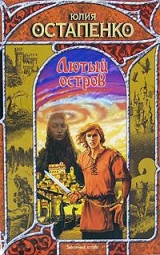
Текст книги "Лютый остров"
Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Лицо во тьме
Айлаэн – городок маленький; в маленьких городках люди добрее. А если до большого города далеко, то и доверчивее. Нет, конечно, чужаков особенно нигде не привечают, но если чужаки в диковинку, то к незнакомцу сперва как следует присмотришься, хотя бы сквозь щелочку между ставнями – а ну как гонец из самой Бастианы с чем-нибудь интересным пожаловал? И вроде боязно, а все одно любопытство верх берет. Стоит Айлаэн в излучине мелкой речушки, в стороне от торговых дорог, новости здесь – редкость. И опять-таки, как ни крути, а в людях верх берет доброе.
Потому-то когда под вечер в гостиницу «У Шиповника», притоптывая ногой и отряхивая грязь с сапога, входит чужак, взгляды, немедля к нему обратившиеся, исполнены скорее любопытства, чем подозрения. Сам хозяин, старый Алько по прозвищу Шиповник, уже торопится навстречу. Чужак хорошо одет и собой хорош: высок и статен, лицо от загара смуглое, плечи широкие, руки крепкие. По всему видать, ехал спешно и устал: дышит тяжело, черные пряди спадают на скуластое лицо из-под низко надвинутого капюшона. Шиповник так и норовит заглянуть под него, пританцовывая рядом с необычным гостем. Посетителей в таверне всего-ничего – дюжины не наберется. Прочие завсегдатаи собрались сегодня у Кривого Улла, извечного Шиповникова конкурента – повезло проходимцу заполучить на вечер заезжего певуна. В Айлаэне всего две гостиницы, и хозяева их глотки дерут друг дружке столько, сколько их заведения стоят на айлаэнской земле. Ну да теперь сровнялись, кажись: Кривому Уллу певун, который не заплатит за постой и харч, еще и денег стребует за выступление, а Шиповнику – этот господин. Явно ведь прибыл из большого города: сапоги у него ладные, и гнедой конь, на котором господин прискакал, сразу видать, целого состояния стоит...
Вот так смекает Шиповник, провожая дорогого гостя на почетное место посреди зала, наскоро отирая скамью собственным передником – не робел бы, так сапог бы поцеловал. Гость, даром что сдается усталым, милостиво улыбается, просит ужина и кладет золото в пухлую хозяинову ладонь. Золото тускло блестит в полумраке гостиничного зальчика, и блестят глаза дюжины Шиповниковых посетителей, подавшихся вперед, а уж глаза Шиповника – теми и вовсе сигнальные костры разжигать можно. Золото в айлаэнской таверне! Ну, видать, не иначе как принц какой пожаловал, изволит путешествовать инкогнито, мир повидать решил. И придвигаются ближе бочар, кожевник и портнов подмастерье, сын сапожника тянет шею, и мальчишка-конюх, успевший управиться с гнедым жеребцом, бочком-бочком от двери – поближе. Вдруг услышит что интересное, не меньше чем на месяц станет героем средь всей айлаэнской детворы.
– Надолго ли к нам, милостивый государь мой? – лопочет пройдоха Шиповник, а сам уже прикидывает, сколько выклянчить у смуглого господина за постой. Он небось и цен-то здешних не знает – ну что ему такие городки, как Айлаэн, он их сотнями видал, все перемешалось давно. Так что если посноровистей подойти к делу...
– На три дня, – отвечает смуглый господин. Голос у него низкий и хрипловатый, не столь мягкий, как можно было бы ждать, видя его улыбку – легкую, будто лунный лучик. Капюшон плаща все еще низко надвинут на лицо, глаз не разглядеть. «Подозрительно», – шепчет смекалистый портняжка сыну сапожника, а тот отмахивается, глазея на господинов меч. Вернее, на ножны – из взаправдашней замши, тисненные позолотой, да и рукоять меча – загляденье. Подмастерье кузнеца (он тоже здесь) восхищенно цокает языком, узнавая работу бартарских мастеров. Смуглый господин улыбается тонкими темными губами; а улыбается ли глазами – ну кто ж его разберет?
– На три дня, – говорит снова. – Я остановился бы здесь, если позволите.
Зал вздыхает, как один человек. Шиповник едва не подпрыгивает, поняв, что в эти три дня весь Айлаэн будет драться за право выпить кружечку у старого Алько да поглазеть на чужеземца. Потому как веет от чужеземца чем-то пряным, неведомым, что пробивается скозь запах пыли и немытого тела, накопившийся за долгие дни изнуряющей дороги. И уже предвкушает Шиповник долгие беседы у очага (позвать старого Ранса, самый умный в городе, холера, и господина Вирталя можно попросить, да и мальчишка Овейн сойдет, студиозус все-таки), и ученые споры, и дивные рассказы о далеких и чудных городах, и стопочку меди (побольше) и серебра (поменьше), что оставят у него добрые жители Айлаэна, придя поглядеть да послушать...
Так думает Алько, суетясь и шлепая служанок, чтоб пошевеливались. Краем уха он слышит, как кто-то – ну конечно, проныра Виндайл, самый смелый и языкатый из тех, кто собрался сегодня у Шиповника, – спрашивает незнакомца, откуда он да куда путь держит, а потом еще что-то, и тот отвечает спокойно и любезно, вроде бы ничуть не серчая. Слышит это Шиповник и улыбается до ушей, а в кармане у него позвякивает чужаково тусклое золото.
И вот когда Виндайл придвигается ближе, а с ним и прочие, уже завязав беседу, и когда Шиповник выбегает прикрикнуть на них для виду, что, мол, насели на гостя, мужичье! – вот тогда-то смуглолицый чужак выпрямляет спину, затекшую от долгих часов в седле, поднимает голову и откидывает капюшон. И плащ откидывает тоже, забросив за плечо, оголяя левую сторону груди.
И умолкает проныра Виндайл на полуслове – будто разом откусил свой верткий язык. Отхлынывает от центрального стола мужичье. И стоит старый Шиповник белый, что его передник, и руки трясутся мелко, и сам он весь трясется так, что позвякивает в кармане тусклое золото.
Чужак поводит головой, устало растирает затекшую шею, прикрывает глаза. Выпрямляет под столом длинные ноги в дорогих сапогах и, будто не замечая всеобщего липкого ужаса, приклеившего людей к скамьям, спокойно начинает трапезу. Так же спокойно ее окончив, утирает рот и жестом подзывает хозяина. Шиповник подходит на подгибающихся ногах, проклиная тот день и час, когда впустил чужака на двор.
Человек со смуглым лицом, мягкой улыбкой, мертвыми серыми глазами и иссиня-багровой татуировкой на левой стороне груди спрашивает, где ему найти обиталище Эйды Овейны.
И каждый, кто слышит это, незаметно скрещивает пальцы под столом, благодаря Бога Кричащего, что смерть сегодня пришла не в его дом.
Обычно это происходит так: два десятка молодчиков в красных плащах врываются на подворье, чаще конные, и рубят все, что оказывается у них на пути. Потом, разобравшись, какое из мертвых тел принадлежит хозяину, привязывают его к коню своего командира и уносятся прочь, влача останки несчастного по мостовой. Дом сжигают, превращая его и в очищающий, и в погребальный костер для тех, кому не посчастливилось оказаться под крышей еретика. Ступивший под кров отступника есть отступник; Бог Кричащий совершенно непререкаем в этом вопросе. Суд его скор, возмездие – стремительно, и слуги его тверды равно и духом, и рукою.
В год загорается несколько дюжин таких костров. Чем больше город, тем чаще, конечно, ибо в больших городах люди злы, и ересь легко пускает корни в их черных сердцах. Айлаэн – городишко маленький, и Стражи Кричащего навещают его совсем редко, а в последний раз – так и вовсе уже никто и упомнить не мог, когда и как это было, хотя разговоров после набегов Стражей хватает по меньшей мере на год. Стражей не боятся, как не боятся Кричащего, как не боятся чумы и смерти. К чему страх перед тем, что все равно явится за тобой, коли будет на то его воля, и ничем ты ему не помеха? Придет и придет. Суждено так было, значит.
Впрочем, в последнее время стали говаривать, что вроде бы и толки про судьбу – тоже ересь. Потому про судьбу толковать перестали. Что толковать-то?
О приближении Стражей узнают по завесе пыли на горизонте и алому мареву плащей над нею. Кидаются по домам, кто успеет, так, будто впрямь можно укрыться и переждать бурю; матери прячут детей под подолами, собаки забиваются по конурам. На сей раз никто не успел, да и не подумал прятаться. Айлаэн – городишко маленький, и даже на памяти стариков в него никогда еще не присылали Клирика.
Клирики в отличие от Стражей ходят тихо. Чаще по двое, реже по трое, совсем редко – поодиночке. Клирик-одиночка – мастер, умелец, возлюбленный слуга Бога Кричащего, пославшего на слугу своего столь всеобъемлющее благословение, что не след ему бояться ни стали, ни отравы, ни людской ненависти. Клирик не врывается во двор и не рубит головы, не поджигает и не волочет за конем истерзанные тела отступников. Да и меч-то ему нужен скорее для того, чтоб оградиться от лесных разбойников, которые нападут на него прежде, чем успеют разглядеть лицо, вытатуированное на левой стороне его груди. Из-за этого лица, того, что сами Клирики именуют Обличьем, в народе их прозвали «обличниками». И слово это произносят (если произносят: поминать обличников считается не к добру) шепотом, скрестив под столом пальцы знаком, отводящим беду.
Ни подмастерья, ни сапожников сын, ни служанки Шиповника, ни сам он, да и никто из всех, кого они знали, никогда не видали прежде обличника. Если в видали, может, узнали бы сразу. А не узнали бы – что с того?
Пришел-то он не за ними.
Поев, испив айлаэнского вина и отдохнув после долгой и трудной скачки, смуглолицый чужак с ледяными глазами встал и вышел из гостиницы вон. Лишь когда он скрылся за поворотом дороги, посетители осмелились броситься врассыпную, оставив Шиповника заламывать руки и подсчитывать убыток с тем же рвением, с каким всего час назад он подсчитывал грядущий доход. Ибо знал он: ближайшие три дня ни один айлаэнец не ступит на его порог.
А человек с вытатуированным на груди лицом шел тем временем легкой, пружинистой походкой по темнеющим в сумерках айлаэнским улочкам – только что не насвистывал. Плащ свисал с его правого плеча, оставляя открытой грудь, плотно обтянутую черным шелком, с глубоким вырезом на левой стороне. Он ни с кем не говорил и ни у кого не справлялся о дороге, а люди, встречавшиеся ему на пути, так и столбенели, стоило им кинуть взгляд на его торс. Вот так и шел, оставляя за собою след из камнем вставших людей.
Дом госпожи Овейны, наиболее почитаемой дамы города, стоял в самом центре Айлаэна, недалеко от фонтана – местной гордости. Хороший домик, не слишком большой и не маленький, опрятный, увитый виноградной лозой, с просторным палисадником и высаженными в ряд абрикосами у ограды. Обличник прошел меж абрикосов пружинистой своей походкой и встал напротив двери, но не постучал кулаком, возвещая пришествие мести Бога Кричащего, как сделал бы Страж в алом плаще. Вместо этого он вынул из поясной сумы небольшой свиток и развернул его. Извлек из-за пояса кинжал, одним сильным движением пришпилил послание к дубовой двери – и загудел клинок, подрагивая меж кроваво-красных письмен, выведенных на листе.
Потом обличник отвернулся и пошел прочь, откуда явился – пружинистым легким шагом. Ветерок, особенно ласковый в Айлаэне в это время года, шевелил полы его плаща и черные пряди над гладким высоким лбом.
Вернувшись к Шиповнику, обличник спросил, какая ему отведена комната, поднялся в нее и уснул спокойным крепким сном человека, выполнившего свой долг.
Но долг его был еще далек от окончательного выполнения, и он прекрасно об этом знал.
* * *
Три дня – столько отводилось Эйде Овейне, айлаэнской шоколаднице, и ее брату Ярту Овейну, студиозусу, чтобы добровольно сдать себя в руки Клирика Киана и позволить препроводить их в Бастиану, дабы могли они предстать пред Святейшими Отцами церкви для дачи объяснений в связи с подозрением в ереси. Этот срок – три дня – Святейшие Отцы давали всегда, коль уж доходило до привлечения Клириков. Сие означало, что случай ереси – особый, что он вовлекает в происходящее прочие лица, и обвиняемым предоставлялась возможность с полной добровольностью отдаться на милость слуг Божьих и посодействовать им всяческими путями. Говоря проще, церковь оставляла своим детям возможность искупления. Но дети всегда глупы, и редкие из них пользовались этим шансом. Многие, очень многие встречали слуг Божьих топорами и вилами, выставленными из окон. Тогда приходили Стражи. Но чаще Стражи приходили сразу. То, что на сей раз они не пришли, было одновременно великой удачей – и приговором, куда более страшным, чем быстрая смерть от меча в собственном домике, опрятном и уютном, с абрикосовым палисадником.
Домик, впрочем, все равно сожгут. Это также значилось в послании, которое Клирик Киан пришпилил своим кинжалом к двери дома женщины, которую он любил и которая любила его семь лет назад.
Она использовала весь отпущенный ей срок и пришла вечером последнего дня. Эйда Овейна, одна из самых красивых и самых влиятельных женщин Айлаэна, ехала по враз опустевшим улицам города, которым еще вчера владела почти безраздельно и который смотрел теперь сквозь щелочки в ставнях, как она держит путь на собственный погребальный костер. Она ехала верхом на породистой игреневой кобыле, такой же стройной и сухощавой, как сама госпожа Овейна, такой же надменной и прекрасной, так же роскошно и утонченно выряженной в лучшее, что только сыскалось в богатом доме Овейнов. На кобыле было белое кожаное седло, парчовая попона и уздечка, инкрустированная серебром, на госпоже Овейне – дорожное платье пурпурного бархата и белоснежный плащ, отороченный серебряной тесьмой. День выдался пасмурный – вообще лето в том году не задалось, дожди так и зарядили с самого солнцестояния, – и она надела капюшон, но не стала опускать его слишком низко, и синие глаза ее смотрели спокойно и твердо со смертельно бледного лица из-под аккуратно уложенных черных кос. Многие из тех, кто провожал ее взглядом, прижавшись к щелочкам между ставнями, плакали и делали охранный знак, хотя нелепо и даже кощунственно было призывать Кричащего в помощь этой женщине, которую сам Кричащий призвал для суда и кары.
Клирик Киан тоже смотрел на нее; его мертвые серые глаза, невероятно ясные, глядели спокойно и сухо, пока он стоял в воротах гостиницы «У Шиповника» (долго, ох долго еще люди будут обходить это место стороной!) – стоял, уперев кулак в пояс и наблюдая, как она приближается. И когда их взгляды встретились, его глаза, глаза того, кто звался когда-то Кианом Тамалем, ничуть не потеряли ни ясности своей, ни мертвенности.
– Ты пришла одна, – сказал он.
И это было первое, что она услышала от него – с тех пор, как он бросил ей в сердцах: «Тебе не понять!» – и вышел вон из дома в Бастиане, семь лет назад.
Эйда кивнула, глядя ему в лицо.
– Следует ли понимать это так, что брат твой, Ярт Овейн, презрел волю Кричащего и отверг его зов? – спокойно спросил Киан.
Она молчала. Игреневая кобылка помахивала мордой и хвостом, отгоняя ленивых, разморенных непогодой мух.
Не дождавшись ответа, Киан вывел за ворота собственного коня. Прежде чем сесть в седло, он подошел к Эйде, так близко, что ее нога в бархатной туфельке, твердо упиравшаяся в стремя, почти коснулась его обнаженной груди. Эйда опустила глаза – и встретилась взглядом с лицом, вытатуированным на коже Киана.
Нет. Не взглядом. Как можно встретить взгляд существа, глаза которого всегда закрыты?
– Пожалуйста, – сказал Киан, – надень это.
На его ладони лежала, свернувшись, маленькая кожистая змейка, испещренная иссиня-багровыми пятнышками. Увидев ее, Эйда вздрогнула. Она знала, что это, но никогда прежде не видала таких – и помыслить не могла, что однажды одна из них оплетет ее запястье. Но теперь она лишь все так же молча протянула руку. Пальцы Киана коснулись ее кисти. Змейка встрепенулась, будто живое существо, почувствовавшее теплое солнце, приподнялась, покачиваясь в воздухе, и скользнула с мозолистой мужской ладони к женской руке. Эйда содрогнулась от леденящего прикосновения, непроизвольно тряхнула рукой, будто желая сбросить эту скользкую дрянь, но змейка уже обвилась вокруг руки, впилась в нее всем своим кожистым тельцем, светлея, распластываясь до тех пор, пока не стала совершенно неотличима от собственной кожи Эйды – ее белой, нежной кожи.
И когда дрожь и рябь улеглись, стало казаться, словно кто-то нанес на запястье женщины причудливый синеватый узор – татуировку, подобную той, что темнела на груди Киана.
Эйда все разглядывала это клеймо на своей руке, когда Киан вскочил в седло и двинулся вперед, к черте города. И все еще глядя на клеймо, она тронула коленями бока своей кобылы, не думая и не понимая, что делает.
– Он совершил ошибку, Эйда, – сказал Киан. Он ехал чуть впереди и даже не повернул головы, говоря это. Его голос звучал мягко и безмятежно – таким, каким она его никогда не слышала. – Ему следовало прийти с тобой. Так было бы проще для всех.
Она молчала. Она боялась разрыдаться, а ей не хотелось показать слабость перед людьми, которые уважали ее и почитали последние семь лет. У нее еще будет время для слез – в другом месте, далеко отсюда.
Киан пустил коня рысью. Эйда сделала то же. И когда его жеребец пошел в галоп, кобыла Эйды пошла в галоп.
Зарядил моросистый летний дождь, и капли его будто огнем обжигали клеймо у нее на руке.
* * *
Покинув Айлаэн, Киан испытал смесь облегчения со смутной тревогой, как и всегда в подобных случаях. Позади было то, что многие считали в его деле самым трудным, и на сей раз оно вышло проще, чем он рассчитывал. Эйда Овейна занимала высокое положение в Айлаэне. Она была торговкой, но торговала редким и ценным товаром – горько-сладким напитком, весьма популярным в южных землях и в самой Бастиане. Мужское дело, мужская дерзость. Святейшие Отцы считали шоколадный напиток излишеством, дурманящим голову хуже вина, но не это стало причиной ареста Овейнов. Однако именно это могло стать причиной упрямства, столь частого у еретиков, особенно если они считают себя невиновными. Киан не знал, считает ли Эйда Овейна себя невиновной. Она не сказала ему ни слова с той самой минуты, как он увидел ее, медленно едущую навстречу ему по пустой айлаэнской улице. Он успел подумать тогда, что, когда они расставались, она не была так красива. В ней появилась зрелость, неизбежно красящая таких женщин, как Эйда, и достоинство, столь же неизбежно сопутствующее зрелости. Когда он подумал об этом, Обличье сказало:
– Она ждет жалости от тебя.
Он не ответил. Он и так это знал. Как знал и то, что не чувствует ничего похожего на жалость. Она была слишком красива, чтобы ее жалеть. И даже мысль о том, во что совсем скоро превратятся эта красота и это достоинство, не всколыхнуло в нем сомнения.
– Она ждет жалости, – повторило Обличье. – Объясни ей, чего на самом деле следует ждать. Так будет проще.
Позже, решил про себя Киан, когда они скакали по размытой дождем дороге от Айлаэна. Любые сложности, которые могут возникнуть с Эйдой за дни пути, что отделяют Айлаэн от Бастианы, он решить успеет. Сейчас главной его заботой был Ярт Овейн. Киан допустил оплошность, сочтя, что от него не следует ждать неприятностей. Он ждал их скорее от Эйды, зная ее упрямый, жесткий нрав и зная, как высоко она поднялась в Айлаэне. Эти сведения ему предоставили Святейшие Отцы, отправляя с миссией. «Помни, – предупреждали они, – обнаружив, что за ней прислали Клирика, а не Стражей, Овейна наверняка окажет сопротивление». Они сказали, что она забаррикадируется в своем поместье и выставит против Киана наемников и телохранителей. Ему советовали взять с собой Клирика Артора или Клирика Эндра, хотя и знали, что он всегда действует один. Айлаэн – маленький городок, но даже в маленьком городке знатные персоны создают куда больше сложностей при аресте, чем простой люд – особенно когда дело не просто в скором суде над ересью. Киан получил совершенно четкое указание: Овейны должны быть взяты и доставлены в Бастиану живыми. В особенности это касалось Ярта; его сестрой при необходимости разрешалось пожертвовать. И вот теперь именно Ярт имел дерзость не явиться на зов Клирика, замыслил сопротивление, тогда как сестра его явилась с покорностью, которой от нее не ждали ни Святейшие Отцы, ни, говоря по правде, сам Киан. А ведь Обличье сразу сказало ему, что так будет. Но он не поверил. Глупец. Мог бы уразуметь, за семь-то лет, что Обличье всегда оказывается правым.
– Она ничем не грозит, – сказало Обличье. – Она боится и ждет жалости. Это станет проблемой, но позже. Сейчас ты должен опасаться не ее.
– Его. Знаю, – сказал Киан. Эйда у него за спиной вздрогнула – так сильно, что он заметил это, даже не оборачиваясь. Киан пристально осмотрелся. Дорога свернула в рощицу, огибавшую подножие холма, и вела меж редкой поросли деревьев. Здесь было трудно спрятаться и устроить засаду, но Киан имел достаточное представление о легкомыслии студиозусов, чтобы быть готовым к чему угодно.
– Через триста ярдов впереди, – сказало Обличье.
– Сколько их?
– Шестеро. По трое с обеих сторон дороги. Лежат в траве. У всех кинжалы. Луков нет.
– Стой, – сказал Киан, поднимая руку. Эйда проехала еще несколько шагов, прежде чем поняла, что он обращается к ней. Последние несколько часов, пока он переговаривался с Обличьем, она ехала рядом с совершенно стеклянным взглядом. Теперь только посмотрела на его предостерегающе поднятую руку и натянула поводья.
– Жди здесь, – сказал Киан. Ему не надо было смотреть на нее, чтобы знать, что она покорно кивнула. Он снова огляделся, на всякий случай, и, съехав на обочину, пустил коня пробираться через небольшой овражек, шедший вдоль дороги. По дну овражка журчал ручей, вода весело плескалась под конскими копытами. Киан ехал шагом, стараясь передвигаться как можно тише.
– Слева, – сказало Обличье. – Ты увидишь их, если повернешься.
Киан повернулся. И увидел.
И тогда, низко пригнувшись в седле, вонзил шпоры в бока коня.
Студиозусы тоже сочли овражек хорошим укрытием и лежали мордахами в траве, оттопырив зады и тиская рукоятки ножей, будто девичьи телеса. Киан, даром что налетел снизу, из заведомо невыгодного положения, в два счета смел их конем – пикнуть не успели. Он сразу понял, что Ярта Овейна среди них нет, и не церемонился. Черное копыто жеребца пробило лоб одному мальчишке и стукнуло в грудь другого, опрокинув навзничь. Третьему Киан, выхватив меч, срубил голову на скаку. Трое других уже бежали к нему с другой стороны дороги, отчаянно вопя и, видимо, пытаясь таким образом придать себе храбрости. Киан мельком подумал, что если бы они кинулись на него с двух сторон все вместе, пока он ехал по дороге, то могли успеть пырнуть в живот коня. Кто-то вцепился сзади в полу его плаща и потащил вниз, обнажая левое плечо. Киан круто развернулся. Мальчишка, схвативший его, посмотрел на Обличье, Обличье посмотрело на мальчишку. «Не Ярт Овейн; хорошо», – подумал Киан, когда студиозус дико завопил, шарахнулся назад – и через миг рухнул, брызнув на сочную зеленую траву кровью из перерубленной шеи. Оставалось двое; один бросил кинжал и сломя голову бежал прочь. Киан не стал его преследовать.
– Сдавайся, – сказал он, направив залитое кровью лезвие в лицо Ярта Овейна – бледное, худое лицо, перекошенное от страха.
– Где моя сестра, ублюдок? – выкрикнул Овейн, смешно размахивая перед собой кинжалом в вытянутой руке. – Что ты с ней сделал?
– Ты поранишь себя, – сказал Киан. – Брось нож и ляг на землю, Ярт.
Его хрипловатый негромкий голос, казалось, на мгновение смутил паренька. Тот растерянно шагнул назад, вертя головой, будто надеялся, что сестра, которую он так храбро и так глупо пытался спасти, выскочит из-за дерева и сама кинется ему на выручку. Киан воспользовался его замешательством и ударил клинком по руке плашмя, целясь в костяшки пальцев. Мальчик вскрикнул и выронил кинжал. Киан выдернул ноги из стремян и спрыгнул с коня – прямо на Ярта, сбив его с ног. Они покатились в траву. Парень кричал и дергался, вслепую лупя кулаками. Киан перехватил его запястья, без труда сжал одной рукой и наскоро связал собственным Яртовым поясом. Потом поднялся, оставив мальчишку барахтаться в траве, и бережно вынул из поясной сумы вторую кожистую змейку с переливчатым синим узором на блестящей спине. При виде змейки Ярт Овейн тонко вскрикнул – и застыл, будто парализованный, глядя вытаращенными от ужаса глазами, как Киан подносит вертящуюся в ладони ленточку к его руке. Змейка соскользнула, поерзала, устраиваясь, впилась в плоть – и растаяла, оставив на коже Ярта бледный голубой след.
Киан размотал пояс Ярта, обвитый вокруг запястий студиозуса, и бросил его на землю.
– Где твоя лошадь?
– В кустах, – всхлипнул парнишка. Когда Киан видел его в последний раз, он был совсем малышом и очень походил на Эйду. Теперь, к восемнадцати годам, он вырос в нескладного долговязого юнца с острым носом и по-школярски гладко выбритыми впалыми щеками.
– Как она, справная? Или те, что у твоих товарищей, были лучше?
– У... – парень прерывисто вздохнул, похоже, осознав наконец, что все его друзья, кроме одного – все, кого он втравил в эту глупую авантюру, – мертвы, мертвы по его вине. Ему стоило явного труда продолжить: – У Лорика ко... кобыла...
– Возьми кобылу Лорика, – сказал Киан. – Мы поедем быстро. Возвращайся на дорогу и жди нас там.
Пока Ярт всхлипывал, остервенело растирая руку, будто надеялся содрать с нее синюю отметину, Киан поднял и прицепил к своему поясу его кинжал, отер от крови меч и подозвал отбежавшего коня. Впрочем, за коня можно было не волноваться: на его правой передней ноге, над копытом, виднелся точно такой же голубоватый узор, что и на запястьях Овейнов. Киан поправил плащ, прикрыв им левую сторону груди, вскочил в седло и, оставив мальчишку позади, выехал на дорогу, чтобы вернуться туда, где его покорно дожидалась Эйда.
– Можем ехать, – сказал ей Киан. – Твой брат теперь тоже с нами.
Она подняла на него ничего не выражающие глаза. И сказала:
– Это не ты, Киан. Это... это та тварь в тебе.
– Нам следует поторопиться, – ответил он. – Ты, должно быть, устала, но потерпи еще немного. Вскоре мы сделаем привал.
* * *
– Это я виноват. Прости меня, Эйда, я так виноват...
Ее белый плащ извозился в грязи и дождевой воде, темными потеками разукрасившей парчу. Непрактично оделась, думал Киан, раздувая угли в так и норовящем погаснуть костерке. Дрова отсырели, и искра высекалась плохо, а зажегшись, ту же меркла под ударами дождевых капель, срывавшихся с мокрой листвы.
– Я не должен был втягивать тебя... прости меня, прости...
Эйда не отвечала, только неотрывно смотрела на брата и беспрестанно гладила по руке. Киан поворошил угли палкой, наконец удовлетворился их яркостью и поправил вертел над костерком. Под вечер сильно похолодало, и он запахнул плащ на груди. Обличье под темной тканью, казалось, дремало, успокоенное теплом.
– Что им нужно от нас?
Голос Эйды, от которого он вновь успел отвыкнуть, прозвучал резко и хлестко. Словно она приказывала, словно требовала немедленного и четкого ответа.
– Спроси своего брата, – сказал Киан, поворачивая вертел. Вырвавшийся из золы язычок пламени лизнул тушку зайца, ошпарив и превратив в уголья нежную плоть. – Мне неведомы прегрешения, за которые воздается кара Кричащего. Я лишь слепой и немой слуга его.
– Ты его слепой и безмозглый раб! – выкрикнул Ярт Овейн высоким, плаксивым голосом. Киан чуть заметно улыбнулся, поплевал на пальцы и ухватился за вертел с другой, раскаленной стороны.
– Вот поэтому, должно быть, Кричащему и неугоден твой брат, Эйда Овейна, – сказал он почти весело и повернул зайца непрожаренным боком вниз.
Эйда перестала гладить руку Ярта и схватила ее обеими своими руками, будто предостерегая, но мальчишка уже разошелся.
– И добро бы просто слепой и тупой – то было бы полбеды! Вся беда в том, что вам нравится быть тупыми! Вы ненавидите знания, сама мысль о знании вам противна! И вам, и вашему безмозглому богу! Только и знаете, что закрывать университеты да жечь ученых мужей на кострах! Да вы просто завидуете! Вам ума хватает только на то, чтоб понять, как мало его у вас, и вы завидуете!!!
– Тише, Ярт, о боже, да замолчи, замолчи же ты! – твердила Эйда, пока он вопил, брызжа слюной и нервно дергая шеей. Привычка всех студиозусов: Киану приходилось арестовывать их и прежде, и каждый вот так же дергал шеей и орал, видимо, воображая, что его пригласили на что-то вроде теософского диспута. Когда же стены каменного мешка смыкались вокруг них и начинался взаправдашний диспут, они продолжали кричать, но уже не так, вовсе не так. Не в хулу Бога Кричащего, но во славу его.
– Готово, – сказал Киан, ловко стаскивая с вертела пышущую аппетитным жаром заячью тушку. – Будете?
– Чтоб ты сдох, чтоб провалился, пес проклятый, – сказал Ярт Овейн и заплакал.
Эйда снова гладила его по рукам и по голове, тихонько приговаривая. Киан с вопросительным видом протянул ей мясо, но она даже не взглянула в его сторону. Он не стал настаивать. Сперва все они так. Восемь дней – долгий срок. Завтра они успокоятся и поедят.
Стучали капли, скатываясь по желобкам листвы, шуршало зверье в траве, громко всхлипывал мальчишка Овейн. Потом перестал всхлипывать и что-то забормотал, кажется, снова прося прощения. Киан закопал под ближайшим деревом заячьи косточки и сладко потянулся.
– Почему они послали за нами тебя?
Эйда все еще гладила руки Ярта. Теперь одними только большими пальцами, крепко обхватив его ладони, быстро, сосредоточенно, словно руки ее брата затекли или до смерти замерзли, и она пыталась их растереть. Синие глаза ее, казавшиеся лиловыми в сумерках, неотрывно смотрели Киану в лицо.
– Они меня не посылали, – ответил он наконец без нерешительности и смущения. Он знал, что она спросит об этом; Обличье сказало ему. – Я сам вызвался для выполнения этой миссии. Сперва Святейшие Отцы доверили ее Клирику Эндру, но я попросил, и ее препоручили мне.
Она, казалось, онемела – или вовсе не знала, что на это сказать. Потом только и выговорила:
– Почему?
Он мог ответить ей, но зачем? Она все равно не поняла бы, да и ни к чему был этот разговор. Киан вытер руки о мокрую траву.
– Друзья твоего брата, с которыми он бражничал и богохульствовал в тавернах, – сказал он, – и которых ты принимала в своем доме... это те, кто был с ним на дороге? Ярт? Это были они?
Парнишка вызывающе засопел: не буду, мол, говорить с тобой, проклятый инквизитор! Киан улыбнулся краешком губ. Он не был инквизитором – и пройдет еще немало лет смиренного и ретивного служения Богу Кричащему, прежде чем ему доверят таинство обращения отступников. Пока же он делал лишь то, для чего был призван – вел их туда, где им даруют спасение.
– Ярт? – повторил Киан по-прежнему мягко, но чуть более настойчиво. Обличье на его груди сонно вздрогнуло, послало волну крови к сердцу. Ярт тоже вздрогнул, так сильно, что Эйда разжала руки и отпустила его.








