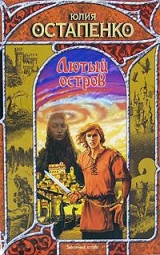
Текст книги "Лютый остров"
Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
И замолчала, оборвался голос. Захотелось мне обнять ее, по волосам распущенным погладить – а только не знал, примет ли, не оттолкнет ли. Лицо у нее совсем спокойное было, и глаза сухие. Если в ревела – обнял бы, а так...
– Что, – спросил я с трудом – губы не слушались, – груб он с тобой был?
Вместо ответа она повернулась ко мне – и распахнула соболиный свой плащ.
На ней была только ночная сорочка, вся разорванная – и в темных пятнах. Я сперва подумал, это ее первая замужняя кровь, и залился краской – а потом присмотрелся, приметил, что не там она, где положено. Не на подоле – на вороте, на груди... Пригляделся... а у нее вся грудь в ранках. Мелкие ранки в сизых ободках синяков. У меня язык так к небу и присох.
– Ножом меня колол, – спокойно сказала Счастлива. – Говорит: детей тебе все одно не рожать, нечего тебя беречь... Май, почему он так сказал? Почему мне детей от него не рожать? Чем я ему плоха?
Я сперва поверить не мог, что она не знает. Потом подумал – а и верно, откуда ей знать? Умыкнули и умыкнули девку, за что, про что – ее ли дело? А что не так просто тут все – не женского ума забота...
И надо же, что именно мне выпало ей правду сказать. Эх, мало было печали – еще и эта...
Что делать – рассказал, как сумел: и про то, что от Сребляна узнал, и про то, как с острова уплыть пытался, да не смог.
Молча выслушала меня Счастлива. Только глаза ее невыносимые, жгучие, все шире раскрывались, пока я говорил. Под конец она меня за руку взяла – я того и не заметил, пока не закончил. Долго мы так сидели молча, в полутьме, за руки держась. Тогда она спросила тихонько:
– Что ж мы теперь... навсегда тут?
Я смолчал. Не знал, что ответить, а врать не хотел – да и не люблю я врать.
Сколько так сидели, не знаю. Потом она вдруг улыбнулась краешком губ, лукаво так.
– А что, Май, – спросила тихо, – я же тебе всегда по нраву была?
И зачем спросила?!
Стряхнул я ее руку. Вероломная баба... Пришла заступничества просить – то еще понятно. Хотя и не кнеж я, чтоб ее от законного мужа защищать. А попросила бы – сделал бы все, что мог. Просто так сделал бы – устьевские ведь мы оба, бок о бок росли, вдвоем оказались во вражьем плену. Что бы я не сделал для нее? Но для бабы разницы нет. Она Тяготе своему тело готова была отдать за подарки – так и мне то же самое теперь предлагала за защиту. Я откажу – к кому другому пойдет, ей не все ли равно!
Думал я все это и сказать хотел, так слова в груди и клокотали, – а рта раскрыть не мог. Потому как знал, раскрою – кричать начну. Услышат, сбегутся... увидят ее, схватят и к мужу отведут. Потому что пока суд да дело, а жена при муже быть должна.
– Иди к деду Смеяну, – сказал я и сам чуть не обмерз от холода, каким от слов моих повеяло. Счастлива это тоже почуяла – с лица сошла, перестала улыбаться. – Он тебя спрячет, приютит, пока я с кнежем о тебе поговорю. И носа за ворота не суй. Не то попадешься мужу – тогда уже не спасу.
Она встала, и глаза у нее были такие громадные – всей Салхан-горе проклятой в них ухнуть и пропасть без следа! Потянула руку:
– Маюшко...
– Нет больше Мая, – сказал я. – Лютом меня зовут. Или не слыхала? Все, иди, пока не светает.
И набросил ей плащ на плечи, чтоб сорочку прикрыла. Она вздрогнула – может, я раны ее ненароком задел? Все сжалось во мне, но стиснул я зубы, велел сердцу умолкнуть. Довел ее до ворот Смеянова дома. Она обернулась напоследок, сказать что-то хотела, но я уже прочь шагал. Несть сил мне было смотреть на Счастливу Берестовну, как прежде, так и теперь, и никакое время того не излечит.
* * *
Не помню, как обратно шел. Голову мне снова мороком затянуло, как полгода назад, когда увидел мамку мою порубленную на пороге нашей избы. Вот так и теперь – стояла перед взглядом Счастлива с исколотым белым телом, с темными пятнами на свадебной сорочке. Как представил себе Тяготу с ножом в кулаке – земля из-под ног поплыла. Думал сперва – прямо сейчас кинусь, найду его, глотку голыми руками порву.
Не успел.
Как дошел до двора, светало уже. У входа в палаты стоял Хрум. Я его видал временами в эти полгода, но словом ни разу не перемолвился с тех пор, как он в тюрьме моей меня проведывал.
– А, вот ты, – сказал он и окинул меня взглядом. – Пойдем, господин наш Среблян тебя требует к себе.
Что делать – пошел.
Воевода то ли уже встал, то ли совсем не ложился. Сидел он в большой палате, где суд судил и советы держал. И народу в той палате было невидимо, даром что рань такая стояла. Все шептались, а меня завидели – перестали. Толкнул меня Хрум в спину – ну, ровно снова я оказался на неродовском корабле! Только теперь уж время прошло, кое-что оно переменило. Развернулся я к нему круто, схватился за бок – а меча-то и нет! Не взял, когда Счастливу повел к деду Смеяну... а зря...
– Все-то ты прыток и скор на расправу, – раздался надо мною голос Сребляна – ровный, негромкий, как и всегда. – Сможешь потерпеть еще чуток, или велеть связать тебя, пока дожидаешься?
Славно же он мне напомнил, кто я таков да где нахожусь! А и впрямь ведь – неровен час стал забывать... Спасибо, кнеж, вовремя одернул. Повернулся я к нему, поклон глубокий отвесил: гляди, мол, покоряюсь. Выпрямился и в глаза ему посмотрел. Кнеж улыбнулся краем рта. Все стояли молча, как будто ждали чего-то. Хрум отошел и оставил меня одного посреди горницы, под недобрыми взглядами. За что судить станут?
Прошло еще какое-то время, не знаю, долгое ли – я не считал. Потом дверь распахнулась, и кнежьи воины втащили Счастливу.
Я глянул на нее и понял сразу: дралась она с ними! Как я в первые дни – насмерть дралась! А только силенок у ней было еще меньше, чем тогда у меня. Плащ соболиный потеряла где-то, сорочка ее окровавленная мешком на ней болталась. Втащили ее, к кнежим ногам на пол бросили. Я рванулся – а и меня схватили, вывернули руки за спину.
– Ты, – спросил кнеж спокойно, – у Тяготы нынче ночью жену увел?
И тут заприметил я Тяготу! Стоял он прежде в тени за воеводиным креслом, молча стоял, ус кусал. Теперь вышел. Глянул на Счастливу один раз. Потом на меня. И такую тьму, такой морок я в глазах его увидал – холодом меня обдало. Некстати вспомнились Смеяновы слова: видал Янь-Горыню однажды, больше не хочется... Вот и мне не хотелось долго в глаза Тяготы глядеть, словно из них на меня в упор смотрела сама Янь-Горыня. Смеян... эх, Смеян, почто девку не сберег? А хотя с чего я взял, что сбережет, не выдаст? Кто она ему? А кто ему я?
– Не уводил я. – Голос мой твердым был, потому что я знал, что не вру, а что еще для веры в себя надо? – Она сама ушла от него. И пришла ко мне. Я гнать не стал.
– Еще бы ты стал гнать такую девку, – сказал Тягота хрипло. На скулах его желваки гуляли. Я посмотрел на него спокойно, даром что жутко мне было в глаза его заглядывать.
– Не гнал, потому что землячка она мне. Нас с ней вместе ты, кнеж, полонил минувшим летом. Да и не любо мне, когда мужик слабую бабу ножом штыряет, жена она ему или не жена.
Среблян голову к Тяготе повернул – и я понял, что в первый раз он шелохнулся с тех пор, как я вошел.
– Почему жена от тебя ушла? – спросил. – Знаешь?
Тот растерялся, словно не ждал такого вопроса. Гляди-ка, с жалобой побежал – постель супружья остыть еще не успела, а теперь теряется, ровно дитя малое. И знал ведь, на кого жаловаться... Меня словно огнем ожгло – да уж не поминала ли ему Счастлива прежде мое имя? И как поминала, раз он теперь первым делом на меня подумал?..
– Ты его не спрашивай, кнеж! – крикнул я, хотя меня и дернули те, кто держал за руки. – Ты на нее погляди! Чай глаза не слепые, сам поймешь.
Кнеж не смотрел на Счастливу. Он на меня смотрел. А Берестовна стояла перед ним на коленях молча, спину распрямив, не ныла, будто ранами своими гордилась, даром что подол так задрался – белы ноги каждому видать. Бесстыжая девка...
– Коли так, – сказал коротко кнеж, – назначаю вам суд через меч. А мечи пусть вам судьба сама даст, какие выпадут.
Пустили меня наконец. Я плечами тряхнул, шагнул вперед. Тягота тоже вышел. Выдвинули нам корзину, в которой клинками вниз стояло десятка два мечей. Я не глядя вынул один – мне все равно было, с каким драться. Тягота выбирал дольше, по рукояти старался определить, какой подойдет. Потом тоже вытянул. Меч у него вышел немного длинней моего и потяжелее, но и сам Тягота был тяжелей меня на пару пудов. Все расступились, несколько воинов встали по сторонам, определяя границы поединка. Ступи кто из нас за такую границу – враз голову снесут. Счастлива повернулась к нам – простоволосая, глаза сверкают, лицо горит... не стал я на нее смотреть. К чему мне, чтоб сердце чаще стучало? Ни к чему.
Среблян подал знак. Сошлись.
Хорош был Тягота – я потом узнал, кнеж его тоже сам учил, как меня. А то ли Тягота плохо учился, то ли Среблян ему меньше сил уделял, а неповоротлив был Счастливин супружник, медлителен, будто боров. Куда ему до Могуты! А Могуту я еще летом уложил, ничего толком тогда не умеючи...
Словом, поверил я в скорую и легкую победу – и поплатился за то.
Сперва он один раз меня достал, несильно – едва полоснул клинком по плечу. Кожу пропорол, и только; я едва поморщился и тут же об этой ране забыл. А зря. Скоро почувствовал, как немеет рука. Еще немного – и перекинул меч в левую, правая так и обвисла. Гул прошелся по горнице, только я его едва услыхал. Сосредоточился, стал думать, куда ударить да как ступить, – и это едва не сгубило меня. Не думать надо было, себя слушать: когда внутри екнет, когда кольнет, – а я не стал... я, если правду сказать, испугался тогда. Видел теперь, что Тягота старше меня на десяток лет, и весь этот десяток лет он в набеги ходил и с врагами рубился. А у меня это был только второй взаправдашний поединок. И когда бился я в первый раз, не горели за вражьей спиной жгучие очи Счастливы Берестовны... А к тому же тогда я думал – дерусь за волю. Не холодила мне тогда еще сердца Салхан-гора.
Когда Тягота дотянулся до меня во второй раз, я думал – все, конец мне. Глубоко он рубанул по боку, так что кровь струей ударила. Все тут же вскочили, я увидел краем глаза – кнеж рукой подлокотник кресла стиснул. А может, померещилось... Тут я понял, что совсем близко подошел к границе поединка, еще шаг – и заступлю. Изловчился, вернулся на середину палаты. Тягота, похоже, такого от меня не ждал, напал с новой силой...
И тут подумалось мне про мамку. Не знаю, чего вдруг – а подумалось. Может, оттого, что смерть слишком близко ко мне подошла, и смог я соприкоснуться с Той Стороной, а мамка почуяла это и пришла выглянуть на сыночка, дотронуться... И мнилось мне, я слышу голос ее: «Так-то, Маюшко... Так тебе за то, что и года не прошло – а покорился. Хлеб с вражиной лютым надломил, надежду потерял... смирился. А говорил: нет, не смирюсь. Почто обманывал, милый?»
Нет! Не обманывал, мать. И крепко слово мое: умру, но на доброй земле!
А дальше не помню, что было.
Пелена с глаз моих спала, только когда я услышал, как все кричат. Подумал – ай, славно провожают лютого Люта на Ту Сторону, не ожидал... А после понял – живой. Живой я и в крови весь, с ног до головы. И как-то не мило, не радостно мне в тот раз было чувствовать ее на себе. Сам не знаю отчего.
У моих ног лежал мертвый Тягота. Клинок мой, в крови от острия до рукояти, глядел в пол кнежьей судной палаты.
Разжал я руку и бросил меч.
Кнеж встал и шагнул вперед. Ко мне подбежали, но я чужие руки оттолкнул. Будет меня хватать! Смотрел, как Среблян поднимает с пола Счастливу – глаза, Горьбога бы по мою душу, глаза ее невыносимые, почто ж сердце мне и теперь рвете?! – как берет ее за руку и ведет ко мне. Подвел, остановился. Толкнул, и она так и села у моих ног, рядом с Тяготиным телом.
– Держи, – сказал кнеж. – Твоя теперь.
На том и кончился суд.
* * *
Дальше тоже плохо помню. Сперва я сам шел, потом меня понесли. Положили в горницу, где только одна кровать стояла, – я решил, что опять меня в темницу заперли, но потом увидел, что нет решетки частой на окне, и успокоился. Счастлива со мною рядом была. Я все понять не мог, зачем, для чего. Отплатить хотела? Так не для того я вступался за нее...
– Май, Маюшко, – шептала, гладя меня белыми ладонями по лицу, по волосам, – ты прости, прости меня, глупую, навек тебя любить стану, только не умирай.
Кого звала? Нет больше Мая. Зарубил его Тягота, а сам от Лютова меча полег. Май отмаялся, но за Лютом лютая смерть пока еще не пришла...
Счастлива целовала меня. Помню, слезы ее мне на грудь так и лились, и я злился: чего теперь-то ревешь, дура? Как нероды за волосы волокли, как муж-изувер ножом колол, как перед всем народом полуголой стояла на кнежем суде – не ревела...
– А помнишь, – сказал я Счастливе, – помнишь, прошлой осенью, когда ты у нас в Устьеве женихалась, тебе на порог чернобурую лису положили? Со шкуркой непопорченной, со стрелой в глазу. Помнишь?
Сказал – и тут же пожалел. И кто за язык тянул?! Никогда не бахвалился, а тут вот...
Она так и ахнула:
– Ты?!
Эх, что было теперь отпираться, назад глупую похвальбу брать. Буркнул только:
– Ну...
Она почему-то опять заплакала, смеясь сквозь плач, лбом к моему лбу прижалась:
– А я думала, это Ладко Соснович, его благодарила...
Так-то.
Ну, что сказывать – не помер я в тот раз. Долго оклемывался, снег уж глубоко лежал, когда я бредить перестал и в себя пришел. И тогда только понял, как услужил мне кнеж. Отдал мне Счастливу Берестовну – совсем отдал. Недолго она во вдовах ходила – на Салхан-острове бабе вдовствовать не дадут. Да и велика ли невидаль – овдоветь: зима здесь суровая, люди умирают, как везде... Тягота умер, я – нет. Как выпал глубокий снег, стала моей Счастлива Берестовна. Я до самого утра в ту ночь думал – мне теперь впору снова имя сменить, самому Счастливом прозваться. Так и заснул, радуясь, как дурак. Утром только одумался, понял...
И без того был я накрепко привязан к проклятому Салхан-острову. Теперь же узы эти вдвое крепче стали. Вот возьмет меня кнеж летом в поход, доберусь до доброй земли, ступлю на нее... а смогу ли остаться, смерть принять, прежде такую желанную? Нет, не смогу. Потому как умру я – что со Счастливой станет? К кому в дом войдет, как с ней там обойдутся? Как она будет здесь без меня...
Ну, кнеж, благодарствую. Услужил, хитрец проклятый. Успокоишься наконец: теперь не сбегу. Оковы – что оковы! Их сбросить можно.
А это – как сбросишь?
4
Бывает, время тянется что добрая тетива – хоть на кулак мотай. А бывает, обернуться не успеешь – куда подевались недели, месяцы? Как стала Счастлива моей, о времени я забыл. Раны мои скоро затянулись, уже и не вспоминалось о них. В ту зиму мне шестнадцать исполнилось. Было бы дело дома, в Устьеве, – раздели в меня мужики наши донага, зарыли бы в землю по пояс, палками отколошматили. Потом пустили бы в лес на три дня, бродить-голодать. Потом бы поставили у старостиного порога и заставили в стоять целый день, каждому мимо прошедшему в ноги кланяться. А после назвали бы взрослым мужчиной, пригласили бы на пир, позволили бы сесть рядом с собой. Ну, я так думаю, было бы, – случалось такое со всеми в Устьеве, едва миновал им шестнадцатый год. А со мной, может, и по-другому бы поступили – не любили ведь там меня...
Ну да что судить? Иначе вышло.
Никем не замеченной прошла моя шестнадцатая весна, потому как уже я был в Салхан-граде кнежим дружинником и жену молодую успел в дом привесть. Отдали нам домишко малый, прибившийся к скале, – и как ни был он мал, а в Устьеве я и мечтать о таком не мог. Только теперь от богатства этого мало было мне радости. Счастлива, как за меня пошла, изменилась – не узнать: тихой стала, кроткой, на чужих мужиков глядеть перестала, говорила со мной всегда учтиво и ласково. Я дивился на нее: как подменили девку! И как мог старался, чтобы не жалела она о выборе своем, не горевала о Тяготе. Если и горевала – не замечал я того.
Как время прошло – не знаю. А только зима кончилась, за нею весна пролетела, как ласточка – не ухватить. Утихомирилось море кругом Салхан-острова, присмирело, ровно как моя Счастлива. Пришел день, и спустили нероды на воду крутобокие свои корабли. Пора было в поход выступать.
Выступили, да без меня. Не взял меня кнеж.
Я за весну у него трижды просился. Он смотрел на меня взглядом долгим, подбородок свой гладил задумчиво. И всякий раз отвечал: «Поглядим». Бился я к тому времени уже почти совсем хорошо – хотя, правду сказать, оцарапать его так и не смог. А видел, что он доволен мной – и не похоже, будто скорбел о воине своем славном, о Тяготе. И то верно, что это за славный воин, если я его одолел? Одобрял, хвалил меня Среблян...
А только в море не взял.
Пять недель они ходили. И я все пять недель ходил – волком лютым по берегу, только что на луну не выл. Счастлива сперва меня отвлечь пыталась, но я на нее зыркнул пару раз – перестала, умолкла. И как же тянуло меня за море, слов несть... Одним глазком хоть выглянуть на добрую землю, на родной край, где люди живые, честные, по твердой земле ходят, где не висит в небе вечная тень Салхан-горы... Думал – умом тронусь. Еще и от безделья томился страшно; кнеж меня к тому времени в свою личную охрану определил – а как уехал он, я без работы опять остался. В соседях у нас женщина одна была, овдовела недавно, нового мужа не выбрала еще, так я чего только ей не переделал! Только что избу не перестроил от основания. Счастлива сердилась, лучше б, говорила, в собственном доме что подлатал, вон и крыша течет... Мамка еще меня за то бранила, что вечно занимался незнамо чем, а на родной дом нельзя было заставить работать.
Да только, руку на сердце положа, – разве ж родной тут был дом?
Через пять недель показались на горизонте черные неродовские корабли. И словно заново я стоял на Устьевом холме и видел их вдалеке – призрак страшной тени Салхана, что к чужому берегу руку тянет... Год назад ринулся я бегом к берегу – а теперь повернулся и прочь пошел. Люд неродовский уже на пристань бежал, кричали все, суетились, толклись. А я не мог смотреть, как станут невольников новых на берег выгружать. Крепка моя память была... ох и крепка.
Пришел домой – вижу, Счастлива торопится куда-то от ворот. Надо же, думаю, какая, мужа пошла встречать... А она завидела меня и крикнула: «Май!» Она когда Маем меня звала, когда Лютом – я уж махнул на нее рукой, пусть зовет как хочет. Подошел ближе. Смотрю – она платком плечи обернула, будто на праздник какой.
– Ты куда, – спрашиваю, – собралась?
– Да как же! – сказала моя Счастлива, а очи ее так и горят огнем, ох, знаю я этот огонь! – Как же, ты разве не слышал? Господин наш Среблян домой идет! И с поживой богатой. Пойдем на берег, Май, поглядим, может, ребеночка себе возьмем...
И тут... не помню, что было. Будто захлестнуло меня снова черной волной. А очнулся – глядь, Счастлива сидит на земле и ревет в три ручья. И уж как редко она ревела – а тут пошла, не унять... На скуле у нее синячище расплывался, багровел уже.
Я сжимал кулак, и он ходуном у меня ходил, словно дергал кто меня за локоть.
– Май... ох, Май, не надо, не бей меня...
– Пожива? – прохрипел я, разом придя в себя и разозлившись, кажется, еще больше – хотя уж и не ведал, что можно сильнее злиться. – Поживу, говоришь, кнеж тебе привез? А помнишь ты, что сама год назад была такой вот поживой? Как смотрела на неродов, что на берегу сгрудились, за зад тебя хватали, – помнишь? Ребеночка ей!
– Но как же иначе... – всхлипнула Счастлива, прижав ладонь к лицу – щека у нее уже начала опухать. – Как же по-другому... хоть так...
Вот тут я пожалел про все. Вправду – пожалел, что не кинулся со скалы, что жилы себе не сгрыз в сыром трюме. Все, пропала моя Счастлива. Стала неродом. Так вот оно, значит, бывает. Ну что теперь, повернуться спиной к ней, прочь пойти? Так любил же я ее... вот хоть тресни, любил, себе на беду.
Присел перед ней, руку ее от лица отнял. Она вздрогнула, отшатнулась. Ох и успел же на нее страху нагнать Тягота... на гордую мою Счастливу... Или то не Тягота, то я, Лют?
– Не бойся, – пробормотал, бережно тронув синяк пальцами. – И не реви... что уж, пойдем.
На берегу уже выгружались. Еще не дойдя, я понял, что поспешила с радостью Счастлива: пожива в тот раз выдалась небогатой. Лишь в двух лодках везли пленников, баб и детей, совсем не было мужиков. И тут я заметил, что двух кораблей не хватает – ушло шесть, воротилось четыре. Оказалось – в лихую бурю попали по дороге нероды, едва уцелели, два судна потеряли, а на них как раз пленников везли. Мрачен был Среблян, сойдя на берег. Ясно было: снова в поход идти, новые корабли добывать, новых людей... Я ему поклонился. Он посмотрел на меня, будто не видя. Я вдруг увидел, что сам он уже немолод, не больно-то и рад в походы ходить. А и не ходил бы, кто ж ему велит... нет, не пожалел я его. Что заслужил, то имеет.
Вдруг услышал я звук странный, почти забытый – собачий лай! На Салхане собаки водились, да только мало их было, не то что на доброй земле, – часто дохли они, как и любая живая тварь, что попадала на Салхан. Оглянулся – и впрямь псы. Десяток щенят вывалился из лодки и вертелся на бережку, а местная детвора, в числе которых и кое-кто из наших устьевцев, визжала от восторга, копошась рядом. Там я увидел и мою Счастливу... встала на колени перед щенком, на руки взяла, он лицо ей принялся лизать. Она голову подняла, умоляюще на меня посмотрела. Я рукой махнул – а что там, бери! Щеня – оно и есть щеня...
Только тут я увидел детей, что сгрудились у другой лодки. Кнежьи воины ходили меж них, пересчитывали, одну девчонку к бабам кинули – та кричала и из рук рвалась, да что она против них... Глядел я – и ног под собой не чуял. Да как я могу смотреть на это? Как могу? Спрашивал себя – и ответа не знал, а все одно стоял на месте и смотрел.
Отчего-то, когда домой шли, не мог я глядеть на Счастливу. Та щенка к груди прижимала, гладила его, болтала ласково, ровно с дитем. Я подумал, что никогда ей так свое дитя к груди не прижать, – и едва не завыл в голос. Щенок нос ей лизнул, она засмеялась. Посмотрела на меня радостно, благодарно, будто я сам ей этого щенка принес и подарил.
А я глядел и думал: нет, взвою, Горьбога бы по мою душу, точно взвою сейчас!
Слов нет, как рад был, когда кнеж меня потребовал в свои палаты, в дружину назад, караул при нем держать.
* * *
Едва сойдя на берег и кончив обниматься с женой и дочкой, кнеж скликал совет.
На совет тот явилась вся его дружина. Спрашивал он, правда, только командиров своих, остальные стояли вдоль стен, помалкивали, кнежьи слова на ус мотали. Озабочен был Среблян, по лицу его тучи ходили, в глазах молнии посверкивали. Сошлись на одном: в поход идти надо, причем скоро. На судах, что море себе в дань забрало, зерно везли – неровен час будет Салхан-град голодать. Полей, что меж городом и скалами лежат, все одно не хватит, чтобы и город, и рудники прокормить. Беда была в том, что и уцелевшие корабли сильно потрепало в буре, чинить их было надобно, на то требовалось много дерева, а где его взять? Порешили один корабль починить, на нем пойти к Даланайским берегам, напасть там на поселение, привезть все, что надобно... Слушал и хмурился кнеж. Я стоял близ его кресла, где мне теперь по уставу было место отведено, и больше на него смотрел, чем слушал, что люди его говорят. Не любо ему было то, что они говорили. Видел я, что не хочет он снова этим летом ходить в набег – не хочет, а надо. Любопытно, один ли я это заприметил или нет? До того Сребляна все это встревожило, что не усидел он на месте, встал и стал прохаживаться по горнице, пока люди его наперебой говорили, сильными пальцами рассеянно волосы назад убирал. И чудилось мне, будто мыслью он далеко...
Может, оттого и случилось то, что дальше было. Среблян, как я сказывал, был среди неродов лучшим воином, а как быстр он и как трудно его врасплох застать – то я по собственному опыту знал. Никто не мог обернуться на опасность быстрей него. Никто и не обернулся.
Я тоже не обернулся, куда мне в скорости со Сребляном тягаться? А только вдруг что-то екнуло во мне. Что-то кольнуло внутри, как было, когда с Могутой дрался. И как кольнуло – я выхватил меч. Сам не ведаю, для чего, – а вот почуял лихо, еще никем не замеченное, и выхватил.
Среблян, меряя горницу шагами, как раз до дверей дошел и спиной к ним повернулся. И в тот же миг в проходе появился человек. Я успел заметить только, что он лыс и ободран, увидел блеснувшее на свету лезвие – то ли нож, то ли копье... Возник он у Сребляна прямо за спиной. Бросился молча – никто ни крикнуть не успел, ни оружие выхватить. Да только я-то меч в руке уже держал. И бросил его вперед, метя клинком человеку в грудь.
Потом-то я понял, как это со стороны смотрелось. Ходит себе кнеж по палате, а тут один из его людей обнажает меч и прямо в кнежа кидает. Немудрено, что на меня тут же кинулись. Гвалт поднялся – страшное дело. Я думал, сразу зарубят – а ведь даже не знал, достиг ли мой клинок цели, да и в самом деле не попал ли я ненароком в Сребляна... И тут только до меня дошло, что я сотворил.
– Отпустите его! Да пустите же! – Голос воеводы отдался громом, все так и смолкли, будто онемев разом. Пустили меня. Я вырвался, тяжко дыша, глянул вперед.
Среблян, живой и невредимый, стоял у двери и смотрел вниз. У ног его лежал, корчась и загребая руками воздух, тот самый мужик, которого я заприметил в дверях. Меч мой торчал у него в груди, насквозь ее пробив, – я аж удивился, и где у меня сила взялась так метнуть? Мужик хрипел, кровавые пузыри губами пускал, взглядом затуманенным, будто у бешеного пса, глядел на Сребляна и все силился сказать что-то, да только сипел. Вид у него был жуткий, глаза запавшие, щеки ввалились так, что кости черепа проступали, и пахло от него, будто он последние лет десять просидел в яме, – землей и нечистотой. И вдруг увидел я широкие вмятины, темнеющие у него на запястьях. Следы от оков...
То каторжник был. Один из тех мужиков, кого нероды отправляли на рудник в гору Салхан, кровавое серебро копать.
И тут пронесся над горницей вой, страшней которого я в жизни не слыхал. У меня аж волосы дыбом встали – так собака воет, которой злые дети хвост отрубили. Услышишь его – и сердце в миг на куски порвется, столько горя и муки нечеловеческой в этом вое.
Из угла метнулся не кто-нибудь – Ивка. Как есть, в бабьей своей одеже – да иначе я его и не видел никогда. И откуда он взялся там, как проник, зачем в тени прятался, что вынюхивал? То мне поныне неведомо, а тогда я о том и вовсе не подумал. Кинулся он к каторжанину, что последние мгновения свои доживал, рухнул перед ним на колени. Никого, казалось, вокруг не видел – ни дружинников, ни Сребляна, что в двух шагах стоял и смотрел на него.
– Батька! – закричал Ивка таким голосом, будто сам собирался упасть замертво. – Батька!
Каторжанин повел налившимися кровью глазами, лицо его измученное озарилось удивлением. В толк, верно, не мог взять, что это за девка над ним воет, за руку хватает, батькой зовет? А потом так и застыл, даже судорога его бить перестала. Поднял руку неверную, Ивке на щеку положил, провел, будто ощупью надеялся вызнать то, в чем глаза отказали. Ивка ревел, черные от сажи слезы катились по нарумяненным щекам и капали его отцу на разрубленную грудь.
– Батька...
– Отрадко... сынок... – прошептал каторжанин и провел ладонью по его лицу, размазывая свою кровь и его румяна. – Что ж они с тобой сделали, изверги?
И так удивленно он это сказал, не зло, не презрительно совсем. Я в на его месте из последних сил бранью такого-то сына покрыл, с проклятием отцовским на Ту Сторону отошел. А он только молвил снова: «Что ж ты, сынок...» И умер.
Ивка рыдал, обхватив отца поперек груди, перемазанный весь в отцовской крови, в голос рыдал. И те, кто стоял кругом него, молчали, словно земли в рот набрав, сырой, холодной земли.
Я подумал – не подойти ли, не забрать ли мой меч Прожор, до крови охочий. Почему бы и не забрать? Глядел на Ивку и думал об этом: хорошо ли то будет, достойно ли, если подойду, оттолкну пацана, упрусь ногой в тело его отца, да и выдерну свой клинок. И что почувствую, когда так сделаю? Пойму ли, что вот наконец стал неродом, как всегда боялся? Ох, руки мои дурные, проклятые, что ж вы вечно вперед лезете, делаете прежде, чем голова думает?! А и поделом бы в оковы вас, не творили бы этакого зла! Подумать ведь сил несть, что пережил человек этот, Ивкин отец, чтобы досель дойти. Как с рудников бежал, как в город проник, в кнежий двор прокрался, миновав стражу... Сколько людей на пути своем убил, чтоб добраться до воеводы, своими руками забить нелюдя, который жизнь ему поломал, сына его отнял... а даже не знал ведь, что хуже, чем отнял, – облика человеческого лишил. И коли верно Горьбог дает каждому по заслуге – достоин был господин наш Среблян такой смерти от злого удара в спину. Достоин! И лежал бы сейчас на этом полу вместо Ивкиного отца, кабы не я. Так должно было быть, да кто-то за руку дернул меня, проклятого, – не иначе Янь-Горыня, чтоб пусто было ей...
Под нестихающий Ивкин вой кнеж обернулся и поглядел мне в лицо.
Не ведаю, долго ли смотрел – мне мнилось, что целый год. Потом сказал:
– Мертвяка вон. Прибрать тут.
И ушел, не стал продолжать совет, ни на кого больше не посмотрел.
* * *
Наутро нашли Ивку в его собственной горнице за запертыми дверьми. Повесился Ивка.
Счастлива, как узнала об этом, горько плакала. Часто что-то стала плакать моя зазноба, как за меня пошла... Оказалось, она тайком от меня с Ивкой дружбу водила. Уж не знаю, в чем была та дружба – платьями они, что ли, менялись? – да мне и недосуг было вызнавать. Я не сказал ей, как все вышло, но она и без меня узнала – люди болтать принялись, язык им узлом не завяжешь. Думал – озлится Счастлива. А не озлилась вроде, наоборот. Гладила мои волосы, и целовала меня, и ни словечка не говорила. Не знаю, что думала – я боялся спросить.
Тело Ивкиного отца сбросили со скалы – каторжанин и убийца, как ни суди. А Ивку хоронили с честью, не так, как жить силовали. Как мужчину хоронили. Смыли с него краску и кровь батькину, от которой он так и не успел отереться, одели в мужскую одежу, меч меж сомкнутых рук поклали – хотя уверен я, никогда он меча не держал. Так я понял, что было уже Ивке шестнадцать лет – с железом только взрослых хоронят. После сколотили плот, сложили костер, положили Ивку на него. Подожгли – и пустили на волны. Как знать, теперь, может, отпустит Янь-Горыня своего пленника – отмучился... Я глядел на пламя это, полыхавшее над темной водой заревом, будто в ночи солнце взошло, и думал – что ж за человеком он был? Сколько лет так вот жил, и ничего, вроде не жаловался. А как предстал перед отцом умирающим, как открыл ему весь свой позор – не выдержал, не смог жить? А может, он все надеялся, что вот вырвется с каторги батька, вернется за ним, спасет – а теперь не стало этой надежды? Как узнать, кто скажет теперь? И не было в ничего ведь, если в не я. Может, думалось мне, удержи я тогда руку свою, подумай прежде – был бы мертв теперь Среблян, а Ивка с отцом его живы. Может, так и снимается проклятие – с кнежьей гибелью от руки им замученных? А я мог снять, да не снял... Только ведь дед Смеян говорил, Среблян тоже убил Бушуя – а не изменилось ничего.








