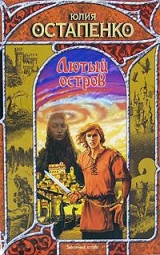
Текст книги "Лютый остров"
Автор книги: Юлия Остапенко
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Вот так шли дни, за ними недели, уже осень спустилась на остров Салхан, похолодали ночи – а я все не мог его оцарапать. И так, и этак – не удавалось. И каждый раз снова надевали на меня оковы и уводили в мою темницу – теперь уже только на ночь, ибо рубился я с кнежем от зари до зари, даже и дивился, неужто нет у него других дел. Я иногда спрашивал его, что сталось с моими устьевцами. Чуть было не напомнил, что он мне о них обещал, – а потом подумал: зачем? Бесчестному про честное слово не напомнишь, не пристыдишь, а честному и напоминать не надо. Кнеж сказал, живы они все. Я, правда, только про детей спросил, а что стало со взрослыми – о том и не спрашивал. Как выдавалось время – сидел у оконца, все высматривал, думал, может, кто из мелкоты мимо пробежит. Один раз увидал Дарко Ольховича. Тот знал, видать, где меня держат, прокрасться хотел – но один из неродов заметил его, палкой отогнал. Он испуганно убежал и не приходил больше. Ну да что – я ж знал, что не любили меня в селе... Попытался, и то спасибо.
Кормили меня, как прежде, исправно, ночами я спал как убитый. Про побег пока всерьез не думал: прежде прочего следовало от цепей избавиться, а для того надо кнежа в бою одолеть... и чуял я, что скоро смогу. Мышцы мои за прошедшее время отвердели, окрепли – и оковы казались чуть полегче, чем прежде, спать не мешали, я их и не ощущал почти – привык, что ли... тьфу, зараза. Сам ведь клялся, что не привыкну, – а тут к такому... да что там, должно быть, пес тоже привыкает к цепи, посидев на ней достаточно времени. Вот только я не пес. Не от пса меня мамка моя, неродами погубленная, прижила. От волка – то возможно. А волку не привыкнуть к конуре, сколько ни держи.
Потом вдруг настала неделя, когда перестали за мной приходить. Я испугался – а ну как надоело воеводе со мной баловаться? Да и с чего я вообще взял, что не шутки он со мной шутил? Но тут вспомнилось, как он рассказывал мне о проклятии далгантов, как в сторону смотрел, каким тусклым был его голос и взгляд, и даже серебряные волосы, мнилось, поблекли... нет, не может быть, чтобы врал. Верил я ему почему-то. Ненавидел люто, а верил.
Потом все объяснилось. У стражников я вызнал, что кнежья дочка занемогла, и он от постели ее не отходит. Дочка, вон оно как... небось тоже похищенная из-за моря, от любимых родителей. Жалко мне ее было, а если подумать крепко, то и кнежа жалко – самую малость. Помрет девка, будет ему наука – силком счастливой семьи не добудешь.
В эти дни я больше прежнего тосковал – и ужасно удивился, когда ко мне пришел Хрум. Тот самый нерод, что якшался с убийцей моей матери, тот, кто веревкой меня связал и на вражий корабль поволок. Проведать пришел. Принес гостинец – сладкого пирога и малый горшочек меда. Говорил ласково и смотрел совсем без злости, как и почти все нероды смотрели – на меня и на других детей. Да уж не мыслил ли он прежде меня в дом свой взять, сыном назвать?! Потому так приуныл, когда кнеж меня себе потребовал, игрушку новую пожелал. Смотрел я на этого Хрума и не знал, что ему сказать и что сделать. Вроде и смертный враг, а не было во мне на него злости. Может, от того, что я помнил, как он на тело моей матери смотрел тогда, во дворе моем, – растерянно смотрел, грустно... он бы не убил ее, если в она на его пути встала. Это я знал.
Вот Могута – тот бы убил без разговора, а этот – нет.
Поэтому не стал я Хрума ни мечом колоть, ни цепью душить. Взял гостинец и даже спасибо сказал. Гордо так.
Хрум уже уходить собрался, как вдруг промолвил:
– Ты господину нашему Сребляну по нраву пришелся. Не со всяким он так, как с тобой... Ты не перечь ему. Все одно лучшей доли, чем в его дружине, тебе не видать. А девки дружинников всюду любят, что на доброй земле, что здесь. Да не так уж и плохо тут... ты увидишь потом.
Я ничего не ответил, и он ушел. А мне из всего им сказанного в голове одно засело – «там, на доброй земле...». Добрая земля за морем осталась. А эта земля была зла, люта...
В самый, может быть, раз для меня.
* * *
Дочка кнежья поправилась. Уж молитвами ли его или стараниями знахарей, того я не ведаю. Среблян на радостях затеял пир – да какой! У нас в Устьеве тоже, случалось, бражничали, в основном на свадьбах – всем селом собирались, вместе на зверя шли, вместе ели потом. Не знаю, водился ли зверь в здешних лесах, да и были ли тут леса – с моря я только скалы видел, – или угощенье воеводино было, как и все его добро, награбленным. А только пиршество он готовил и впрямь знатное. Челядь с ног так и сбивалась, носясь по двору, птица кричала, чуя последние свои денечки, овец на бойню целое стадо загнали, а из кухонь пар валил – коромыслом! Бабы из сундуков одежи ладные повынимали, мужчины до блеска начищали кольчуги – каждый спешил покрасоваться, воеводин взор ублажить, дочку его потешить. Кажется, весь город был зван на тот пир; ни одна палата столько народу бы не вместила, потому накрыли столы прямо в подворье кнежего дома, перед моим окошком.
Обо мне в эти дни, ясное дело, все позабыли и кормили даже через раз, но это-то не беда – дома я и не так голодал. Только скучно было, и стоял я целыми днями, с ногами на скамью забравшись, смотрел в окно, как готовится неродовская забава. Когда вечер подоспел, когда стали слуги яства носить и народ со всего Салхан-града к кнежу потянулся – только тут я со скамьи слез, лег на кровать и повернулся к стене лицом. Вот уж больше заботы нет – глядеть, как изверги напиваться-наедаться станут...
Заскрипел засов – я аж подкинулся. Никак самого воеводу ждал – но воеводе, конечно, было недосуг. Прислал стражника, передал, что на пир зовет. Пойти, что ли?.. А чего бы и не пойти? Все равно, откажусь – силком потащат. Почто срамиться?
Снизошел я. Кивнул. Любопытно было: снимут оковы, нет?.. Не сняли. Ну да и ладно, не привыкать. Меч велели оставить; оно и верно, где это видано – с мечом да на кнежий пир?
Шел я, голову высоко подняв, задорно насвистывал. Стражи мои помалкивали, не бранились и в спину не толкали. И то ладно. Привели, посадили с краю стола, близ ворот, где самые последние люди из званых разместились. Я сразу увидел, что был за воеводиным столом единственным пленником – никто больше в оковах не сидел. Одни на меня глядели с любопытством, иные, напротив, отворачивались. Ага, понял я, сами, видать, недавно попали на Салхан, а смирились уже – как же я им глаза-то колю... Бабы были тоже. Красивые бабы – ну, оно и понятно, других нероды воровать не станут. Попадались, правда, и седые старухи, хотя и мало, и сидели они близко к кнежему месту – в почете они тут жили. Сам Среблян сидел в головном столе. Рядом с ним была немолодая, но очень красивая женщина – как я потом узнал, кнежинна, по-ихнему – госпожа; глаза у ней были черные и тоскливые, как студеная зимняя ночь, и имя она носила странное – Дурман. Дочка их, худой бледный воробышек, отощавшая и побелевшая еще более после болезни, откликалась на имя Ясенка – и ей оно вовсе не подходило. Отец часто к ней наклонялся, шутил, веселил, смотрел ласково, а она, видать, слаба была еще, улыбалась вымученно, через силу, голову русую на плечо ему клонила. Устала – это да, а что ненавидит в глубине души и ждет случая, чтобы шпильку острую нелюду-отчиму в шею воткнуть, – на то похоже не было. Тоже все забыла... И вдруг страх меня взял, жгучий страх: неужто и я забуду? Сейчас креплюсь, хорохорюсь... А годы минут – как тогда? Но нет... всплыло тут само собою мамкино лицо с застывшим взглядом. Нет, вовек мне его, лица этого, не забыть. Ох, дайте только сбросить оковы!..
Всем хорош был пир у Сребляна – и кормили-поили сладко, и шуты кривлялись потешно, и дед-гусляр ладно бил по струнам да пел песню про дивные земли, про чудный град Сотелсхейм, что стоит в далеком Бертане... А не смотрел я, не слушал. Головной кнежий стол взгляд мой притягивал, сил несть. Рядом с кнежем я видел Могуту и других командиров его кораблей, таких же рослых и тоже в медвежьих шкурах. А еще там девка сидела – вся размалеванная, глаза сажей подведены, щеки нарумянены, волосы по плечам распущены, а рожа блудливая – страх! И так та девка на меня зыркала – я уж не знал, куда и деваться. Будто нет у ней, девки той, на всем свете врага страшнее меня. Вот так на меня глядела Счастлива, когда я невзначай грудь ее увидал. Только эта девка мне сраму не казала, за что ж она меня так?..
И только подумал про Счастливу – так ее и увидел, словно сама на зов пришла.
Посадили ее в середине стола, между дружинниками. Хороша она была – видать, и тут ее нашлось кому холить-лелеять. Коса уложена бережно, лента белая через лоб, глаза скромно долу опущены... да только знаю я эту скромность. Так вот она взор отводила от устьевских женихов, когда повадились. С ней рядом сидел статный усатый молодец, то и дело меду ей подливал, говорил что-то на ушко, смеялся, а она знай краснела, но видно было, что любо ей это. Ох, бабы... Да не этот ли молодец батьку твоего, Бересту, на рудник провожал?! А ты ему уже всю себя отдать готова... Бабы!.. И так вдруг тошно мне стало, так муторно – даже под палубой неродовской галеры так не было. Отодвинул хлеб, почуял – если в рот возьму, все обратно выйдет.
– А что это ты, Лют, хлеба моего не ешь?
То Среблян спросил. Меня, если только не было в обычае у него всех подряд Лютами нарекать. И как-то тихо крутом стало враз, хотя и велик, и шумен был воеводин пир. А все знали, видать, что я тут. И ждали чего-то. И только я один знать ничего не знал и не ждал поэтому.
– Хлеб, – сказал тем временем Среблян спокойно и вовсе не гневливо, но каждое слово падало в наступившей тиши тяжким камнем, – это самое ценное, что есть у нас здесь, на Салхане. Видал ты поля наши – малы они, а ртов много. У нас, Лют, можно отказаться от мяса и меда, но не от хлеба.
– А я к тебе в гости не просился, – ответил я звонким от злости голосом. И екнуло внутри: побьют ведь – а несть сил было удержаться. – Я тебе пленник, а не гость, и не добрый ты мне хозяин, чтоб я обычаи двора твоего уваживал. А коли много ртов – так меньше невольников хватать надо было, глядишь, и прокормил бы.
Тишь стояла на кнежем дворе в опустившейся темной ночи – хоть ножом ее режь, такая густая. Никто и шептаться не смел, а все смотрели кто на меня, кто на Сребляна – ну, велит теперь выпороть или сразу зарубит, как давно было след?
Но Среблян ничего не сделал. Только слегка прищурился, глядя мне прямо в глаза, даром что далеко сидел, – и сказал:
– Не слышал я от тебя таких речей, когда прежде ты ел мой хлеб.
Тут мне кровь в лицо бросилась. А и верно, рабы на каторге – и те харч отрабатывают... а я что делал? Знай, лежал на неродовских перинах да неродовскую снедь лопал, когда с воеводой не дрался. Почто решил, что задаром?
Все молчали – ждали, что скажу. А мне все одни проклятия в голову лезли. Что ж они со мной так? Убили бы сразу, а нет – на рудник бы сослали, к сельчанам моим. А так мучают только, в клетке держат, сюда привели вот, будто зверя на потеху...
Среблян встал. Знак подал, меня тоже на ноги поставили. Сказал:
– Принесите сюда его меч.
Пока ходили, никто словечка не проронил. Меня ноги едва держали, стыдно мне было, что не нашел чем упрек неродовский отбить. А Среблян знай смотрел на меня и щурился. И дочка его смотрела тоже. И та девка размалеванная – ну и зло смотрела! Как же ей хотелось, чтоб голову мне срубили! А смотрела ли Счастлива – не знаю. Боялся я в ее сторону глядеть, ну и не глядел.
Принесли мой клинок, Прожором названный. Сунули в руки, вытолкнули меня на середину двора, между столами. Кнеж тоже вышел и подошел ко мне. Я увидел, что на бедре у него меч – у него одного во всем дворе. Неужто драться будем?! А как знать... может, теперь и оцарапаю его, удальца. Среблян вынул из-за пояса ключ от моих цепей, что всегда был при нем, освободил меня. Как упали оковы наземь, посмотрел пристально. Меня как ударило – я стою с мечом в руке, а он – передо мной! И даром что с оружием – не успеет выхватить. Так бей же, Лютом прозванный, бей люто и не думай ни о чем – отмаялся...
Не ударил. Не знаю почему – и не спрашивайте. Стоял молча и ждал.
Кнеж спросил:
– Кого, парень, более других средь сидящих здесь ненавидишь?
Я оглядел пирующих. Сидели они тихо, вполголоса переговариваясь между собой, бороды поглаживали. Я скользнул взглядом по лицу Хрума, тоже бывшего тут, задержался на миг... поглядел дальше.
Указал мечом и сказал, как прежде на неродовском корабле:
– Его.
– Ах ты, щеня дурное! – воскликнул Могута – похоже, слова мои весьма его позабавили. – Или забыл уже, как я тебя на «Быстряке» приложил?
– Уверен, что его? – спросил кнеж. – Думай, парень, другой раз не спрошу.
– Уверен, – сказал я. И впрямь, мало в чем я был так уверен. Особливо когда вспоминал, как встал Могута против Счастливы, в гордые глаза ее посмотрел, обвел слащавым взглядом стройный стан и молвил: «Женой будет...»
– Уверен! – крикнул я снова – и, видать, все, что чувствовал и высказать не умел, вложил в этот крик.
Могута перестал улыбаться и медленно встал. Среблян повернулся к нему, встав ко мне спиной, отцепил свой меч, протянул молча. Могута ухмыльнулся, пошел на нас. Принял у кнежа меч с поклоном.
– Что же, угодно тебе потешиться, господин мой Среблян, – так потешу, – сказал, скалясь в усы. – Только теперь, не взыщи, руки моей даже ты не остановишь.
– Не остановлю, – сказал кнеж спокойно. – Насмерть будете биться.
Загудел тут кнежий пир. А во мне будто костер развели. Насмерть! Стало быть, зарублю Могуту – не убьют, не накажут? То добро!
– Отец, не надо... – подала вдруг голос бледная Ясенка, но Среблян к ней даже головы не повернул. Посмотрел на меня.
– Победишь – вольным будешь, – сказал вполголоса – и пошел прочь, к головному столу. Я проводил его взглядом. Неужто думает, что мне Могуту убить – проще, чем самого воеводу на учении оцарапать? А если так – еще лучше! Смогу.
Факелы горели ярко, светло было на подворье, как днем, – потому и заметил я краем глаза метнувшуюся тень. Было в темно – лежать бы мне мертвым на черной салханской земле. А так – увернулся. Теперь я только понял, что быстр и ловок был Могута, хотя и велик. Тогда, на корабле, дрался он со мной едва в полсилы – дитем неразумным считал, проучить хотел... Мыслил ведь: пообломится парень – в племя наше войдет, мне с ним вместе брагу пить. Все они так думали, потому и глядели незло. А ныне я был им враг.
И бился со мною Могута, как с врагом.
Быстр он был – а я на малость, да быстрее. Ноги, к оковам привыкшие, без цепей летали, будто крыльями обзавелись. Руки, кандалами измученные, без кандалов едва ощущали вес меча. А более всего облегчало меня слово, оброненное Сребляном, – воля! Только и осталось до нее, что грязная Могутина кровь. А что Могута – Могута был тур, медведь, старый зверь вроде тех, на которых я ходил с рогатиной. Ну, если правду сказать, то на такого большого и матерого – не ходил... но бывает же что-то в первый раз, а иначе – никак.
Только с ним надо было иначе, чем с медведем. С людьми не так нужно, как со зверьем, – это в меня Среблян накрепко вбить успел. Бегал я вокруг Могуты, дразня уколами, разъяряя, уходя из-под занесенной когтистой лапы. Уморить хотел – и ведь вышло у меня. Я еще дыхание не сбил, а он уже запыхался, стал с шага сбиваться. Раз я его чуть не достал – он ответил на удар ударом с такой силой, что я полетел навзничь. Пир кнежий так и ахнул, люди с лавок повскакивали – зарубит?! Не зарубил – вывернулся я снова из-под самого клинка. И ну дальше кругами плясать. Могута рычал, плевался, сыпал проклятиями – а достать меня не мог. Вот точно так я не мог достать Сребляна – а теперь сам будто очутился на его месте и знай уходил от ударов...
А потом вдруг Могута покачнулся, и шея его открылась. Уж не знаю как – я и подумать об этом не успел, только увидел полоску кожи, блеснувшую меж бородой и горловиной кольчуги. Ёкнуло во мне, как бывало, когда знал – или сейчас стрелу пускать, или не пускать вовсе! – я и ударил. И будто вернулся на Устьев берег, к родной избе, и снова кровь Брода-убийцы плеснула мне на руки, на лицо... Только тогда рогатина застряла. А сейчас я меч выдернул и отступил.
Рухнул Могута. Баба какая-то закричала – жена небось, которую он в дом свой за косы приволок. Знать бы – рада ли за меня Счастлива? А только не стал я на нее смотреть. Рукой, от меча свободной, пот со лба утер, вихры от глаз убрал. И повернулся к воеводе.
Воевода глядел молча. Люди его возбужденно переговаривались, а он молчал.
– Что, кнеж, – спросил я едва не весело, – слово помнишь свое?
И почто спросил – честный помнит, бесчестного не засовестишь...
– Меч оботри, – сказал Среблян.
Веселье мое как рукой сняло. Посмотрел я на лезвие, багровое от вражьей крови, на тело Могутино у моих ног. Не впервые человека убил, не впервые помстился – а рука враз ослабла, будто никогда прежде крови не лила. Встал я на одно колено, вонзил клинок в землю. После выдернул, отряхнул. Подумал, не поклониться ли воеводе – гордо, насмешливо, – но ноги сами уже повернули и несли со двора...
У самых ворот обернулся. Оглядел в последний раз двор. Молчали нероды, ни один не пошел Могутино тело обнять напоследок, только жена подбежала к нему, бухнулась на колени и горько заплакала...
Сплюнул я себе под ноги – и ушел.
3
Эх, Май-Маята, Лютом названный... Выборол себе волю вольную, кровью сполна оплатил – дальше что? Куда теперь-то пойдешь?
Кнежий двор стоял высоко, и отсель было видно, что пристань внизу пуста. Седоголовые волны сердито дрались с каменистым берегом, отступали, кидались снова... Я пытался припомнить, что надумывал сделать, когда сброшу оковы, – и не мог. Стоял, меч опустив, и глядел на море. Далеко ли отсюда до моего Устьева? Долго ли плыть? Гложило чувство, будто забыл сделать что-то, а что – не понять...
Сзади раздались шаги. Никак воевода передумать успел, назад меня потребует? Я крутанулся волчком, как у самого Сребляна и научился, перехватил меч, выставил – теперь-то меня так просто не взять!
Деревянные гусли со стуком упали наземь, грохотнули о камень, жалобно дзенькнув струнами.
– Ай, не казни, добрый молодец... пощади старика...
Дед-гусляр, что пел на кнежем пиру о дальней земле, стоял передо мной, умоляюще подняв сухощавые руки. Белая как снег борода реяла на ветру, мешалась со столь же белыми волосами, цеплялась за поднятую клюку. Лицо – что яблочко сушеное, все в морщинах, под мохнатыми бровями глаз почти не видать. Я еще на пиру удивился мимоходом – как это люди до таких лет доживают. Убрал я меч. Дед вздохнул облегченно и руки опустил – неспешно так, величаво. И что-то опять кольнуло меня – странно он как-то на меня глядел...
– Вот притомился от шуму-гаму, вышел передохнуть, – будто извиняясь, сказал дед. И взгляд у него хитрый какой, Горьбога бы по его душу! Не понравился он мне. Да и что мне тут нравилось?
– Прости, дед, не хотел напужать, – проворчал я, и сердясь, и смутясь. Ну не дадут уйти, не дружину вслед пошлют, так деда столетнего!
Он все стоял, на клюку обопрясь, не шел. Я вдруг понял, что гусли его так и валяются на земле. Поди и треснули... Ну, что делать? Наклонился я, поднял их. Отряхнул от грязи, протянул деду. Уж почто я мамку свою не слушал, а старость уважать был приучен.
– Держи, дед...
– Ай, спасибо, дитятко, – хитро жмурясь, сказал гусляр. Протянул руку – и вцепился в гусли ловкими, сильными пальцами. Дернул – и я чуть башкой вперед не полетел, до того сильна была эта рука! Да он щелчком мог бы прибить меня, когда в захотел! Я пустил гусли, отскочил, схватился за меч. Дед не шелохнулся. Борода его так и стелилась по ветру, а глаз видно не было совсем.
– Спасибо, родненький, уважил старого Смеяна, – пропел дед сладко. – А раз уважил, то старый Смеян тебе вот что присоветует: коли в море идти надумаешь, бери ту лодку, что стоит у пристани справа, с самого краешку. Так оно лучше будет.
Я поколебался. Потом поблагодарил неуверенно, не зная, что еще сказать, поправил меч на боку, пошел от ворот...
– Сохрани тебя Радо-матерь, дитятко, – сказал дед мне в спину.
* * *
А все ж таки осень на землю пришла. В темнице моей, на мягкой-то перине, и в горячке драки на подворье это не очень чувствовалось. А теперь шел я пустыми темными улицами Салхан-града (ни души кругом – и впрямь всем миром к кнежу ушли), и ярым ветром с моря меня едва с ног не сшибало. Но я шел уперто, сколько остров меня ни держал, сколько ни гнал назад в уют да тепло моей конуры. По морю валы ходили, вздымались и падали, будто грудь умирающего, – море лихорадило, кидало в тяжком бреду, волны бессильно кусали камень и с ревом откатывались назад.
На пристани впрямь почти никого не было. Рыбацкие лодки, собранные в дальнем ее конце, сторожил один-единственный парень, немного постарше меня. Сидел на одной из лодок, в плащ кутался, ежился, ругался себе под нос. Оно и верно – другие там у кнежа на пиру веселятся, а ему тут скучать, мерзнуть... Я придержал шаг, раздумывая, что бы сделать, но тут он сам меня заметил – и вскочил.
– Ну, наконец изволили! Я уж думал, совсем про меня забыли! – сказал он запальчиво – и, без разговора сунув мне в руку копье, торопливо кинулся вверх по пристани, к городу. Я так с открытым ртом на него и смотрел – и тут только до меня дошло, что он меня за сменщика своего принял! Сам тут недавно, видать, не всех еще знает в лицо – а увидел, что я от города иду, меч на боку у меня приметил... Я бросил наземь копье, которое он мне сунул, и посмотрел наверх, на огни сторожевой башни. Как знать, не смотрят ли на меня, не поднимут ли тревогу? А хотя все равно – попытаться надо.
Лодки лежали вдоль берега, повернутые днищами кверху. Поколебавшись, я пошел к крайней правой, как дед присоветовал. Смотрелась она не хуже прочих, дно просмолено было надежно – я проверил. Стащил ее в воду; волны меня так и лупили по ногам, будто назад гнали, но что мне волны, когда оковы сбросить сумел? Забрался я в лодку; дважды она переворачивалась, выкидывала меня, но потом я ее все-таки одолел. Уперся ногами в дно, наклонился вперед, держа равновесие, раз, другой ударил веслами – и вышел на глубокую воду. После легче пошло: дальше от берега море волнилось меньше, лодку качало, но больше не выворачивало. Я налегал на весла что было мочи, не жалея сил, – и стал, стал наконец отдаляться проклятый остров Салхан! Уменьшилась пристань, помутнела, город расплылся в серую глыбу, а потом и огни на кнежем дворе померкли, погасли в тумане. Жаль, небо затянуло осенней тучей – не видел я звезд, не знал, где нахожусь, куда плыть. Да только все одно мне было куда – лишь бы подальше отсюда, подальше от черного шпиля Салхан-горы, вонзающегося в смурное небо...
Долго я греб. Уже и волны улеглись, и лодка вроде быстрее шла – а все стояла и стояла предо мной Салхан-гора и меньше не становилась. Я бросил весла, глянул на небо. Тучи стали пореже, вон вроде бы звезда-Горевна, что север указывает... Я снова стал грести. Развернул лодку, думал остров обогнуть... греб и греб, а гора где стояла, там и стоит! Уже, кажется, и светать должно бы – но не светало, и звезда-Горевна, только что блестевшая впереди, как-то вдруг слева очутилась... и волны набежали снова, стали резче лодку вертеть, с гребли меня сбивать. Плюнул я со злости – да что ж за напасть?! Будто остров этот треклятый пускать меня не желает! Опять лег на весла... Да все без толку. Чем дольше я теперь греб, тем темней становилось небо, тем выше поднимались волны, а звезда-Горевна так и скакала по небосводу, словно в пляс пустилась или вздумала поизмываться надо мною... И только Салхан-гора как стояла посреди мира черной тенью, так и стоит.
Что делать было? Бросить весла, сесть да помирать? Нет уж! Нет, Янь-Горыня, никакого зла я тебе не чинил, за так не возьмешь! Греб и греб, яростно, люто, уже ни на что не надеясь, ничего не желая, только в грести... А потом вдруг перевернулся мир, и очнулся я в холодной воде. Кое-как вынырнул – да чуть не врезался теменем в борт лодки, что скакала по волнам днищем кверху, болтая веслами в черных волнах. Не знаю, как добрался я до берега, не захлебнувшись, не напоровшись на подводный камень, – видать, помогала память о родном Устьевом берегу, где еще и не из таких волн выплывал. Мамка все ругалась, что бегаю на море в шторм, – говорила, потону однажды. Не потонул... Почуяв под ногой твердое, толкнулся – и дал волне вынести себя на каменный берег.
Волна огрела по спине напоследок – и ушла себе в море.
Долго лежал я на мокром камне лицом вниз, откашливаясь, тяжко дыша. Не хотелось вставать, ничего больше не хотелось. Опустил руку к бедру – надо же, а меч-то остался при мне. Мог бы и под воду меня утащить, что ж я его не отцепил, дурень... хотя не утащил – и то ладно. Оперся я скользящей рукой о камень, стал подниматься.
Дед-гусляр стоял надо мной, опираясь на клюку, поджимая локтем свои гусли.
– Ай, Радо-матерь! Сберегла-таки! Ну, слава тебе! – сказал и прижмурился хитро.
Я встал на ноги. Меня шатало, я вымок до нитки, ветрище пробирал меня до костей, я дрожал весь так, что зуб на зуб не попадал. До рассвета было еще невесть сколько – будто, пока я плыл в лодке, время вовсе остановилось.
– Проклятая ваша земля, – сказал я хрипло, глядя на деда ненавидящим взглядом. – Почто меня не пускает?!
– А потому, что ты теперь нерод, дитятко, – ответил старик – спокойно-спокойно.
Я как стоял, так и обмер.
А ведь впрямь... мне и в голову прежде это не приходило! Я только о том думал, чтоб от людей вырваться, – и совсем позабыл про злую богиню, Горьбогову дочь... Что там говорил Среблян? Раз ступивший на этот остров уже его не покинет, а покинет – три дня и три ночи отпущено ему на доброй земле. Да я и тому был бы рад – пусть умереть, но хоть меж людей, не между нелюдей... только пусти!
Воет волна за спиной, ветер свищет, тучи гоняя, скачет звезда-Горевна, хохочет, и черная тень Салхан-горы лежит на море – и на мне...
Вот тут меня и прижало. Вот тут думал – впрямь сейчас зареву белугой, по-бабьи. Меч на бедре сделался постыл и тяжек, хуже, чем оковы. Что оковы... их сбросить можно. А эту погань – как сбросишь?!
Спас меня дед Смеян. Видать, что-то по лицу моему понял, ступил вперед и взял меня рукой за плечо – страсть как похоже вышло на то, как делал это Среблян. И рука у него была сильной, как у Сребляна, и не причиняла боли, если не чаяла причинить.
– Пойдем-ка ко мне в избу, дитятко, – молвил дед негромко. – Обсохнешь, обогреешься... а там поглядим.
Вовремя молвил. Сглотнул я то, что так и не пролилось, – и пошел за дедом побитым псом, что, как дождь зарядит, послушно себе трусит в родимую конуру.
* * *
Изба у деда Смеяна была и не изба вовсе – хоромы. Стояли они наверху, совсем близко к кнежему двору – опять через весь город идти пришлось. Я напрягся, подумал, что он обратно к воеводе меня ведет – ну как знать, вдруг обманет, завлечет в ловушку? – но тут дед свернул на подворье, и я успокоился. Домина у него был таков, что три избы устьевского старосты в нем бы поместились, еще бы и место для нашей с мамкой хатки осталось. И не изба была – загляденье! Стены и балки расписные, по полу – ковры фарийские, подушки мягкие на лавках... в почете, видать, жил дед. Даже странно было, что на пиру не рядом с кнежем сидел, гуслями гостей его развлекал. А хотя, правду сказать, я тогда не заметил, где он сидел, – не до того мне было.
– Проходи, дитятко, будь как в доме родном, – приветствовал меня дед Смеян и с дивной для старца его годов прытью принялся растапливать очаг. Жил он, похоже, один, слуг не держал. Как справлялся?.. А впрочем, не моего ума дело.
Очаг растопился, затрещали весело в пламени березовые поленья. Сел я на скамью у очага, нагнулся к огню поближе. Дед принес мне теплой овчины, велел раздеться и вытереться досуха, потом плечи мне укрыл. Вытянул я ноги к юркому огоньку, и так мне вдруг спокойно и сонно стало, и все равно, что дальше будет... Но только не позволил я себе в ленивой неге задремать, вскинулся. «Что, Лют, не лют ты больше? Скоро к хозяину побежишь руки лизать?» – спросил себя зло – и будто сгинул дурман.
– Околдовать ты меня, что ли, пытался? – спросил я деда. Тот сидел рядом, грея над очагом котелок. При вопросе моем прижмурился, и я понял вдруг, что и прижмур этот мне в нем напоминает Сребляна. Ровно тот ему сын или внук родной...
– Никто тут колдовать не может, окромя Янь-Горыни, – сказал дед. – А ты, малой, я погляжу, зол больно. Неужто совсем добра от людей не видал, уже и не чаешь увидеть?
– Добра? От неродов-то? Нет, не чаю, – сказал я резко. Дед покачивал рукой с котелком, глядел на огонь, а в то же время будто и на меня – и как ему только это удавалось?
– Не ершился в ты так, – сказал негромко Смеян. – Толку-то с того не будет, одна маята.
Я выпрямился и сбросил овчину – что-то вдруг в жар меня кинуло. Встал.
– Знаешь что, дед, – сказал я до того ровно и тихо, что самому жутко стало, – ты вот небось сто весен уже прожил и давно успел позабыть, как на острове этом бесовском очутился. Как родных твоих на глазах у тебя убивали, как кидался ты на убивцев проклятых, а они тебя хватали и на судно свое волокли. А я помню. Для тебя это все давно было, а для меня – вчера. Так и не говори мне, чтоб не ершился. Моя маята, не твоя.
Дед ничего не ответил. Даже головы не повернул, ни волосинки не шелохнулось в его бороде. Я уже повернулся уйти, как вдруг он сказал:
– Справедлив твой упрек, мальчик. Ты и сам не ведаешь, до чего справедлив. Сядь, прошу тебя. Прости старика. Не буду больше тебя совестить. Простишь?
Как-то так сказал, что я не смог отказать. Да и стыдно мне стало – старый дед передо мною винился... Сел я обратно. Овчина мягкая была, и от очага веяло теплом, треск дров заглушал вой ветра снаружи. Будто целый мир – здесь, а что за дверью – того и знать незачем.
– Слыхал про проклятие? – помолчав, спросил дед.
– Еще в не слыхать, – отозвался я. – Кнеж ваш в красках расписал. Ему в только песни слагать, а ты в их на музыку положил да спел!
– Среблян? – Почудилось мне, будто голос старика изменился. – Среблян сам тебе рассказал?
– А то. Думал, видать, я от жалости расплачусь. Да только не вышло, как я ни старался.
– А сказал он тебе, как проклятие снять?
Тут все глумленье с меня разом сошло. Воззрился я на деда, пораженный. Так проклятие снять можно? Что ж до сих пор не сняли?!
– Когда уходила Янь-Горыня в Салхан, – продолжал дед негромко, все глядя на огонь да покачивая над ним котелком, – напоследок обернулась через плечо и сказала: «А снять мое слово с вас сможет чужак, который на землю мою придет. Придет в путах, а навет мой развеет по доброй своей воле». Так сказала и ушла.








