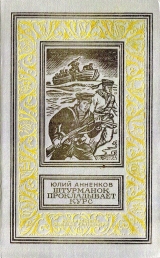
Текст книги "Штурманок прокладывает курс (илл. Ф. Махонина)"
Автор книги: Юлий Анненков
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Глава восьмая
ОПЯТЬ В БОЮ
1
В субботу, еще затемно, я, как обычно, вытащил из подвала бак и понес его к канаве. Там меня встретили заключенные из второго барака. Мне был знаком только одноглазый, в бурой шинели.
Пока вахман прикуривал, одноглазый ловко опустил в мой бак объемистый сверток – шестнадцать килограммов тола. Возвращаться назад было труднее. Бак я держал за дужку одной рукой и слегка им помахивал, чтобы каждый видел: бак легкий. Так велел Степовой. Кто он на самом деле? Агроном из Аскании-Нова? Там действительно степи… В любой разведотдел передать о гибели Степового. Значит, его хорошо знают?
Я прошел мимо ревира. Слева остался освещенный четырьмя фонарями штрафблок. На аппельплаце уже шла утренняя проверка. Переводчик выкликал номера. Слабые голоса заключенных едва долетали сквозь морозную мглу. Колонна дыма стояла в безветрии над зданием собачника. Варят пищу для псов. Дальше – овощехранилище. За ним – колючая проволока вокруг офицерских коттеджей. Здесь должны проделать лаз для отхода после взрыва.
Рука болела, но я продолжал помахивать баком и шел довольно быстро. Говорят, своя ноша не тянет. Вот это была действительно своя ноша. Шестнадцать килограммов – пуд золота или бриллиантов значил бы для меня не более чем содержимое бака, которое я отнес в ров. Сейчас жалкий автомат, тупое животное, ассенизатор и сам кандидат в выгребную яму несет шестнадцать килограммов жизни. И легко, хоть дужка врезается в ладонь.
Я втащил бак в подвал, сунул тяжелый пакет в угол и отправился колоть дрова. Топор летал, как птичка.
Ни минуты времени! Отнести дрова в кухню, а приготовленные вчера – в ванную, Разжечь. Поскорее! Сейчас около семи. Шмальхаузен поднимается в восемь. Прёль обрядился в белоснежный медицинский халат и орудовал на кухне.
Шестнадцать часов до взрыва. Шестнадцать килограммов тола. Я повторяю инструкцию. Четыре пачки тола, двадцать пять сантиметров бикфордова шнура. «Жалко портить патроны, но больше пороха взять негде, – говорил Владимир Антонович, – шнур тонкий, не стандартный. Будет гореть две с половиной минуты или меньше. Заряд повесить под серединой стола…»
Я натираю пол. Шаг, два, два с половиной – от стены. Тут – середина стола. Шаг, два, пять – от той стены. Все ясно. Подвешу даже в темноте. Но когда?
– Коm her, du![47]47
Ты, иди сюда! (нем.).
[Закрыть] – Прёль опять зовет. Он не поинтересовался моим именем. Для него я только хефтлинг.
– Слушаю, герр гефрайтер!
…Тряпки, вилки, пирожные, рюмки, сбитые сливки…
Хлопнула наружная дверь. Шмальхаузен ушел. Значит, без десяти минут девять. Он точен, как хронометр, этот оберштурмфюрер. А мой хронометр снова при мне. Три месяца, завернутый в последний клочок тельняшки, он пролежал в ямке под нарами. Теперь он со мной. И секунды работают на меня. Знал бы Шелагуров, для чего пригодятся его часы! Конечно, время взрыва можно определить и по стенным. Теперь все часы работают на нас. Даже те золотые, что на вашей руке, герр оберштурмфюрер.
Снег блестит. Хороший денек. Все-таки конец февраля. Небо уже весеннее. Дни длиннее. И скоро будет весна. Может быть весна без меня? Это трудно представить.
Фанерной лопатой откидываю снег. Он взлетает в воздух и рассыпается блестками. Морозец приличный, градусов десять, но мне тепло. И силы откуда-то берутся. Вот не околел же с голода в лагере, не попал в ревир, не попал в штрафблок. Мне везет! Мне определенно везет всю жизнь. Я исключительно везучий парень.
Так, дорожка расчищена. Дамы эсэсовцев смогут подъехать к самым дверям. Фу, даже жарко стало! Это работа для вас. А теперь – для меня. Против окошка подвала засыпанная снегом стрелковая ячейка. Долой оттуда снег! Эта ямка пригодится!
У меня несколько свободных минут. Прёль поглощен паштетом «сюзерен». Для его изготовления нужна желудочная травка – магенграсс. «Ее, конечно, нет в этой проклятой России, но можно заменить консервированной петрушкой». На кой черт я запоминаю все, что бормочет Прёль? Я должен помнить только инструкцию Владимира Антоновича: шнур вставить в углубление тола, проверить крепление, кончик шнура зачистить… А что, если сделать это сейчас? Владимир Антонович рекомендовал установить нашу мину попозже, но позже может не оказаться времени. Решено! Лопату в сторону, и через оконце – в подвал. Два с половиной шага от этой стенки, пять шагов вот от той. Стол – здесь. Что есть силы втискиваю два гвоздя рукоятью ножа в щели балки. Пакет тола подтягиваю потуже. Вставляю шнур. Коротенький, к сожалению… Ну вот, все. Кресало надежное. Владимир Антонович отдал свое. Только где кремешок? Неужели выронил? Ощупываю ладонями пол. Нет! Наверно, потерял в снегу. Размахался лопатой – вот дурень!
– Kom her, du! – Прёль давно звал меня и разгневался: – Schweinehund! Was machst du im Keller?[48]48
Свинячий пес! Что ты там делаешь, в погребе? (нем.).
[Закрыть] Вниз? Погреб?
Я объяснил жестами, что утром в спешке плохо установил бак. Неужели у Прёля возникли подозрения? Как будто нет. В профилактических целях он закатил мне еще одну затрещину.
День продолжался. В кабинете пробило половину второго. Девять с половиной часов до взрыва!
Неожиданно явился Шмальхаузен. Пришел проверить, все ли готово к приему гостей. Прёль рапортовал, как на параде, А вдруг он скажет Шмальхаузену, что я спускался в подвал, и они пойдут туда? Поторопился я с установкой мины!
Шаги в спальне, в кабинете, в сенях… Вышли наружу…
Шмальхаузен ушел. Пронесло. Тишина. Только потрескивают дрова. Под салфеткой – груда пирожков. Горячие, с мясом, пахнущие до спазма в глотке. Только один! Нельзя! А вот пустой спичечный коробок из мусорной корзины возьму! Терочку – под подкладку куртки. И несколько спичек из коробки на полочке. Порядок! Теперь только ждать.
Прёль, наконец, уселся почитать «Volkischer Beobachter»[49]49
«Фёлькишер беобахтер» – фашистская официальная газета.
[Закрыть]. Я заметил заголовок статьи: «Русский генерал Зима уходит в отставку. Скоро начнут наступать немецкие генералы».
Все эти месяцы отчаяния и обреченности я мало думал о том, что происходит на фронтах. Когда Петро вернул меня к действию, новости с фронта снова стали интересовать меня. Однажды через вольнонаемных рабочих мы получили запись радиопередачи о разгроме немцев под Москвой. Мне запомнились слова: «Немецкое наступление исчерпало себя. Больше они наступать не будут». А Петро пробормотал: «Опять шапкозакидательство. Будут они еще наступать». Я спросил, почему он думает так. «Потому что у них еще много сил, – сказал Петро. – Мы их, конечно, разобьем, только не надо считать, что война уже идет к концу».
Эх, повоевать бы мне еще по-человечески! Боюсь не смерти, а страха смерти, который может связать в последнюю минуту, удержать руку. «Только тот свободен, – говорил Петро, – кто не боится страха смерти». Я не раз преодолевал его, но можно ли избавиться от него совсем?
Прёль кашлянул, потер ладонями оттянутые полированные щеки и сказал самому себе:
– Что ж, пора готовить горячие блюда.
Мое горячее блюдо было готово. Оставалось только подать его своевременно.
2
Перед банкетом Прёль дал мне подробнейшие наставления. Главное – подача блюд и уборка пустых тарелок. Подавать только слева, убирать справа. Горячие напитки наливаются на кухне.
Я обнаружил редкую понятливость. Прёль остался настолько доволен, что подарил мне сигарету. Я сунул ее за ухо и низко поклонился.
В десять вечера я уже стоял у двери в белой кофте поверх поношенной немецкой формы. Прёль, во фраке, с напомаженным пробором и в белых перчатках, встречал гостей у входа.
Пятьдесят пять минут до взрыва!..
Два автомобиля подкатили к самому крыльцу. С облаком морозного пара первым ввалился лагерфюрер, которому пришлось нагнуться, чтобы войти в сени. За ним – Шмальхаузен, Майзель со скрипкой в футляре. Эсэсовцев было восемь, и с ними девять женщин. Последней вошла круглоглазая, в шубке из серого каракуля. Ее мускулистые ноги, несмотря на мороз, обтягивали прозрачные чулки, и кожа на ногах была красной.
– О как тепло! – прохрипела она неожиданным басом. – Как есть варм! Господа, майне геррен!
Высокая блондинка, красивая, с четким вырезом ноздрей, бойко лопотала по-немецки. Остальные коверкали немецкие слова, как они уже исковеркали свою жизнь. Признаться, я испытывал к ним не больше сожаления, чем к отбивным и пирожным, которые пойдут на потребу немцам, а потом вместе с ними взлетят на воздух, если… если все получится, как намечено.
Блондинка попросила передвинуть стол к дверям спальни и поставить его поперек.
– Мне нужно пространство, чтобы петь! Вы будете видеть меня как бы на сцене.
«Произношение у тебя неважное, немецкая подстилка, – подумал я. – Если передвинут стол, взрыв придется сбоку. Некоторые, пожалуй, уцелеют».
А тут еще хрипатая Тамара добавила:
– Конечно, майне геррен, передвигать дер тыш. Их кан нихт танцевать цыганский танец. Нет места.
– Желание дам – закон для офицера! – галантно заявил Шмальхаузен.
Мы с Прёлем начали передвигать стол. Майзель и еще один эсэсовец помогали. Дамы держали в руках соусники и бокалы. Лагерфюрер возвышался подобно монументу с бутылками шампанского в руках. Он не сводил глаз с самой юной гостьи, накрашенной щедро и неумело, как манекен в плохой парикмахерской. Ее звали Кетхен. Остальные женщины, привычно оживленные, держали себя свободно, а эта поминутно поправляла широкий вырез парчового платья, напряженно улыбалась и не знала, куда девать руки. Она, наверно, впервые, решил я, стесняется.
Стол с трудом поместился поперек комнаты. Лагерфюрер уселся посреди широкой стороны, спиной к спальне. Рядом с ним немедленно села блондинка Элиза. (До прихода немцев она, конечно, была просто Лиза.) Шмальхаузен как хозяин сел в торце стола. Рядом с ним – молоденькая Кетхен.
Черные мундиры и пестрые платья мелькали у меня перед глазами, я едва удерживался от того, чтобы не смотреть на часы. Появился еще один эсэсовец. Отсутствовали только дежурный и Кроль. Выйти было невозможно ни на минуту, потому что я как привязанный следовал с блюдом в руках за Прёлем.
Снова отворилась дверь. С фуражкой в руках вошел дежурный. Что-нибудь обнаружено! Нет, он зашел только поздравить Шмальхаузена и сообщить, что зондерфюрер Кроль задерживается вместе со своей дамой. Он прислал денщика из поселка.
Когда дежурный вышел, Шмальхаузен позвал Прёля:
– Ну, раз больше ждать некого, запри наружную дверь, а ключ отдай мне.
Вот это оборот! Чтобы пролезть через окошечко в подвал, надо выйти наружу. Есть еще черный ход, из кухни, но может помешать Прёль.
Эсэсовцы уже изрядно набрались, Лагерфюрер совсем обмяк. Только Шмальхаузен как огурчик.
Двадцать два часа двадцать восемь минут. Тридцать две минуты до взрыва! Элиза встала. Собирается петь.
Прёль отдал ключ Шмальхаузену, и тот положил его у своей тарелки, Элиза пела:
«Реве та стогне Дніпр широкий…»
Майзель аккомпанировал ей на скрипке, Немцы без всякого интереса слушали песню, которую я знал с детских лет. Эту песню любил отец. Пела бы хоть немецкую!
Ей похлопали без энтузиазма. Женщины ворковали со своими кавалерами. Лагерфюрер поднялся над столом, расплескивая коньяк из бокала:
– За то, чтобы Днепр всегда орошал немецкую землю!
Офицеры закричали!
– Зиг-хайль!
Пусть кричат. Они не знают, что Днепр придет на немецкую землю, и Волга, и Дон, и мой Южный Буг. А я сам приду?..
Прёль раскладывает по тарелкам отбивные, Обязательно слева – immer von links! Von links![50]50
…только слева! Слева! (нем.).
[Закрыть]
Я иду за ним и накладываю гарнир… Von links! Von links!
Двадцать четыре минуты до взрыва!
Сейчас – в кухню, через кухонную дверь – наружу. Перевесить заряд, проверить крепление шнура. Он горит две с половиной минуты… или меньше, но я успею все равно… Окошечко. Стрелковая ячейка у турника…
Снова пела Элиза:
Мало тебе, падло, украинской песни? Взялась за немецкие. Именно эту пела Анни за стеной. Если сейчас не уйду, потеряю все, испугаюсь, раскисну. Не надо думать об Анни. Надо только перевесить заряд и поджечь шнур. И пора. Двадцать минут!
Ну, иду. Но куда это черт понес ту молоденькую, Кетхен? В уборную, что ли? Чего доброго, заметит, как я выйду.
Я положил на тарелку Майзеля последнюю порцию гарнира и вышел в сени, прикрыв дверь. Дверь уборной открыта. Там никого. Заглянул за угол, в темный закуток, и там увидел неузнаваемое, оскаленное бессильной ненавистью, как у пойманного зверька, лицо Кетхен. Помада и румяна исчезли в темноте. Огромные зрачки яростно впились в меня. Что-то стукнуло об пол, она сунула руку за пазуху, и ствол пистолета взметнулся из темноты. Я инстинктивно схватил его, вывернул руку с пистолетом, как учил когда-то Голованов. Прижатая к стене, обезоруженная, она пыталась вцепиться мне в горло.

– Ты что, сдурела?!
– Русский! – Она плюнула мне в лицо, и я понял.
Я зажал ей рот ладонью:
– Тише! Пропадем оба! Я – советский разведчик.
Если есть на свете бог, то это он сделал так, что во время этой свалки Элиза закатила последнюю руладу, которая потонула в хлопках аплодисментов. Кто-то провозглашал тост.
А в это время в закутке между уборной и ванной наши мысли и слова, как бесшумные выстрелы в темноте, несколькими вспышками осветили все. Я вернул ей маленький дамский пистолетик:
– Зачем? Вот с этим?
– Нет!
Она подняла с пола гранату «РГД»:
– Не успела вставить запал. Хотела всех сразу…
– Кто послал?
– Сама!
– Врешь!
– Неважно. Вот сейчас – время.
– Ты знаешь?
– Я одна могла пройти. Офицер пригласил.
Там, в кабинете, Тамара отплясывала цыганский танец. Немцы хлопали в такт, женщины визжали. Кетхен вырвалась от меня:
– Скорей гранату! Сейчас – время!
– Не время!
Оставалось еще двенадцать минут. Неужели и эта безумная девчонка погибнет вместе с эсэсовцами? Я потащил ее в кухню. Сдвинул засов двери:
– Удирай!
Дверь не открывалась. Крючок! Все равно не открывалась. Я налег изо всех сил. Заперто на ключ! Проклятый Прёль! Окно! Решетка… Спустить девчонку в подвал через кухонный люк? Отодвигать кровать, линолеум?
Нельзя!
– Послушай, Кетхен…
– Я – Катя! Давай гранату! – Она дрожала как в лихорадке, рвалась со своей паршивой хлопушкой, которая в лучшем случае искалечит нескольких человек и подымет всю охрану.
– Катя! – Я с размаху дал ей пощечину. – Слушай! Я взорву их всех. А ты – в ванную. Приведи себя в порядок. Войдешь через несколько минут. У Шмальхаузена под тарелкой – ключ от парадного. Смотри на часы. Ровно без одной минуты встанешь. Если сумеешь выйти, обойди коттедж. У турника – яма. Спрячься. Прикроешь мой отход. Все!
Больше я не мог быть с ней ни секунды. Если я сейчас же не появлюсь, Прёль хватится, и все пропало.
До взрыва десять минут с половиной. Если спущусь сейчас в кухонный люк, могут успеть помешать. Я подхватил на обе ладони два блюда с паштетом «сюзерен» и понес их в кабинет. Прёль, увидев меня с заветным кушаньем, составлявшим гвоздь вечера, затрясся от гнева, а Шмальхаузен обрадовался:
– Дамы и господа! Сейчас вы попробуете такое, чего не подают даже у Максима в Париже! А где же малютка Кетхен?
Прёль взял у меня одно блюдо. Я со вторым успел пройти на ту сторону стола, которая примыкала к спальне.
Теперь все сидели за столом. Последней села рядом со Шмальхаузеном Катя, и сейчас, сквозь слой безвкусной помады и румян, я видел лицо обыкновенной девочки лет шестнадцати, детские губы и впалые от голода щеки. Только на одно мгновение мы встретились взглядами. Под насурьмленными ресницами две туго сжатые черные пружины – два солдата, выполняющие приказ.
Семь минут до взрыва! Налить бокал Элизе, ее соседу-эсэсовцу. Сейчас выйду из-за стола – и в кухню.
Бочком, бочком я двигался между дверью спальни и спинками стульев. Хотел протиснуться мимо Шмальхаузена, но в это время он поднялся для очередного тоста, задев меня локтем.
– Entschuldigen sie, bitte, Herr Obersturmfuhrer![52]52
Извините, пожалуйста, герр оберштурмфюрер! (нем.).
[Закрыть]
Кажется, впервые в жизни он взглянул на меня. Захватило дыхание: я сказал по-немецки! Ну и что? Он только чуть улыбнулся, а я жестом показал, что пройду через спальню.
Шмальхаузен утвердительно кивнул и начал свою речь, подняв бокал. Я попятился назад и, уже входя в спальню, успел увидеть. Катя взяла ключ.
Остается четыре с половиной минуты. Через спальню – в ванную, оттуда – в сени, в кухню. Это заняло несколько секунд.
– Пусть этот вечер сохранится в памяти каждого из нас… – громко и четко произносил Шмальхаузен.
Я осторожно сдвинул кровать Прёля, отвернул линолеум. Крышка легко поднялась.
Мыслей уже не было. Только действия. Спрыгнул вниз, опустил крышку. Снизу плотно не закроешь. Чуть светится окошечко. Хронометр показывает без четырех минут одиннадцать. Взрывать так? Нет, перевешу! Надо наверняка! Всех!
Крепко же я привязал этот тол… Нож! Не торопиться! Есть еще время… Точно считать шаги! Стена холодная, липкая. Четыре, пять, шесть… Я – точно под серединой стола. Надо мной – лагерфюрер и белая Элиза. Все-таки нас, матросов, научили вязать узлы. Тол на месте. Потуже вставить шнур. Готово!
Без сил опустился на пол… Я был мокрым, как в парилке. Щеки горели. Три минуты до взрыва! Чему радуюсь? До смерти… Петро… Оберштурмфюрер… Катюша… Сейчас она пойдет. Почему-то мысль о Кате вернула спокойствие. Я не один!
Достал подаренную Прёлем сигарету, терочку, спички. Закурил. Хорошо! Какие длинные эти минуты…
Двадцать два часа пятьдесят семь минут с половиной. Время!
Конечно, я не один! Мягкий хоботок бикфордова шнуpa щекочет щеку. Крепко затянулся сигаретой и прижал красный светлячок к пороховой мякоти.
Горит! Побежал огонек… Запах пороха…
Я не один! Отец, я и сейчас слышу твой голос: «Все – от моста! Взр-ы-в!»
Шнур должен гореть две с половиной минуты… Или меньше… Кидаюсь к окошечку. Без бачка пролезть ничего не стоит.
Над головой стук, топот. Прёль увидел непорядок:
– Haftling ist fortgelaufen![53]53
Пленный убежал! (нем.).
[Закрыть]
Сейчас все всполошатся, разбегутся из-за стола. Шнур горит. Еще долго – целых две минуты… Люк открывается! Свет!
Так нет же! Не успеете!
Взмахом ножа я перерезал бикфордов шнур почти у самого заряда и поджег этот крохотный хвостик.
Горит!
Прыжком – к окну. В снег! Еще прыжок – и падаю в яму. Подо мной – теплое и живое.
– Катя! – кричу изо всех сил, но уже не слышу своего крика.
Оранжевая молния. Рев урагана. Удар. Боль в ушах. И черный снег.
Прямое попадание… Лидер тонет! Все – от моста…
3
Казалось, прошли часы. На самом деле – минута. Сухие губы щекотали мне ухо. Она что-то кричала, но я слышал только гул под черепом. Мороз схватил меня, когда отошло оцепенение. Я подумал: как же должно быть холодно ей!
Подняться во что бы то ни стало! Сейчас же!
Отодвинул бревно, разгреб снег и увидел небо. У коттеджа вырвало стену. Крыша съехала набок. Там горело. Тени копошились в дыму. С другой стороны, вдали, за турником, тоже горело.
Я подхватил Катю под мышки, вытащил ее из ямы. Она что-то совала мне в руки. Понял – граната! Мы побежали в сторону огня, мимо овощного склада. В это время звуки уже прорвались сквозь внутренний гул в моей голове – выстрелы, выкрики и шум многотысячной толпы, как шум моря. Часового на месте не было. Теперь не через лаз, а бегом, мимо будки, скорей к своим…
– Поспевай, Катя!
Кто мог бы понять, что творилось в лагере? Тьма и всполохи. Там, за аппельплацем, – прожектора, пулеметные очереди и человеческий рев. У собачника горел фонарь. Тут я увидел наших. Немец показался в окне. Он стрелял, и в него стреляли. Борис Шилов выбежал вперед. Я видел, как распахнулись двери. В светлом квадрате – немец и собаки. Борис бросил гранату.
Взрыв! Дым!
Один пес выскочил, промчался мимо. Шилов упал. Убили!
Я бросил свою гранату в окно, и свет погас, Мы побежали дальше, к воротам, как велел Петро. Теперь и справа и слева были люди. Хрипло дышали, кричали. Я видел на бегу, как выламывают дверь штрафблока. Но мне надо к воротам!
На аппельплаце шел настоящий бой. Я понял, что наши захватили караулку, потому что у многих были винтовки.
– Катя! Катя! – Она исчезла, и я не мог искать ее в этом хаосе.
Стало светлее. Горело со всех сторон. И всюду лежали тела. Убитые, раненые. Никогда я не видел столько убитых сразу. Толпа несла меня на аппельплац. Стало тесно, а впереди, в струе прожекторного желтого света, бежали и падали, падали и бежали по телам, под непрестанный треск пулемета.
И вдруг толпа ринулась назад. Меня сжало и понесло, а сзади тоже стреляли, рвались гранаты.
Тут я увидел Петра. Он стоял на том самом столе, за которым сидели писаря на поверках. Высоко подняв над головой винтовку, Петро кричал:
– Только вперед! К воротам! Иначе всех побьют! На угловую вышку!
Потом он снова исчез. Меня вышвырнуло из толпы на край аппельплаца. Здесь шел рукопашный бой. Ферапонтов, ухватив винтовку за ствол, размахивал ею как дубиной. Он раскроил череп охраннику, потом перехватил винтовку и ринулся один, как танк. За ним побежали вперед другие, и я тоже.
Лица возникали и исчезали. Я видел безумные глаза богомола. Он сидел на корточках. Монастырев перепрыгнул через него. Снова я увидел Петра, и он тоже увидел меня, радостно закричал:
– Алешка – живой! Пошли!
Перед воротами зияло в свете прожекторов свободное пространство. Пулемет с угловой вышки поливал эту площадку густым огнем. С другой вышки тоже стреляли. Ее очереди сюда не достигали, но она перекрывала кинжальным огнем сбоку подход к воротам.
На желтое световое пятно выплеснулось человек двадцать – тридцать, и тут же их скосило. Только одноглазый, тот, что вчера передал мне тол, еще бежал. Упал… Нет, опустился на колено. Выстрел. Второй. Третий. Все-таки он снял пулеметчика. Толпа кинулась к вышке. Впереди – Петро. Его обогнал Ферапонтов. Обгорелый, уже без винтовки, он карабкался наверх, ловко, быстро, выше, выше. Он уже на площадке, развернул пулемет в сторону боковой вышки.
Вот это да! Ферапонтов, казак, давай! Чего он возится там? Не знает немецкого пулемета? Давай же, Ферапонтов!
Уже другие бежали к вышке; тут Ферапонтов понял наконец. Очередь! Вот так! По той вышке. Порядок!
Он высунулся до пояса за перильца, что-то прокричал. Слов не понять: крик радости – торжество победы, месть, восторг… И рухнул вниз, ударился о булыжник, резко раскинул руки. На желтой от света мостовой – горбоносый полуголый казак, как на распятии. И черное пятно во лбу.
Но боковая вышка уже молчит, и нет кинжального огня, и крылья ворот распахнуты. Мы хватаем винтовки, мы срываем шинели с трупов охранников, мы спешим наружу, и людской поток идет, идет…
Идет река… Днепр придет в Берлин, и Волга придет, и мой Южный Буг, и я…
В этот час неистовой радости пробуждалась воля к жизни и свободе даже у тех, кто не штурмовал караулку, не дрался на аппельплаце и вообще не участвовал в восстании, Таких было тоже много. Они пассивно подчинились восстанию и, только выплеснутые за ворота его волной, поняли вдруг, что свободны.
Здесь я снова увидел Катю. Она бросилась ко мне.
– Я думала, никогда не увижу тебя! – кричала Катя, обхватив меня за шею. – Как тебя зовут? Скажи скорей!
Я напялил на нее немецкую шинель, и она бежала за мной вприпрыжку в своих туфельках и шинели, волочившейся по снегу.
Петро подозвал меня, крепко стиснул руку:
– Я не ошибся в тебе, матрос.
Впервые после взрыва коттеджа я посмотрел на часы. Четверть третьего! Три часа назад началось восстание. Расчет Петра оказался верным. Взрыв вывел из строя сразу всех эсэсовцев. Вахманы растерялись. Многие выскакивали из казармы в нижнем белье, без оружия. И все-таки победа обошлась дорого. Только полторы тысячи из шести тысяч заключенных смогли вырваться за ворота. Среди них не было ни Ферапонтова, ни Бориса Шилова, ни Владимира Антоновича, который погиб одним из первых на аппельплаце.
Петро повел нас в сторону леса. Не доходя с полкилометра, мы увидели цепочку огоньков. Они сползали с шоссе и шли прямо по целине. Гул моторов четко разносился в морозной ночи. Бронетранспортеры охватывали нас широкой дугой, оставляя открытой только одну дорогу – назад, в лагерь. Полукольцо сжималось, и рассыпанное под звездами наше маленькое войско не располагало никакими средствами для отражения этой атаки.
Вряд ли мы узнаем, кто вызвал эти машины. Их, вероятно, не меньше тридцати. Но какая разница? Мы были свободны четверть часа. Ради этого стоило взрывать коттедж и брать угловую вышку. Через несколько минут начнется бой. Тут, под звездами, на равнине, где и укрыться не за что и бежать некуда.
– У кого винтовки – вперед! – приказал Петро. – Единственный шанс для нас – прорыв. По свистку – перебежками, вдоль этой ложбинки, прямо к лесу!
А потом началась бойня. Убийство в темноте, на снежной равнине между лагерем и лесом, около четырех утра, задолго до восхода солнца.
Свет фар. Пулеметные очереди и трассирующие пули автоматов. Полукольцо сжималось. Это не было похоже на мой первый бой под Одессой. Это не было похоже на схватку у ворот.
Загонщики гнали дичь в мешок. Я не видел, как падают люди, потому что они падали в темноте и крики гасли в перекрестных струях очередей. Только огромное небо в звездах и стелющаяся над землей смерть. Рядом со мной Петро негромко сказал:
– Пошли!
Его верный адъютант, Павлик, заложил четыре пальца в рот и засвистел так, как мог свистеть только Вася Голованов.
И пошли в атаку бывшие хефтлинги. С винтовками без патронов и вообще без винтовок. Теперь я понял, что страха смерти может и не быть. Был страх одиночества и плена.
Петро вел нас по ложбинке, прямо на немецкие цепи, в широкий промежуток между бронетранспортерами. На бегу некогда оглядываться. Впереди – Петро, рядом с ним – Павлик, потом сутулый Монастырев бежит, вскидывая ноги. Человек с дубиной. Человек с лопатой. Человек с винтовкой. Это Бирюков, зенитчик. И еще один – летчик. Нет летчика – значит, упал. Раненых тут не будет.
Катя рядом, слева.
– Беги, беги, Катя!
Катя где-то сзади. Как она поспевает за нами в своих туфельках? Мельче снег. Ложбинка кончается. Сейчас… Сейчас…
Голубые и малиновые цепочки пуль. Уже видны каски. Остановиться нельзя. Стрелять только в упор. Пять патронов – пять немцев. Почему я до сих пор бегу? Где Петро? Где Катя?
…Ударило в плечо. Наверно, ранен. Почему же я бегу?
Пулемет – сбоку. За спиной у немцев. Один упал, второй… Из леса бьет пулемет. Пулемет бьет из леса. Бьет по немцам! Здесь, против нас, погасли цепочки трассирующих пуль. Темнота. Только сбоку, справа, – желтые глаза бронетранспортера. Идет наперерез. Стал. Застрял в канаве и, ревя моторами, отчаянно лупит из пулемета в пустоту, выше наших голов, прямо в небо.
Но мы уже в лесу. Вперед, вперед!
Кто-то кричит:
– Свои! Свои!
Остановился. Не могу перевести дух. Передо мной, среди деревьев, – незнакомые темные фигуры. Один из этих людей торопит:
– Скорей, скорей!
Глубокий снег, ветки по лицу, но выстрелы уже далеко.
– Катя!
– Я тут… – кричит где-то рядом. Вот она, под деревом.
– Ты ранена?
– Кажется, нет… Нет сил.
Пустую винтовку – за спину. Подхватил Катю на руки и понес. А тот торопит:
– Скорей, скорей!
Спускаемся вниз, в яр, снег по пояс, по грудь. Не видать ни зги. И вдруг светлее, мельче – поляна. Остановились. Слышу только свое дыхание, и сердце стучит как барабан.
– Все, кто прорвались, тут, – сказал незнакомый человек с наганом на ремне поверх гражданского пальто. Его лица не видно. Он считает нас, тычет рукавицей. Тридцать восемь осталось из тех, кто был под звездами.
Минут десять мы отдыхали. Молча сидели на снегу. Потом тот, незнакомый, сказал:
– Пора. На рассвете начнут прочесывать лес.
Его фамилия Попенко. Так его называют другие. Их только шестеро. Это они обстреляли немцев с тыла из пулемета.
4
К рассвету мы были на лесном хуторе. В котле бурлили щи. Женщина, закутанная до глаз темным платком, разливала их по мискам. Мы хлебали, обжигались, жались к печке, на которой мигал и чадил каганец.
Когда голод и холод отступили, Попенко занялся обмундированием. В лесном домике была припасена кое-какая одежда, а у нас – снятые с убитых охранников и солдат шинели, сапоги, суконные шапки с козырьком. Мне достались короткие немецкие сапоги, и теперь можно было шагать до самой линии фронта.
Петро критически осмотрел меня, потом спросил одного из наших, одетого в новую немецкую шинель:
– А погоны куда девал?
Только что сорванные погоны валялись под печкой. Их тут же прицепили на шинель, которую вместе с шапкой отдали мне.
– Вот так, – сказал Петро. – Теперь ты настоящий фриц.
– К чему это? – спросил я.
– Пригодится. Неизвестно, как будем выходить. Может быть, под твоей винтовкой, как арестованные. А почему кровь? Ранен?
– Пустяки, чуть задело.
Плечо саднило, но не сильно. Выходит, снова повезло. Те, кто был ранен сильнее, остались в заснеженной ложбине. Им уже не понадобятся ни шинели, ни сапоги. Петру пуля попала в левую руку. Обмотанная тряпками, она висела на ремне, согнута в локте. Казалось, что, разговаривая с Попенко, Петро держит на руках младенца.
– Ваше сообщение получили своевременно, – говорил Попенко. – В субботу вечером собирались идти навстречу, чтобы провести через лес, как прибегает Карпуша, говорит: сюда идет колонна. Ну, решили – пулемет есть! – ударить немцам в спину против той ложбинки. Только тут вы могли прорываться. – Он указал на парня в свитере, который чистил наган на печке, у каганца. – Расскажи, Карпуша.
Тот оторвался от своего занятия:
– Вы когда ушли им, значит, навстречу, а мне велели понаблюдать, замечаю в поселке Кроля. Баб они себе подбирали. Ну, Катя тогда вызвалась на диверсию…
Попенко стукнул своей трубочкой по столу так, что искры посыпались.
– Насчет диверсии вашей поговорим особо!
– Вы ж меня не взяли, – сказала Катя. – Карпуша рассказал про восстание, а тут эта вечеринка. Меня офицер пригласил…
Карпуша перебил ее:
– Я говорил, пойду сам, а она смеется: «Ты что же, себе грудки под свитер подложишь?» Мы отговаривали, а она: «Все равно пойду». Пришлось отдать ей гранату и пистолет.
Петро долго смотрел на Катю, потом устало улыбнулся:
– Как же это ты так? Могла Алешке испортить всю музыку.
Тут Катя вдруг расплакалась, как маленькая. Волосы у нее растрепались следы румян и помады еще оставались на лице, а поверх парчового платья была надета вахманская шинель.
– Об ней – потом! – отрубил Попенко. – Докладай про Кроля.
Карпуша с силой продернул тряпочку через канал ствола.
– Очень просто. У моей тетки живет на квартире одна девка. Путается с Кролем. Все немцы уехали с бабами на машинах, а Кроль ждал эту, свою. Тут староста прибегает сам не свой, говорит, в лагере пожар и выстрелы доносятся. Кроль на мотоцикл и укатил. Спрашиваю тетку – не видала ли, в какую сторону. Оказывается, по Ново-Бешевской дороге. Там стоит немецкая часть. Было это после одиннадцати. Ну, я – к вам, товарищ Попенко…








