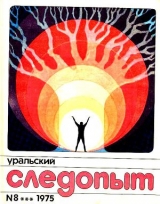
Текст книги "В осаде"
Автор книги: Юлий Файбышенко
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– А ты слушай старших, спесивец, – злобно профистулил старик. – Не знаешь ничего, пути не видишь, а вопишь, как зрячий.
– А тебе видно? – спросил Фитиль. – Куда завел-то нас? Эти лопухи возьмут да шлепнут!
– А ты жди, жди, темная твоя душа! – исступленно взвизгнул у стены старик. – Жди и зло изыдет!
Не разговаривая, они просидели в полной темноте до самого рассвета. Когда тусклые змейки его поползли во все щели, усилился ветер. Замерзший Санька вдруг почувствовал, что, смотря на холод и безнадежность, веки его слипаются. Он засопел и утонул в топкой нервной дреме.
Проснулся он от бешеного рева, топота и выстрелов. В клуне было полутемно, но контуры его спутников были видны. Князев стал прыгать на зерне, чтобы добраться до высокой щели. К нему на помощь, увязая по колено, заспешил Фитиль. Санька тоже полез к ним.
– Если красные – нам хана! – бормотнул Фитиль.
Старик, не говоря ни слова, согнул Саньку за шею и влез ему на плечи.
– Что там? – торопил снизу Фитиль. – Да рот-то раззявь, старая кобыла?
Но Князев точно прирос к щели. Вдруг брякнула щеколда, и они все трое рухнули в зерно.
– Арестованныя, валяй сюда! – заорал, распахивая дверь, огромный парень в кубанке. – Слобода!
Все трое кинулись к двери, толкаясь, выскочили на двор и остановились. В сером молоке восхода из тумана возникали и пропадали конные. Все село было полно топотом коней, шумным передвижением людей, лязгом оружия. Переглядываясь, прислушиваясь, они добрели до крыльца и остановились. Там толкались местные бабы, с которыми перемигивались вооруженные до пят парни в кубанках и малахаях, стояло несколько мужиков, вполголоса делясь новостями. С каждой минутой во дворе становилось многолюднее. У дверей часовой, молодцеватый черноусый мужик в шинели и армейской папахе, отпихивал прикладом лезущих внутрь.
– Охолонь! Батько важные дела решает!
– Кажись, надо и нам до атамана добраться, – с подрагиванием в голосе сказал Князев, – пришло наше времечко.
– Ясно, не красные, – подтвердил Фитиль. – Я у одного спрашиваю: какой масти, ребята, будете? Тот говорит: масти бубнового туза…
Распахнулась дверь, вышли двое парней с винтовками под мышкой, за ними, подталкиваемые стволами, выскочили и неуклюже затоптались на крыльце трое толстяков – местная сельрада. У всех троих на лицах синели и краснели знаки знакомства с атаманом – все трое бы бледны и остолбенело пялились перед собой. Конвоиры прикладами согнали их с крыльца, поставили кучкой, отделив от других местных, тогда на крыльцо, позвякивая шашкой, вышел толстый приземистый человек с обрюзгшим лицом, в красной феске и голубых шароварах, свисавших на голенища сапог.

Конные, окружившие толпу, хрипло загорланили. Кое-кто из толпы поклонился. Князев протолкался в первый ряд стоящих и, трижды истово перекрестившись, поклонился в пояс. Хрен заплывшими маленькими глазами выделил его из толпы и важно кивнул в ответ.
– Люды! – сказал Хрен. – Мы вольные казаки! Стоим за анархию и слободу! Комиссарам и чрезвычайкам пущаем юшку и ставим точку! – он прокашлялся, потом налился кровью. – А шобы карать зрадников и прочую контру, – он замолчал и тупо оглядел стоящих, – це вам усе объяснит мой главный заместитель Охрим Куцый.
Из-за спины атамана выдвинулся длинный сутулый человек в огромной карачаевской папахе, в расстегнутом полушубке, с плетью в руке. На широком длинноносом лице сверкал один глаз, веко другого было накрепко прикрыто, как заклепано.
– Це Кривой, – услышал Санька позади себя. – Он Хреном как конякой вертит.
– За яку вожжу потягне, туды и той, – подтвердил второй голос.
Подъехал конный и, увещевая, звучно врезал по чьей-то спине нагайкой. В наступившей тишине слышно было, как потрескивают ступеньки под спускавшимся франтоватом хлопцем из свиты и как загнанно дышат арестованные. Неожиданно и звонко ударил неподалеку петух.
– Громадяне, – сказал одноглазый, – це, – он ткнул плетью в троих внизу, – це гнусный и контровый элемент! Батько Хрен поднял над округой наше черное знамя. За вольную крестьянскую долю, за свободу! Шо ж делают ваши избранные головы? С подмогой идут навстречу великой правде анархии и свободы? Нет! Они сидят, як вороны над падалью, и гавкают, шо они ни с нами, ни с красными комиссарами, ни с бароном Врангелем… Ось и рассудите нас, громадяне. Восстание по усему уезду, поднялся великий селянин супротив угнетателей, супротив белых господ и красных нехристей, а они задумали сами отсидеться, да и вас заманили, вас, честных селян!
В толпе загомонили.
– Це у точку!
– Ходу не давали!
– За власть, як дворняга за стерьво, уцепились!
– О, це слово самого селянина, вольного селянина, шо поднимается за свою свободу и долю! – подхватил Охрим. – Вцепились эти сучки за свою власть, як в стерьво! Хотели сами всем заправляты, всему быть головами, а до народной доли да казацкой воли им никакого дела! – он сделал паузу, затем повернул голову к стоявшему рядом Хрену. – Наш батько, он за волю! Он за народ. Он не желает вмешиваться в приговор. Треба вам, братцы, сказать, шо заслуживают цеи злодеи и изменники! Решайте, громадяне.
На секунду наступила тишина. Хрен молча глядел перед собой маленькими недовольными глазами.
– Ошиблись они! – крикнул чей-то голос, и сразу обрушился гвалт.
– Поучить их – и ладно!
– Нехай живут! Ошиблися!…
Настроение толпы было явно в пользу освобождения. Охрим прислушивался, повернулся к атаману. Толстое лицо Хрена побагровело. Крики из толпы его явно не радовали. Одноглазый что-то нашептывал ему на ухо. Видно, уговаривал.
Неожиданно из толпы выступил Князев. Его длинные сивые волосы, странная фигура в поддевке, благостно улыбающееся лицо заставили толпу умолкнуть.
– Дозвольте, граждане, и нам, каликам перехожим, словцо молвить, – тонко пролился его голос.
Санька увидел, как Хрен вопросительно повернулся к Охриму, а тот шагнул было вперед, но Князев уже говорил.
– Вы, свободные граждане села Василянки, должны ноне судить свою избранную власть. Батька Хрен, защитник наш, дал вам полную волю постановить, как захотите. Так дозвольте ж, граждане, сообчить. Вот мы трое идем с городу. Власть там у христопродавцев-большевиков. Мучают они добрых людей, пытками да страхом выманивают потом да кровью нажитое имущество, довели до голодухи, до холодной смерти. Сами жрут, раздуваются, радуются, что у других кожа к ребрам прилипает. – Он повернул голову к Хрену. – Давеча склады сгорели. Возможно, что сами и пожгли. Все товары да продукты вывезли да схоронили по тайным местам, а склады ночью пожгли, чтоб людям очки втереть. Вот какие дела на божьем свете деются… – Князев примолк.
По толпе прошел ропоток, но она ждала продолжения. Видно было, что и Хрен, и его люди слушают с большим вниманием. Фитиль толкнул в бок Саньку, шепнул:
– Хитер подлюка! Кому хошь мозги вправит.
Князев поднял голову, словно очнулся от какой-то думы.
– Вот и хотел я сказать вам, люди добрые. Весь белый свет ополчился супротив антихриста с красным флагом, да силен антихрист! И не тем силен, что взаправду сила у его, а силен нашей глупостью да разобщенностью. Кого комиссары не грабят, кого не казнят? Вас, мужиков, первых, нас, городских, не меньше. А за кем идете? За этими дуболомами? – Князев ткнул рукой в троих у крыльца. – Батько Хрен силу поднимает народную, всех собирает, чтоб опрокинуть проклятую антихристову власть, а вы тут, как в берлоге, от всех отгородились, мешаете пакость эту люциферову осилить! Вот и хочу напомнить вам, люди добрые, василянские жители, что не помогали вы батьке Хрену и воле народной скинуть комиссаров, а мешали. Но вы не разумели, а ваши начальники из Совета – те по умыслу. Большевики они по натуре, как на духу говорю, большевики!
Толпа взорвалась криком. Князев молча ждал. Ждали и на крыльце. Князев заговорил и толпа затихла.
– Вот и говорю вам, как со стороны прохожий, говорю: докажите вы свою преданность батьке, докажите, что вы за свободу да супротив общего ворога, выдайте своих сельрадчиков батьке головами. Пусть эта клятва ваша будет, что отреклись вы от красного антихриста, что будете во всем с батькой и воинством его до самой победы!
Князев надел треух и, подойдя к крыльцу, встал у самых ног атамана. Тот, тяжело шевельнув шеей, скосил на него глаза, кивнул, одобряя.
Толпа молчала. Потом вышел тощий жилистый мужик в треухе, в распахнутом вороте видна была обросшая шея.
– Та воны и ничего другого не достойны, – крикнул мужик. – Смерть им, гадам!
И тогда вокруг разразилось:
– Це вин за должок мстит!
– За шо их губить?
– Хай погибают, раз таки обормоты!
– Як батько решит!
И потом все громче:
– Треба батьке сказать!
Хрен осмотрел толпу, теперь вся она тянулась к нему глазами. Он шагнул вперед.
– Хлопьята, – сказал он зычно, – война вокруг! Война. Не воны нас, так мы их, а шоб мы их, треба вырвать с корнем все гадючье семя, шо им пособляет. Благодарен я вам, шо вы мене предложили решать. Так решаю: раз война, так пощады нема. Хай гниют под забором! – и он махнул рукой.
Охрана прикладами затиснула арестованных во двор и через минуту грянул оттуда залп. Дико взвизгнул голос и снова ударил выстрел теперь уже одиночный.
– Расходись! – скомандовал Охрим.
Толпа стала расползаться. Фитиль и Клешков смотрели, как Князев, сняв шапку, разговаривает с Хреном. Льстивое лицо старика сияло. Хрен слушал его молча, изредка кивал. Через несколько минут Князев обернулся к ним и поманил к себе.
– Вот, батько, – сказал он подталкивая к нему спутников, – и эти со мной. По великой нужде к тебе, по крайнему делу…
Наступили сухие погожие дни, опять весело и не по осеннему смотрело с неба солнце. Однако на улицах было угрюмо. Кроме собак и ребятишек, ни прохожих, ни проезжих, люди возись на огородах, толпами уходили в лес по орехи, и никакие посты и проверки документов не могли их остановить.
Гуляев теперь дневал и ночевал в управлении. Обыск у Нюрки дал многое. Нашли часть продуктов, выкраденных в лавке потребкооперации, в схватке убили одного и взяли другого налетчика, но пока и Нюрка, и бандит на допросах молчали.
Угром Иншаков вызвал к себе Гуляева. В кабинете у него сидел Бубнич. Оба они за последнее время осунулись, щеки Иншакова рыжели двухдневной щетиной. Сквозь открытые окна доходил в кабинет запах палой листвы и свежего навоза.
– Допросил Гуся? – спросил Бубнич, поворачиваясь от окна навстречу Гуляеву.
– Допросил, – сказал Гуляев, – ничего существенного нет. Говорит, что это они втроем ограбили склад кооперации, что сторож знал Веньку – его товарища, убитого в доме у Власенко. Это и помогло. Сторож приторговывал зажигалками. На этом его и купили, хотя он по ночам был осторожен. Поддался на знакомое лицо. Фитиль ударил его по голове ломиком, они быстро очистили склад и вынесли вещи… Тут-то и начинаются умолчания. Я спрашиваю: перенесли ли вещи сразу к Власенко? Вертит. Не говорит. Я спрашиваю: был ли кто с ними, кроме своих? Говорит: никого не было, но говорит очень неуверенно. Короче, товарищ уполномоченный, думаю, дня через два заговорит. Он в холодной сидит. Там ему не нравится.
– Расколоть надо, понимаешь, какое дело, сегодня, – с непривычной для него задумчивостью сказал Иншаков. Он сидел в своем кресле, поскрипывая кожей костюма, короткопалой рукой оглаживал щеки. Под светлыми ресницами изредка проблескивали линялые голубые глаза. – Дела такие, что сейчас от этой нити черт его знает что зависит…
Он повернулся к Бубничу.
– Военком звонил. Грибники и орешники идут валом. Чуть не до драки с караульными. Сякинские еще немного пугают, но те и сами хороши. Мы с этим, понимаешь, подсобным продуктом можем в город всю банду пропустить.
Бубнич перекатил желваки на скулах.
– Вызывать озлобление людей нельзя. И так положение трудное. Даже рабочие маслозавода ропщут. Губерния на все телеграммы просит продержаться две недели, раньше помощи не будет. О Хрене сведений фактически нет. Тогда как, судя по всему, он о нас знает все, что ему надо. Установлено, что подполье в городе действует. Ориентация его неизвестна. Белые они, эсеры или анархисты – это еще только предстоит выяснить Выход один – действовать. А как – это надо обдумать. Вот, товарищ Гуляев, какое положение. Так что ваш Гусь должен заговорить. А что Власенко?
– Была в истерике. Допрашивать не было никакого смысла.
– Сегодня же допросить и выяснить все, что она знает.
– Есть!…
Гуляев попросил привести Гуся и сел за свой стол. В комнате вились тучи пылинок, хороводили в раструбах солнечных лучей. Лозунг «Все в красную кавалерию» провис и потемнел от пыли. Липа за окном шуршала все еще полновесной багряной кроной. Там, за видневшимися вдалеке домиками окраин, за белыми зданиями и облезлыми колокольнями старого монастыря, накапливалась, подкатывала смерть. Он знал, что посты стерегут движение бандитов, но вокруг была степь, а в промежутках – подлесок, и конные орды по ночам умели просачиваться неслышно. Не брякнув, не стукнув, проходили под самым носом дозорные кони, с обмотанными копытами. Молча сидели всадники с пригнанным, притянутым амуницией и ремнями оружием. Бесшумно вырезали дозорных и на рассвете врывались в улицы, оглушая диким степным улюлюканьем и воем, от которого сворачивалась в жилах кровь, и тогда начиналась рубка и расправа. Однажды на небольшой станции под Елизаветградом Гуляев попал в такую заваруху. Он тогда был бойцом железнодорожного батальона. Если бы не сердобольная женщина, укрывшая его у себя и назвавшая сыном, лежать бы ему где-нибудь в уличном бурьяне в груде других, залитых кровью, застреленных и порубленных, со свернутыми шеями, с наискось -лихим казачьим ударом – сорванными ключицами…
Ввели Гуся. Гуляев махнул охране, чтоб ушли, приказал заключенному сесть. Гусь должен был заговорить, и, наверное, он увидел эту решимость в гуляевских глазах, потому что сразу занервничал.
– Твое настоящее имя! – Гуляев смотрел на него с ненавистью, которую не желал скрывать
– Семен, – сказал Гусь, отводя глаза Русые волосы его взлохматились и потемнели за время пребывания в холодной.
– Фамилия?
– Да кликай Гусь, меня все так кличут.
– Мне плевать, как тебя кличут. Я спрашиваю фамилию.
Гусь подвигал плечами, словно ему было холодно.
– Воронов, – сказал он, – я и забыл, когда меня так звали.
– Говорить будешь? – спросил Гуляев. Безошибочно, внутренним чутьем он определил, что холодная надломила Гуся, и надо было воспользоваться этим.
– А чего говорить? – тянул время Гусь. Маленькие глаза вприщур настороженно и зло следили за следователем. – Вчерась все сказал, что знал.
– Рассказывай, куда сначала перепрятали вещи, взятые на складе кооперации.
– Да я не помню.
– Последний раз спрашиваю: будешь говорить?
– А то – что?
– Охрана! – крикнул Гуляев.
Вошел, брякнув прикладом, молодой милиционер с удивленным выражением лица.
Гуляев узнал Ваську Нарошного, конвоировавшего Клешкова в момент побега.
– Товарищ боец! – сказал он строго.
– Слушаю, товарищ следователь! – вытянулся Васька.
– Взять арестованного и в трибунал.
– Есть, – Васька выставил перед собой штык, шагнул вперед и чуть ткнул штыком Гуся. Тот вскочил.
– Эй! Не измывайся над человеком!
– Иди! – сказал Васька и щелкнул затвором.
Гусь уставился на его серое лицо с запавшими щеками, увидел холодную злобу Васькиных глаз и сдался.
– Ладно, – сказал он, поворачиваясь к Гуляеву широким туловищем и все еще глядя на конвоира, – все расскажу… Только выгони ты этого…
– Товарищ боец, – сказал благодарный до краев души Гуляев, – спасибо за службу. Покиньте помещение.
Васька четко откозырял и вышел.
– Где припрятали товар? – спросил Гуляев.
– Да мы почитай его и не вывозили, – сказал Гусь, – мы его только что перенесли – и всего делов.
– Куда перенесли?
– А через улицу. Там напротив лавка была при старом режиме. Она теперича закрытая. У Фитиля… – Гусь замолк и снова передернул лопатками, – у его ключ был, мы за полчаса весь товар и перенесли. Все там и оставили. А на другой день добыли тачки…
– У кого?
– Фитиль все… Ни я, ни Венька – мы не касались. Привез три тачки. Мы в четыре приема все перевезли к Нюрке… Народ-то этими тачками завсегда пользуется.
– Хлебные склады вы подожгли?
– Тут кто-то без нас обошелся, – усмехнулся Гусь.
– И Фитиль никогда об этом не упоминал?
– Никогда ничего такого. Видишь, тот склад кооператорский мы почему взяли? Там все вещички-то были – их легко было пристроить или загнать. Мануфактура, сахар. Хлеб – он тут при чем? Продавать – враз заметут и к стенке. А поджигать – какая ж нам выгода!
– Где сейчас Фитиль?
– Знать не могу, – Гусь отвел глаза. – Он мне не докладывался.
– Где вы прятали по большей части?
– У Гонтаря в саду. Там у его шалаш, мы там…
– С кем был связан Фитиль, кто к нему ходил?
– Не знаю. К нам никто не ходил. Он сам лыжи вострил чуть не раза три на дню. У нас никого не бывало.
– Проверим, – сказал Гуляев. – Соврал – не помилуем.
– Чего пугаешь? – сказал Гусь, вставая. – Мне, куда ни верти, – хана. Вы шлепнете, на то и власть, не вы – Фитиль найдет, скажет: скурвился – подыхай.
– Фитилю до тебя не добраться. Руки коротки, – сказал Гуляев. – Нарошный, увести.
– У Фитиля руки длинные, – пробормотал уходя, налетчик.
Едва его увели, Гуляев кинулся к Иншакову. Ему нужен был Бубнич, но в кабинете начальника он никого не застал. Тогда он выскочил во двор. Там, у самых ворот, Бубнич разговаривал с комэском Сякиным. Иншаков распоряжался у амбаров, наказывая что-то охране. Гуляев подошел к воротам в то время, когда Сякин заканчивал свою речь.
– Ты, комиссар, попомни, – говорил, по своему обыкновению чуть осклабясь, Сякин, – у тебя в уезде одна сила – эскадрон. Там парнюги и шашкой махать могут, и с винта пулять. Это ни пехтура тебе, что прицел от приклада не отличит. Так что выбирай: либо ты эскадрон кормишь, как того положение требует, либо и за ребят не поручусь, дюже они у меня горячие.
– Это что угроза, товарищ Сякин? – спросил, снизу вверх глядя на него, Бубнич…
– Понимай, как знаешь, – резко развернул лошадь Сякин. – Я не предатель и верный буду, а за ребят отвечать не могу.
– И это ты говоришь в такую минуту, Сякин, – Бубнич смотрел на него так, что другой бы уже должен был обратиться в пепел. Но Сякин шагом тронул лошадь к воротам и на ходу крикнул:
– И ты пойми! Коли б не такая минута, говорил бы!
Он выехал за ворота и там, улюлюкнув, послал лошадь в намет. Слышно было, как дробят, удаляясь, копыта.
– Видал, какие дела? – угрюмо повернул Бубнич к подошедшему Гуляеву.
– Товарищ уполномоченный, – с места в карьер начал Гуляев, – может быть, вы дадите кого-нибудь в помощь? Мне надо немедленно просить эту Власенко: Гусь из шайки Фитиля дал показания. Хочу проверить. У них база была в садах. Малина. Необходимо осмотреть, а я просто физически не успею.
Бубнич слушал, но слова словно отскакивали от его бронзового широкоскулого лица.
– Вот что, товарищ, – сказал он, – ты видишь каково положение? Надо все успеть и все – самому.
Он пошел к воротам.
Гуляев посмотрел в его широкую ссутуленную спину в порыжелой кожанке и понял, что наступил действительно критический момент для Советской власти в городе. Значит, надо действовать – и действовать одному. Он кинулся в свою комнату, на ходу приказав привести к нему Власенко.
Он сидел и записывал суть показаний Гуся, когда ее ввели. Она стояла в потрепанной юбке с грязным подолом, в жакете с продранными локтями, упавший на плечи платок не скрывал черных свалявшихся волос Красивое белое лицо с очень ярким ртом хранило выражение какой то отрешенной одичалости.
– Садитесь, – сказал Гуляев.
Она отвернулась от него, стала смотреть в окно.

– Слышите, что говорю! – поднял он голос. – Подойдите к столу и сядьте!
Как во сне, не отрывая глаз от окна, где билась и шуршала тополиная листва, она сделала два шага и села.
– У меня к вам несколько вопросов, – сказал Гуляев, поглядывая на ее руки, лежавшие поверх юбки на коленях. Пальцы были длинные и тонкие с обгрызенными ногтями, с царапинами на белой коже тыльной стороны ладони.
– Если вы ответите на них, мы вас выпустим.
Она словно бы и не слышала этого.
Гуляев разглядывал фотокарточку, взятую в доме Нюрки. Из желтоватой рамки с вензелями, выведенными золотыми буквами, смотрело молодое, зло улыбающееся лицо. Угольно-черные брови казались подведенными. В скулах была хищность и сила. Котелок, косо посаженный на лоб, обличал тщеславие и фатовство. Откуда-то он знал этого человека, где-то видел совсем недавно, но вспомнить – хоть убей – не мог.
– Фитиль? – спросил он, подвинув фотографию Нюрке.
Она взглянула, потом взяла фотографию в руки и засмотрелась на нее. На замученном худом лице вдруг проступило выражение такой страстной нежности, что на секунду Гуляеву стало даже обидно.
– Это Фитиль? – повторил он вопрос.
Она отложила карточку, взглянула на него и кивнула.
– Как зовут Фитиля? – спросил Гуляев, подавшись вперед.
Она медленно отвела взгляд от окна и посмотрела на него тем же диким затравленным взглядом.
– Будете отвечать?
Она опустила глаза и молчала.
– Нюра, – сказал он, вставая, – если не будете отвечать, мы вынуждены будем вас держать в камере…
Она вскинула голову, глаза ее засияли от слез.
– Каты!
Гуляев почувствовал, как тонкий холодок бешенства поднимается в нем. Она сидела здесь и оскорбляла ею, следователя Советской власти, а любовник ее, сбежав от расплаты, где-то готовил новые грабежи… С трудом он заставил себя успокоиться. Она – темная женщина, многого не понимает в свистопляске последних событий.
– Нюра, – сказал он, – ведь вы такая же работница, как и другие. Вы хлеб свой потом добывали. Для вас эта власть не чужая. Почему же вы не хотите ей помочь?
Она опять взглянула на него, уже спокойнее, хотя дикий огонек все еще горел в глазах.
– Коли она не чужая, за что арестует? За что парнишечку мово как собаку на помойке бросили? Он зараз один, а в дому, как в погребе, – холодно да голо. Все уволокли.
– А когда вы хранили ворованный сахар, вокруг женщины с голодухи только что дерево не грызли, вам было не стыдно? – спросил Гуляев. – Они не такие же, как вы? У них не такие же парнишечки, как ваш? Разве этот сахар и остальное из складов кооперации не им предназначалось?
– Начальству назначалось! – перебила Власенко, зло глядя на него. – Комиссарам всяким.
– Нюра, – сказал он, – поймите меня сейчас… Потом будет поздно. В городе был запас продуктов. Предназначался он прежде всего рабочим, таким, как ты, как твои соседи. А продукты эти выкрали, убив человека. Потом жгли продсклады с хлебом. Теперь люди голодают… И ты виновата в этом. И такие ребятишки, как твой мальчик, могут умереть с голоду, потому что мы не можем поймать банду из-за молчанья таких, как ты…
– Сыночку мой, родименький! – заплакала запричитала Нюрка. – И что ж с тобой делают эти злыдни, что робят!
– Сын ваш на попечении соседок, – сказал Гуляев, еле сдерживаясь, – о нем заботится комсомольская ячейка завода.
– Сы-ночку! – плакала Нюрка.
Опять понеслись в глазах Гуляева бешеные кони под визг и дикое улюлюканье всадников. Опять стали падать люди, зарубленные и прошитые пулями.
– Где может скрываться Фитиль? – спросил он, закаменев от злобы. – Будешь говорить. Или…
Нюрка испугалась. Глаза ее закосили.
– Та я ж не знаю. Вин мне не казав, где прячется.
– Кто к нему приходил, кроме членов шайки? – уже спокойно спросил Гуляев. – Быстро!
– Приходил черный такой… Здоровенный, с бородой!
– Фамилия? Ты же знаешь!
– Та никакой фамилии, с чего вы взяли: знаю!
– Нюра, – сказал Гуляев, подходя к ней и наклоняясь вплотную. – Дорог тебе Фитиль?
Она прикрыла глаза веками, и на измученном немытом лице ее проступило опять такое неудержимое выражение страсти и нежности, ответа уже не потребовалось.
– Так слушай, – торопливо заговорил Гуляев, – я о нем у тебя больше спрашивать не буду! Слышишь? Пусть живет. Черт с ним! Ответь только на один вопрос – ты же в городе всех знаешь: кто такой этот черный, что к нему приходил?
Нюрка открыла глаза и растерянно, с тайной надеждой взглянула на Гуляева.
– А про Рому пытать не будете?
– Про какого Рому?
– Так он же Фитиль!
– Про него не буду. Кто черный, с бородой?
– Дьякон, – глухо сказала она, уже раскаиваясь и сомневаясь. – Он и приходил. Он же и на дело с ними ходил. А как же. А Рома – он только сполнил.
Приказав ее увести, Гуляев посидел с минуту, обдумывая все, что узнал, и ринулся к Иншакову. Теперь в руках его была нить, и надо идти по ней, пока не распутается весь клубок.
По улице гарцевали конные, у заборов пересмеивались кучки селянок. Расшибая копытами лужи, пролетел адъютант Хрена в черной папахе и серой венгерке с выпушкой на груди. Из подворотен лаяли собаки, не решаясь вылезти на улицы. Гуси и куры, накрепко запертые по клетям, глухо кричали в своих деревянных тюрьмах. Князев ушел совещаться к Хрену, и его не было уже с полчаса. Мрачный Фитиль ссорился с хозяевами, требуя самогона, но прижимистые украинцы не спешили выполнить его требование – им не был ясен ранг постояльцев. Старший, видно, пользуется уважением, зато двое других не очень похожи на батькиных хлоп-Клешков вышел и стал под пирамидальным тополем, наблюдая сельскую улицу. Свежий ветерок холодил лицо, гнал по улице палые листья, Осень горела в садах, и вся земля была в октябрьской мозаике алой, оранжевой, рыжей, золотой, бурой пожухлой листвы. По ней выплясывали кони и проходили ноги в сапогах, на ней толклись и кружились чоботы молодок.
У штаба копился народ. Из ворот выезжали конные, толпа пеших повстанцев и местных переминалась под окнами. Мимо Клешкова проехал всадник и осадил лошадь.
– Эй, – окликнул он Саньку. – Здорово, чего пялишься?
Санька узнал Семку, адъютанта Хрена.
– А мне не запрещали! – сказал он с вызовом.
Семка наехал на него лошадью и остановился.
– Твой старый хрыч с батькой нашим грызется.
– Он такой! – сказал на всякий случай Клешков.
Вышел и встал в калитке Фитиль. Он безмерно скучал в этих местах, где ему не к чему было приложить свои таланты.
– Фраер, – позвал он Семку, – у вас в железку играют?
Семка, не привыкший к небрежному обращению, молча смотрел с седла на Саньку и поигрывал нагайкой.
– И откуда такая публика у нас взялась? – раздумывал он вслух. – Может, срубать вас к бису, и дело в шляпе!
Фитиль подошел и тронул его за колено.
– Есть у вас, кто по фене ботал?
Семка вперился в него, побагровел и вскинул нагайку, но Фитиль дернул за повод коня, и тот сделал свечку. Разгневанный адъютант еле усидел в седле.
– Пацан, – сказал, усмехаясь, Фитиль, – ты со мной не вяжись. Меня и на каторге стереглись.
Семка внезапно схватился за пистолет. У Фитиля наган был уже в руках.
– Оставь дуру, шкет!
Тогда Семка засмеялся.
– Силен!
Он слез с коня и, ведя его за повод, подошел к Фитилю.
– На каторге был?
– И еще кое-где, – процедил Фитиль и циркнул ему под ноги. – Я у тебя спрашиваю: фартовые парняги у вас есть?
– Попадаются, – сообщил Семка, – могу познакомить.
Они двинулись к штабу, за ними побрел Санька.
Толпа у штаба разбредалась.
– Тут погодите, – сказал Семка, кивнув на скамью под окнами. – Я скорехонько.
Фитиль подобрал какую-то палку, вынул нож, уселся строгать. Клешков, сидя рядом, прислушивался к шуму за окном. Рама была приотворена, и низкий хриплый голос какого-то штабного перехлестывался с Князевским тенорком.
– Вы уж меня извините, – паточно тек голос Аристарха, – только что же вам в городе-то потом делать? Анархия там и сама не прокормится, и народ не прокормит. Меня начальники мои вот об чем просили: ты, мол, Аристархушко, объясни умным людям, что нам с ними надоть союз держать. Пусть они нам город помогут взять, а потом мы им поможем, ежели что, в деревне. Отсюда вместе и начнем.
– Я же говорил, – пробубнил штабной, – взять город можно, только если ваши там перережут красных пулеметчиков.
– Нет, – хрипло сказал командный голос, и Клешков узнал Хрена, – давай сначала раскумекаем наши программы. Ваш союз-то белый выходит?
– И чего это мы все по цветам раскидываем? – опять умильно запел Князев. – Это ж не в красильне. Наш союз за порядок, за крепкое правление…
– За Врангеля? – спросил еще один голос.
– Да-к, что ж Врангель. Врангель -нам он неведом. Мы за всенародное правление, за вече… Чтоб к нему люди всех классов и состояний были допущены…
– Я, батько, считаю такой контакт с белыми изменой революции, – сказал глухой гундосый голос. – Город мы и без того возьмем, большевиков и без того придавим, но с белыми я бы контачить не стал. Мы анархисты-революционеры, мы за безвластье, а наш новый союзничек – слыхали? – за твердый порядок, за генералов да буржуазию.
– Ты, Гольцов, не бухти, – сказал чей-то напряженный и злой голос, – ты программу свою пока в карман положь. Как город брать с одной конницей против пулеметов?…
В это время к сидящим подошел Семен с тремя повстанцами, одетыми ярко и лихо: в мерлушковые папахи, в офицерские бекеши, в синие диагоналевые галифе и хромовые сапоги.
– Ось, знакомьтесь, – сказал Семка, – це тоже каторжные. И, видать, по схожим делам.
– Фармазонил? – спросил один из подошедших, присаживаясь рядом с Фитилем.
Фитиль, вприщур наблюдая за троими, коротко и наотрез мотнул головой.
– Домушничал? – спросил второй.
И снова Фитиль отмахнулся.
– Медвежатник?
– Дело на Голохвастовской в Киеве слыхали? – спросил Фитиль и веско осмотрел всех троих.
– Три миллиона! – с восторгом сказал один, приседая перед лавкой на корточки. – Да постой, там же Федька Сука трудился.
– Сука на каторге в ящик сыграл, – сказал Фитиль, – да он там шестеркой был.
– Кто же атаманил? – теперь все трое склонились к Фитилю, стараясь всосать в себя все, что услышат.
– Каторжники собрались, – с усмешкой шепнул Семка Клешкову, – почуяли своего.
– Вершил я, – сказал Фитиль. – Три лимона, разные камешки на триста косых.
– Голова, – с уважением сказал, поднимая голову, тот, что сидел на корточках.
– Эх, нам бы теперь обстряпать дельце, – сказал второй.
– Вас батько на новую жизнь зовет, – встрял в разговор Семка, – а вы все на старой дорожке топчетесь.
– Есть где потолковать? – спросил Фитиль.
Все четверо поднялись и дружно пошли куда-то в конец улицы.
– Рыбак рыбака видит издалека, – сказал Семка. – А тебя чего он не взял?
– Я не с ним, я с Князевым, – пробурчал Клешков. Он еще не разобрался в обстановке. А пора было на что-то решаться.
– За белых значит? – спросил Семка, свертывая самокрутку. – Эх ты, пескарь, за контру стоишь!
– За красных быть, что ли? – спросил Клешков.
– А хоть за красных, раз идею анархии не понимаешь! – сплюнул Семка. – Красные как никак за революцию!








