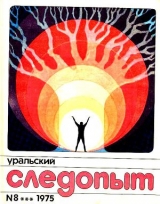
Текст книги "В осаде"
Автор книги: Юлий Файбышенко
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
– Да, – сказал молчаливый в бурке из своего угла, – живые сведения о красных. Он послужит доказательством…
Всю ночь шел дождь Утром похолодало, грязь на улицах смерзлась. Когда Гуляев подошел к исполкому, где хотел отыскать Бубнича, стал сыпать снег.
У исполкома толпились чоновцы, перекидываясь шутками, дрогли на ветру в своих куртках, кожухах и пальто. Около них сполошно кричали несколько баб с грудными младенцами, проклиная все на свете и требуя хлеба. Часовой крыльце равнодушно посматривал на прохожих, даже не пробуя проверить документы.
В исполкоме длинные захламленные коридоры были пусты и темны. На втором этаже у предисполкома Куценко шло заседание. За машинкой мучился вооруженный чоновец, утирая от со лба и через час по чайной ложке отстукивая буквы. На обшарпанном диване, ладонями обхватив колени, сидела девчонка в кожанке и платке. Верка Костышева, секретарь.
– Здорово, Вер, – сказал, подсаживаясь к ней, Гуляев, – не знаешь, Бубнич здесь?
– Все здесь, – не глядя на него, ответила Костышева. Она не любила Гуляева, и необъяснимая эта нелюбовь странным образом притекала его к ней, хотя в глубине души он тоже явствовал к ней антипатию.
– У тебя хотел спросить, – сказал он, разматывая шарф, – ты не помнишь, когда вы с Куценко осматривали склад потребкооперации, там посторонних не было?
Бубнич разрешил оставить пока дело об ограблении складов потребкооперации. Поджог полуэктовских лабазов был актом куда более серьезным. Но сейчас выдалась свободная минута, а Костышеву он в милицию не вызывал, зная, как ее самолюбие будет возмущено допросом, поэтому и воспользовался случаем расспросить ее между делом.
– Я бы всех этих ворюг в уездном торге вывела за Капустников овраг – и в расход! – сказала Верка, зло сужая глаза. – Сволочи! Сами, небось, и склад ограбили, и сторожа угробили.
– Ворюги-то они ворюги, – сказал Гуляев, – да как это доказать.
– Это таким тетеревам, как наша милиция, надо доказывать. Мне и так ясно. Захожу раз к Ваньке Панфилову. Вся семья с чаем сахар трескает. Я к нему: Вань, говорю, где взял? Молчит. Я говорю: а может, ты гад, Ваня, может, не рабочий ты никакой, а так – шпана подзаборная. Город, говорю, на голодном пайке. Бабам с грудными младенцами еле по осьмушке хлеба даем, а ты, говорю, сахарком хрустишь и ни в одном глазу у тебя пролетарской сознательности не видно! Откуда, говорю, сахар?
Гуляев весь напрягся.
– Сказал?
– Мне да не скажет! – ответила хмурясь Верка. – Да я б его враз на ячейку поволокла… Мы и так потом его обсуждали.
– Сказал он, где сахар добыл? – нетерпеливо потряс ее за локоть Гуляев.
– Ты руки оставь! – бешено стрельнула в него Верка серыми жесткими глазами. – Это дело комсомольское – куда грязными лапами лезешь? В ячейке состоишь?
– Верка, – сказал он, преодолевая свою неприязнь к этой острой, как бритва, безудержно категоричной девчонке, – ты прости, что я тебе сразу не объяснил. Мы следствие по этому делу проводим. Сахар – раз появился в городе – он только оттуда, из кооперативных складов. Позарез надо знать, как его добыл Панфилов.
Верка пристально взглянула на него.
– Тут дело-то не простое, – сказала она, морща младенчески ясный лоб, – тут дела деликатные. Ванька-то, он у нас теленок. Добрый до всех. У Нюрки Власенко мальчонка заболел. Нюрка-то сама больная, еле ходит. Ванька – мастер ихний. Он мальчонку-то на руки и – в больницу. Спасли его. Сам фершал мазью мазал. Вот за это Нюрка Ваньку сахаром наградила. Две головки дала. Говорит: он у ей от старого режима схоронен был.
Гуляев открыл было рот, чтоб попросить Верку свести его с Панфиловым, как грохнула дверь, и в приемную вломилась толпа взлохмаченных и разъяренных женщин.
– Давай сюда их! – кричала рослая работница в размотавшемся платке. – Гони сюда комиссаров.
– Хлеба! – истошно кричала исхудалая маленькая тетка в подвязанных к ногам калошах. – Хлеба давай!
Шум стоял неистовый. Чоновец, сидевший за машинкой, вскочив, пытался преградить доступ к дверям, но его отшвырнули, как щепку. Однако, прежде чем женщины добрались до дверей, они распахнулись, и Бубнич с Куценко стали в них, спокойно глядя на бушевавшую толпу. Гуляев и Верка с двух сторон застыли у дверей, готовые прийти на помощь.
– В чем дело, гражданки? – спросил Куценко. – Яка нужда вас привела сюда?
– Именно, что нужда! – ответила рослая работница в платке. – А ты, начальник, видать, жрешь хорошо, коли не знаешь нужды нашей! Голод! Дети голодают!
Дикий шум покрыл ее последние слова. Куценко спокойно ждал. Из толпы вырвалась маленькая баба в калошах и закричала что-то пронзительно и неразборчиво, размахивая перед самым носом предисполкома крохотным темным кулачком.

– Так, – сказал поднимая руку, Куценко, – причина понятна. Дайте слово сказать!
– Слов вы нам полну пазуху наговорили! – опять крикнула рослая. – Ты нам хлеба давай!
– Вот и хочу сказать про хлеб!
Толпа сдвинулась вокруг. Гуляеву горячо дышали в ухо.
– Товарищи женщины, – сказал Куценко, дергая себя за ус, – дела такие. Враг пожег склады. Об этом известно?
– И что? – закричали из толпы. – Ты нам зубы не заговаривай! Где твоя охрана была?
– Идет гражданская война, товарищи бабы, – глухо сказал Куценко, – мы строим первое в мире государство рабочих. Государство ваше и для вас! Трудно нам. Враг у нас ловкий. Бьет по самому больному месту.
– Мы-то с голоду мрем, а буржуи колбасу трескают! – крикнула женщина в калошах.
– Всех к стенке! – закричала женщина с красивым, но мучнисто-серым лицом. – Гады! Награбили при старом режиме!
– Ваша классовая ненависть правильная, – сказал Куценко, перебивая шум, – но только знайте, гражданки, шо самосудом делу не поможешь!
Толпа притихла. Куценко говорил уже свободно и легко, указывал, что и как надо сделать, чтобы выжить в эти трудные дни, а к Гуляеву пробралась Верка Костышева, и, мотнув головой в сторону красивой работницы с мучнистым лицом, шепнула:
– Вот та – Нюрка Власенко! Баба шалавистая! Ты гляди с ней, допрашивать будешь, палку не перегни. Нервенная она, может и глаза выцарапать.
Гуляев проследил, как эта женщина ведет себя в толпе, отметил, что даже в потертом своем пальтишке и черном платке, она как-то выделяется среди остальных работниц, и определил, что она здесь совершенно посторонняя, что она – по случаю. Женщины, убежденные Куценко, уже собирались уходить. У многих на лицах было выражение улыбчивой пристыженности. Рослая работница, посмеиваясь в платок и отводя глаза, винилась в чем-то перед Бубничем. Тот тоже улыбался, но в глазах его был холод. Бубничу было сейчас не до разговоров. Раз так вели себя женщины-пролетарки, то каково же было настроение у большинства суховцев.
Гуляев опять выделил из толпы Власенко. Она уже стояла в дверях, щелкала семечки и поджидала товарок.
«Может быть, сейчас поговорить?» – подумал он. И тут же решил, что это неосторожно. Надо выяснить о ней все. Только тогда допросить. Но, между прочим, поговорить не мешало. Он подошел и встал рядом с ней, притиснувшись плечом к стене.
– Шуму сколько наделали, – сказал он, подлаживаясь под чей-то чужой язык и от этого чувствуя себя в глупой роли неумелого сыщика. – Было б с чего!
– Сам-то жрешь, – лениво ответила ему Нюрка, – вот тебе и кажется, что не с чего. Имел бы ребенка, по-другому запел, кобель здоровый!
– Трудное время, – сказал он, не желая спорить, – надо потерпеть.
– А мало мы терпели? – тут же вскинулась Нюрка. – Мы-то, бабы, одни и терпим, не вы – жеребцы кормленные.
– Давно замечаю, – сказал он, косясь на нее, – больше всех кричит не тот, кому на самом деле плохо, а тот, кто как раз лучше живет.
– Это про кого ты? – Нюрка, выставив грудь, повернулась к нему. – Про меня что ли?
– Почему про тебя, – пробормотал он, слегка смущенный.
– Я те дам на честных женщин наговаривать! Вот ребятам скажу, они те холку намнут, дубина жердявая.
– Пошли, Нюрк, пошли, – потянула ее собой рослая работница. А женщина в калошах шепнула, дотянувшись до уха Гуляева:
– С энтой не вяжись, парнишка, а то перо в бок получишь…
Скоро Гуляев и Верка остались одни в опустевшей приемной. Дверь к председателю была открыта, и из-за нее порой доносились отдельные фразы и слова. Верка сидела на диване. Пружины в нем торчали, и Верка все время ерзала, стараясь сесть поудобнее.
– Вер, – Гуляев присел на валик, – ты Нюру хорошо знаешь?
– Чего бы ее не знать, – ответила Вер прислушиваясь к тому, что говорилось за дверью. – На нашем заводе лет пять уж как работает. Ребенок у нее. Баба занозистая, но дурного от нее нету.
– Вер, – сказал Гуляев, – а как мне Панфилова повидать?
– Зачем он тебе? – спросила Верка, недоверчиво окидывая его серыми непримиримыми глазами. – Он при карауле тут.
– Здесь? – обрадовался Гуляев.
– Хоть бы и здесь! Я его к тебе не потащу! – отрезала Верка. – Что ты нам тут за начальник?
– Никакой я не начальник, – сказал Гуляев. – А просто нужно мне знать все про Нюрку. И это не личный интерес, а дело. И как сознательный товарищ, должна мне помочь, а не собачиться.
Верка посмотрела на него, и он увидел золотистые ресницы и почти белые брови, которые, если присмотреться, придавали курносому Веркиному лицу вид добродушного шпица – тот очень хочет выглядеть свирепым, а на само деле веселый и мирный.
– Должна ты мне помочь в расследовании, Костышева, – сказал он деловым тоном, и это действовало.
– Если по делу, – размышляюще пробормотала Верка, потом встала, потопталась немного, чтоб согреться, и вышла…
– Наши товарищи посланы для выполнения этого задания, – услышал он низкий голос Бубнича. – Пока от них нет вестей. Как революционеры-марксисты мы должны быть готовы ко всему. Даже к их гибели. Такова диалектика борьбы. Но та же диалектика учит нас ждать и надеяться до последнего мига. Ждать не сложа руки, а действуя. Мы и действуем. Принимаю на свой счет критику в адрес ЧК и милиции. Да-да, товарищ Иншаков, не отмахивайся. Поработали мы неважно, раз дали контре совершить два таких преступления, как грабеж одного и поджог других складов. Но, товарищи, вы должны принять во внимание: все наши силы отвлечены на борьбу с Хреном. Положение в городе сложное. Сегодняшнее поведение женщин-работниц говорит за то, что даже самый надежный пролетарский элемент города переживает сомнения. На все у нас физически не хватает сил. Сякинский эскадрон ненадежен. Наша задача заставить его стать военной и сознательной силой. Мы занимаемся этим… Главная же угроза сейчас – это усиливающаяся деятельность массированного элемента и буржуазии в городе. Мы должны быть готовы ко всему. По данным ЧК…
Кто-то подошел и закрыл дверь. Гуляев молча глядел в заплеванный, усеянный шелухой семечек пол.
Вошла Верка, подталкивая перед собой невысокого ловкого парня, в армейской фуражке, длинном штатском пальто и обмотках. Винтовка без штыка висела у него на плече дулом книзу.
– Вот Панфилов, – коротко сообщила Вера и снова устроилась на диване.
– Гуляев – следователь милиции, – сказал Гуляев, вставая и подавая руку.
– Фу-ты ну-ты! – сдавив руку Гуляева, засмеялся парень. – Так чего понадобился?
– Скажите, товарищ Панфилов, – Гуляев сознательно вел разговор официально. – Сахар, который дала вам Власенко…
– А-а! – покраснел парень. – Я ж не крал его!
– …она на ваших глазах его доставала?
– Как доставала?
– Вы видели, где и как он у нее хранится?
– Видел. В мешочке таком.
– Большой мешок?
– Махонький.
– Сахару в нем было много?
– Кила три.
– Немало.
– По нонешним временам – клад.
– Откуда ж она его добыла, этот клад?
– Говорит: с прежних времен хранила.
– А вы верите?
Парень подумал, посмотрел на Гуляева, отвел глаза.
– Нюрка, она девка-то ничего, своя.
– Скажите, а что за знакомства у нее?
– У Нюрки? – парень рассмеялся. – Ну я – знакомство. Еще наши парняги…
– А кроме?
Парень посмотрел на Верку. Та вмешалась.
– Выкладывай, Вань. Милиция знает, зачем ей это надо. Давай, как на ячейке. Крой.
– Нюрка – она у нас лихая, – сказал Панфилов с некоторым усилием, – так, навроде, в доску своя, но есть у ей один изъян. – Он остановился и снова взглянул на Верку. Та тоже пристально и настороженно смотрела на него. – В общем, значит так! – решительно рубанул Панфилов рукой по воздуху. – Она, понимаешь, с блатными шьется. Шпана вокруг ее… Тут такое дело. Ребенок-то у нее – он при прошлом режиме еще сработан. Был у нас в городе Фитиль, не слыхали?
Гуляев покачал головой.
– Сперва был как все, потом подался в Харьков, еще огольцом, а потом уж наезжал чуть не в своем шарабане. В большие люди пробился. Говорили – шайкой заправлял. Вот от него Нюрка пацана-то и нагуляла. Перед самой революцией накрыла его полиция. А потом вроде мелькал он в городе. И, главно, стали к Нюрке ходить разные налетчики… И всех она примает. Одно время перевелись они тут, а вот опять, значит, появились.
– А Фитиль?
– Про Фитиля ничего не знаю.
– Ясно, – сказал Гуляев. – Вера, могла бы ты мне помочь в одном деле?
– Если общественное – помогу, – сказала Верка.
– Будь спокойна – не личное… А вы, товарищ? – он посмотрел на Панфилова.
Тот спокойно встретил его взгляд.
– Раз Верка с вами, я тоже.
– Мне надо, чтобы вы ввели меня к Власенко. А потом придется, возможно, провести и обыск.
Верка помрачнела.
– Неудобно как-то.
А Панфилов сказал прямо.
– На такие дела я не мастак. Живу рядом, шабер. А тут – обыск.
Гуляев усмехнулся, хотел что-то сказать, но вмешалась Верка.
– А на революцию ты мастак? – спросила она Панфилова. – Так что давай, Вань, бросай дурака валять. Раз требуется, надо сделать. Как договоримся, Гуляев?
– В шесть часов я прихожу к вам на Слободскую и мы все идем.
Уже смеркалось, когда впереди замерцали огни, стал доноситься собачий лай, рев скота.
– Посоветоваться надо, – сказал, сползая по склону оврага, Аристарх Григорьевич. – Кабы на свою голову приключений не схлопотать.
Фитиль заскользил по мокрой глине оврага и ловко затормозил перед самым ручьем.
Клешков последовал за ним. Аристарх зачерпнул ладонями воду, выпил из них, как из ковша, стряхнул последние капли на лицо, обтер его длинным платком, добытым из-под чуйки, и присел на свой «сидор». Фитиль нагреб палых листьев и уселся на них. Клешков стоял, рассматривая узкую балку, заросшую рыжим кустарником и заплесневелым бурьяном, ивы, склонившие все еще свинцовые свои шапки над ручьем. Вода в ручье глухо шумела, она была темной и холодной…
– Вот жизнь какая путаная, – сказал Аристарх, добывая в таинственных карманах под чуйкой спички, – сидишь в городе, так тебе этот Хрен на каждом шагу мерещится. Вышел за окраину – его днем с огнем не сыщешь.
Фитиль мрачно разглядывал отстающую подошву сапога. Маленькая кепочка была натиснута до самых ушей. Его хищное и зоркое лицо, с вечно готовыми взбухнуть и пропасть желваками было в непрестанном движении. Он то прищуривался, оглядывая своих попутчиков, то начинал хмурить лоб и нервно улыбаться, то весь словно чугунел – становился неподвижен и черен.
– Эй, милиция, – спросил он, – у коммунистов-то был шмон после твоего побега?
– И после твоего был шмон, – огрызнулся Клешков.
– Как дети малые, – с ласковостью в голосе, не заглушавшей строгого предупреждения, остановил их Аристарх.
– Я вот к чему, – покусывая травинку, сказал Фитиль. – Если красные разъезды выслали, а Хрен со своими хреновину порет, как бы нам не засыпаться, кореша!
Все помолчали. Негромко шелестел у ног ручей.
– Я так скажу, – решил Аристарх, – айдате, братики, в деревню. Деревня должна наскрозь быть за него. Иначе как же? Поведаем кому из головастых мужиков об нашем деле, не обо всем, а так – с краюшку, он нас и сведет. Ась?
– Пошлепали! – сказал Фитиль. – Эй, чемурило, кончай портки просиживать!
Они вылезли из оврага и, следуя за емко вышагивающим Аристархом, дошли до первой поскотины. Позади всех, пришлепывая надорванной подошвой и затейливо матерясь, плелся Фитиль.
– Войдем, хатку поищем получше, там и сговоримся с хозяином, – сказал Аристарх, пролезая под поперечную слегу.
Почти немедленно вслед за его словами за плетня выпрыгнул огромный волкодав и кинулся им навстречу.
– Забодай меня чулком! – крикнул Фитиль. – Князев, прочисть зенки!
Аристарх окаменел. Волкодав захрипел подскочив, обнюхал его.
Клешков едва успел схватить за руку Фитиля, полезшего за ножом.
– Убьют! – крикнул он.
– Я сам его запорю, гада! – скрипнул зубами Фитиль, пытаясь вырвать руку у Клешкова.
Волкодав, как будто услышав угрозу, ринулся к ним. Фитиль вырвался из рук Клешкова и махнул ножом. Волкодав отпрыгнул и оскалился. Фитиль согнулся, чуть отставив от бедра руку с ножом и шагнул навстречу собаке. Волкодав захрипел и приготовился к прыжку.
– Кто такие? – закричал чей-то голос.
Князев что-то отвечал своим медовым голосом, а волкодав и Фитиль ходили друг около друга, как два зверя одной породы.
– Беркут, домой! – крикнул тот же голос, и собака, оглядываясь, отбежала.
Не торопясь подошел мужичонко с винтовкой под мышкой, в лаптях и свитке, накинутой поверх голого туловища. Видна была волосатая тощая грудь.
– Калики перехожие? – спросил он, нехорошо усмехаясь. – Ну ходи в Совет, там разберут.
Совет – это слово радостно обожгло Клешкова, – значит, здесь Советская власть, но он тут же вспомнил о своем задании и понял, теперь все еще больше осложняется. По топкой грязи улицы мужик отконвоировал их в большую хату, стоявшую особняком. Плетня у хаты не было, деревья сада стояли как-то вразнобой и над дверью торчала кособокими буквами написанная вывеска «Василянский Совет депутатов». Пока мужичонко вел их по селу, им попалось не больше двух прохожих. Пробежала баба с пустыми ведрами, после чего Князев начал усиленно креститься, да встал за плетнем мужик в папахе, лениво глядевший на них, пока они не прошли.

– Входи! – сказал конвоир.
Аристарх, подтолкнув вперед Клешкова, осторожно ступил за ним в сени. Сзади, пустив очередной заряд мата, громыхнул по ступеням Фитиль.
В комнате, куда они вошли, густо висел дым, смрадно пахло. От стола подняли голову трое здоровенных мужиков.
– Ось тоби, председатель, трех курощупов! Коли бы не кобель, ни в жисть бы не поймал, – сказал мужичонко, садясь на скамью у стен
– Хто такие? – спросил самый дородный из трех, отваливая в сторону спавшую на лоб шапку. – Шо хотели?
Князев, перекрестившись на угол, выступил вперед.
– Так что страннички мы, товарищ председатель, ушли мы с городу от голодухи, бредем, на вещички продукты меняем.
– Покажь вещички, – потребовал председатель. Остальные чадно дымили самокрутками, рассматривая незнакомцев.
Князев развязал «сидор», суетливо стал выкладывать оттуда женские шали, мужские носки, бритву фирмы «Жиллет», ножницы, трехдюймовые гвозди.
– Гарно! – сказал председатель, подгребая все это по столу к себе. – Сколько берешь?
– За все? – спросил Князев, приглядываясь к сельскому начальству и чуть подступая к столу.
– За усе.
– Так мешочек хлебца бы, бухваночек на тридцать, – елейно запел Князев, – да лучку головок с десяток!
– За це? – оттолкнул от себя председатель весь ворох, так что гвозди раскатились по столу, и оба председателева помощника ринулись их собирать.
– За це! – осклабился Князев. – По нонешним временам редкие вещички-с!
– Голова, – сказал Фитиль от двери, – шамать у тебя не найдется? Вторые сутки без шамовки.
– Це побачим, – буркнул председатель и завернул ус. – Опанас, як с ими будемо?
– Помозговать треба, – сказал солидный Опанас и тоже пригладил усы. – Больно воны на доглядчиков похожи.
– Да что вы, господа хорошие, – опять нежно запел Князев, укоризненно улыбаясь, – как такое вам в голову могло прийти. На кой ляд нам что выглядывать, да и кому это нужно. И без того скоро все кончится, к единой анархии все придет.
– К анархии? – густо спросил председатель. – Ты, видно, за Хрена?
Князев сощурился, оглядел всех троих и засмеялся.
– Я, граждане, ни за кого. Мы тут все сами за себя, у нас идейная программа известная, не даем мы веры слуху, лишь бы сыто было брюхо!
– То червонные лазутчики! – вдруг сказал багровый маленький человек, сидевший с краю стола. – Нюхом чую.
– Брось, дядя, из лужи штанами черпать, – сказал Фитиль, усаживаясь на скамью рядом с конвоиром, – красным сейчас хана приходит, какие мы лазутчики!
– Ни, – сказал председатель, выпучиваясь на пленников, – воны от Хрена. Нашу вольну Васылянку треба ему завоевать! Так мы ж не покоримся! Ось! – и он так грянул ручищей по столу, что все лежащее на нем взлетело и со звоном и стуком посыпалось на пол. Тотчас же тощий мужичишко и второй товарищ председателя упали на колени и начали собирать вещички, изредка суя кое-что по карманам.
– Господин-товарищ, – подступая вплотную к столу, вытянул просительно шею Князев, – вы-то сами, извиняюсь, за каких стоите?
– Мы за себя стоим! – отрезал председатель. – У нас вольна республика! Мы ни с кем и ни за кого!
– Так это по-нашенски! – даже прихлопнул в ладони Князев. – Гражданин-господин, вы аккурат с нашей программой совпадаете.
– А не запереть ли их у клуню, Тарас? – спросил маленький и багровый. – Ей-бо, це лазутчики, если не хуже!
– Запрем до сходу! – решил председатель и вынул из кармана кольт. – Микита, веди их до клуни! Завтра допрос чинить будем.
Микита подхватил свою винтовку и направил ее на сидевшего Фитиля.
– Вставай, артист!
– Отдохнуть не даст, цибуля поганая! – проворчал Фитиль и встал.
Их повели в клуню.
Еще в сенях его встретила Пафнутьевна и вместо всегдашней воркотни посветила ему до самой лестницы, шепнув вслед:
– Доброго здоровья тебе, милостивец, всех нас выручил, батюшка, благодарность тебе наша.
Размышляя над этими чудесами, Гуляев поднялся наверх и увидел свет в своей комнате. Он толкнул дверь.
На стуле сидела Нина, а возле его перестеленного сундука стояли цветы.
Он поздоровался.
– Как вам сегодня работалось? – спросила Нина, с ожиданием поглядывая на него.
– Ничего, – ответил он, постоял молча, потом поднял голову. – Нина Александровна, – сказал он, – вчера я совершил служебное преступление. Во всем городе нет лишней осьмушки хлеб, а я утаил от своих товарищей ваши запасы. Я чувствую себя преступником. И ваша заботливость обо мне похожа на взятку. Очень прошу, давайте вернемся к прежним отношениям.
Она встала.
Даже в тусклом пламени свечи было заметно, как побелело ее лицо.
– Вот ка-ак! – сказала она дрогнувшим голосом. – Вот как, значит…
Она решительно прошла к сундуку и стала вытаскивать из него пакеты, ящички, банки.
– Вот, – сказала она, расставив все это по полу, – прошу вас, отдайте им, обреките нас на голодную смерть! Но только утешьте свою красную совесть!
Он смотрел на концы своих сапог.
– Мы не должны существовать, – гневно выговаривала она, задыхаясь, – только потому что принадлежим к враждебному классу? Но бог, создавая нас, не дал нам право узнать, чьими детьми мы родимся! – и вдруг почти с рыданьем крикнула: – А я-то думала, что вы человек, Владимир Дмитриевич, а вы!… – И убежала.
Через минуту тяжко пробухал по ступеням и рухнул перед ним на колени сам Полуэктов.
– Не погуби, милостивец, – взмолился пряча под пухлыми веками глаза. – Я-то умру, ладно, баб моих не погуби, в чем они-то виноваты? Подохнут голодной смертью – и все.
– Я никуда доносить не собираюсь, – сказал Гуляев. – Встаньте. Прошу об одном: уберите эти продукты из моей комнаты и никогда больше не пробуйте угощать меня ими!
Купец, пробормотав слова благодарности, начал торопливо сгребать вытащенные из сундука припасы…
Через некоторое время в доме все затихло.
Гуляеву стало вдвойне не по себе. Мучило сознание какой-то своей беспомощности, отвращения к самому себе.
Он поднял увесистую свечу – хозяева успели заменить его огарок – и подошел к стене. Юная женщина на картине все бежала по листопаду, все бежала куда-то и от чего-то… Гуляев отошел к окну. Сад гудел под осенним ветром. На душе было одиноко. Он спустился вниз. На кухне никого не было, он быстро поставил себе чай и приготовился ждать, пока он вскипит. Послышались шаги. Он двинулся к двери, чтобы уйти, и встретился при выходе с Яковлевым.
– Здоровы? – спросил Яковлев, крепко сдавливая его ладонь горячими пальцами.
– Да, – ответил он неохотно и вышел на нижнюю веранду. Там было душно и он открыл окна. Яблони рокотали теперь поблизости. Луна, бродя где-то высоко, высветила смутным золотом край яблоневой кроны. Дерево колыхалось, то входя, то выходя из лунного марева.
Сзади неслышно подошел Яковлев, встал рядом.
– Владимир Дмитриевич, – спросил он своим негромким голосом, – вы ведь где-то учились?
– На первом курсе университета, – ответил Гуляев. Говорить ему не хотелось, но этот человек был любопытен.
– Скажите… – сказал Яковлев, словно не решаясь, – а вам, а вы…
– О чем вы? – помог ему Гуляев, все глядя на мертвенную паутину лунного света, то осенявшую верхушки крон, то облетавшую с деревьев.
– Вам не мешает ваше образование на службе? – решился, наконец, Яковлев. – Как на это реагируют ваши товарищи?
– Хорошо реагируют, – сказал Гуляев и краем глаза скользнул по худому лицу и чеховской бородке собеседника. – А почему вы об этом?
– Видите ли, я все в размышлении о себе, – сказал Яковлев. – Чувствую, что долг меня призывает сейчас пойти и рассказать о своем былом офицерстве. Когда против власти идет толпа, азия, анархия – я с властью. Но мучают сомнения: все-таки, понимаете, не ко двору я там.
– Сомневаетесь, так не ходите, – сказал Гуляев, – у нас сомневающихся не любят. Вот когда решитесь, тогда милости просим.
Они постояли молча. Аромат сада, тяжелый, земной, окутывал их.
– Вспомнил почему-то, – сказал вдруг Яковлев, – еще в детстве, до японской войны было. Мы снимали дачу под Дарницей. Сестра у меня была парализована с детства, ее возили в кресле. Однажды отец ей купил мяч – радости было на несколько дней. Она могла играть с ним возле кресла. У мальчишки нашего дворника была собака. Обычная дворняга, доедавшая объедки. Она раз подобралась к мячу и прокусила его. Сестре стало худо. Я тогда решил проучить собаку: взял отцовский хлыст, нашел ее за будкой и отхлестал. И что меня больше всего поразило: она и не пыталась сбежать или огрызаться, только взвизгивала от боли и все смотрела больными трахомными глазами…
Гуляев взглянул на собеседника: у того было недоуменно печальное лицо.
– И что? – спросил он.
– Что – «что»?
– Что дальше?
– Дальше? Дворников сын проломил мне камнем голову.
– А потом?
– Отец рассчитал дворника. Если вы к этому, то вот нужный вам конец.
Гуляеву стало неловко.
– Нет, – сказал он, – я не об этом.
– А я не к тому и рассказывал, – Яковлев кивнул и вышел. Гуляев тоже поднялся наверх и снова долго стоял у картины.
– Ну куда ты бежишь? – спрашивал он у женщины на аллее. – Куда?
Они просидели в клуне часа три, пока о них вспомнили. Князева тот же мужичонка с винтовкой увел куда-то, а Клешков, оставшись в темной холодной клуне вдвоем с Фитилем, загрустил. Фитиль ворочался рядом на сыром зерне, наваленном до самой стены, скрипел зубами, бормотал что-то. Клешков думал о том, как все пошло куда-то вкось от задуманного плана, начиная с той самой минуты, когда не удалось без драки отобрать винтовку у Васьки Нарошного. Потом эта пальба, неистовый рывок через сады и проклятый дьякон… С другой стороны, и дьякон был не помехой, а даже удачей, но вот потом… Его все держали в пристройке и даже до уборной сопровождал дьякон. Он держал руку в кармане, и обоим было понятно, какую игрушку он там нянчит. И вдруг снова явился Князев и дьякон, а с ними этот Фитиль. Князев быстренько изложил суть дела. Клешкова он берет с собой. Ежели что не так – амба… Вот и оказался Клешков в компании с Князевым и Фитилем. Фитиль вызывал у него интерес и держал его в напряжении даже больше, чем Князев. Старик был более или менее ясен Клешкову. У него было дело к Хрену, дело щекотливое. Организация, в которую входил Князев, была иной окраски, чем движение Хрена. Это было, как понял Клешков из инструкций, данных ему Князевым, типично монархическое, даже для белых – излишне правое течение. Князев и те, кто был с ним, ненавидели анархистов почти так же, как красных. Но сейчас что-то назрело, почему и решено было окончательно объединиться с Хреном в деле свержения большевиков. Какое-то отношение ко всему этому имел Фитиль. Его внезапное появление в Сухове и поспешность, с которой его заставили покинуть городок. Все это надо было вызнать. Но очередная неудача выбила Саньку из колеи. Надо ж было так случиться, чтобы вместо Хрена они попали к этим самостийным селянам!
– Финарь ему в кишки, – сказал сипло Фитиль, – завел нас козел! Эй, пацан, спишь?
– Не сплю, – отозвался Санька. Он лежал на зерне, съежившись от холода.
– Связались мы с тобой, ядрена палка, с ашкимотами, – сказал Фитиль. – Как я так промахнулся?!
– Аристарх Григорьевич – сурьезный человек, – сказал Санька, – придумает что-нибудь.
– Придумает – как же! Соси морковь – она сладкая! – Фитиль зашуршал зерном, не то поворачиваясь, не то садясь. – Раздолбай я, раздолбай! Надо было этого жлоба, что нас у деревни накрыл, пришить и – рвать когти!
– Аристарх Григорьевич знает, – уныло сказал Санька, ведя свою игру, – он головастый!
– Дубарь ты, малый! – отрубил Фитиль.
Опять зашуршало зерно, потом уже с другого конца клуни донесся голос Фитиля:
– Слышь, ползи сюда! Кажись, доска поддается.
Санька пополз было на зов, но дверь отворилась, и в клуню влетел Князев. От пинка конвоира он сел в зерно, потом прилег. Дверь захлопнулась. Свет, только что мутно плеснувший в глаза узникам, пропал.
– Дела не важнецкие, ребятушки, – пробурчал каким-то не своим голосом Князев. – Бьют, растуды их мать!
– А ты мечтал, что они тебе шамовку выставят? – спросил язвительный голос Фитиля. – Индейку в рассоле? Филе из барашка? Старый пень!
– А-ю! Дружочек, как ты заговорил! – ласково, но предупреждающе запел Князев. – Не рано ли ты, Фитилек угарный, чадить начал? Аи забыл, какие дела я за тобой знаю?
Опять посыпалось зерно. Кто-то прыгнул сверху. Тонкий голос Князева высипел:
– Са-ня, спаси!
Санька кинулся на борющихся. Фитиль душил Князева, и Санька рывком отбросил Фитиля в сторону, завернул ему за спину руку.
– Что ж ты дружбу нашу рушишь, голуба? – с высвистом спросил Князев, и по скрюченному телу Фитиля прошла судорога.
– Дядя Аристарх, – сказал Санька, – вы его не бейте. Еще ударите, я ему руку отпущу.
Слышно было, как Князев полез куда-то по зерну.
Санька выпустил руку Фитиля и тотчас отступил. Но Фитиль и не думал драться. Он молча лег на зерно и затих.
– Завел ты нас, корявый! – сказал он после долгого молчания.








