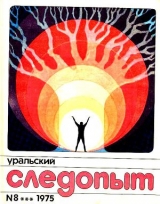
Текст книги "В осаде"
Автор книги: Юлий Файбышенко
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Юлий Файбышенко
В осаде

Гуляев лежал на сундуке и слышал дыхание вечернего сада. Через открытую форточку доносились запахи созревших и подгнивающих груш, земли, освеженной недавними дождями…
Вчера ночью убили сторожа и ограбили склад потребкооперации. С утра Гуляев выяснил обстоятельства дела. Сторожем служил Иваненко, бодрый старик, из солдат еще скобелевских времен. Вывезено было около пятисот аршин мануфактуры, кожа, немного продуктов – вобла, старые, каменной твердости пряники, а также конфеты – подушечки и монпансье, килограммов пятьдесят колотого сахара – все запасы сладкого, которыми располагал городок. По мирным временам кража средняя. Но теперь, когда каждая нитка и каждый кусок на учете, это ограбление стало событием.
Положение в городке было тяжелым. После того, как бандиты батьки Хрена быками растащили рельсы узкоколейки, сообщение с Харьковом прервалось. Конные курьеры исчезали в пути. По всему уезду бурлило не то восстание, не то просто какое-то кровавое гулево. Мужицкие банды всех мастей и оттенков, небольшие группки белой офицерни, непонятно как сбившиеся в шайки дезертиры – все это колобродило и стреляло, а в Сухове только и хватало сил не допустить до своих окраин эту многоликую разбойную вольницу.
Ограбление склада крайне насторожило всех в городке. Значит и здесь подняла голову уголовная братия и вражеское подполье.
Ветер ударил в раму, стекло вызвенело и стихло.
Гуляев жил у Полуэктова в огромном особняке
Комната его была на мансарде. Он очень любил по утрам смотреть в округлое слуховое окно, постепенно наливающееся розовым соком зари. Отношения с хозяевами были самые несложные: здравствуйте – прощайте. Во всем доме жили старый Полуэктов, купец второй гильдии, крупный когда-то солеторговец и владелец маслозавода, его тихая и неслышная жена (всякий раз при виде Гуляева она немела от ужаса), их племянница, высокая юная с надменно окаменевшим лицом, и старуха – кухарка Пафнутьевна.
Гуляев, вселенный сюда по ордеру, и не пробовал наладить отношений. С утра он спускался вниз, в умывальную, коротко здоровался с хозяином, который в это время всегда торчал внизу, неизвестно что высматривая сквозь заузоренные диким виноградом стекла террасы, оплескивался водой, вытирался своим полотенцем и шел на кухню, где ему принадлежал большой армейский чайник. Он заваривал чай, подсыпая к нему душистую траву, которой снабжал его завхоз милиции Фомич, и, дождавшись, пока вода закипит, уносил чайник к себе. Порой в эти минуты на кухню мельком заглядывала жена Полуэктова, порой входила и ставила на плиту какие-то кастрюли племянница. Кроме утренних приветов, ни с кем ни разу не было сказано ни слова.
Теперь Гуляев сидел в своей комнате на сундуке, где устроена была его постель, и в который раз уже рассматривал картину на противоположной стене комнаты. Картина возбуждала странные мысли и неясные подозрения. По липовой аллее, усыпанной оливково-оранжевыми листьями, в серой мгле рассвета бежала девушка. Вернее, молодая женщина. Она бежала стремительно, далеко отводя локти. Бежала от чего-то ненавистного. Страдание было на милом открытом лице. Страдание – да, но была ли надежда? Скорее отчаяние и решимость…
Гуляев встал, прислушался. Внизу неясно зазвучал разговор, и Гуляев уловил чей-то чужой голос. Часам к семи Полуэктовы обычно садились за ужин. Потом следовало чаепитие. Изредка снизу доносился резкий говорок Пафнутьевны, бас хозяина, тихая фраза хозяйки, и еще реже мартовским ледком вызванивал голос племянницы.
Сегодня у них гость. Слышался мужской голос – то нервный и торопливый, то размеренный, словно декламирующий.
Гуляев прошелся по мансарде. Половицы заскрипели. Внизу все смолкло. Он прислушался. Там перешли на шепот. Боятся его? Он усмехнулся. Что ж, вполне возможно, что боятся. Они – «бывшие», а он – следователь угрозыска, сотрудник рабоче-крестьянской милиции.
Гуляев подошел к окну, стал коленями на сундук, оставленный по просьбе хозяев в его комнате, нажал и с силой распахнул обе половинки рамы. В саду гулял ветер, знобко подрагивали в косяке тусклого света от нижней веранды молоденькие груши. С далекой улицы не доносилось ни звука. Только где-то далеко, в нижней части города, где жила беднота, рабочие маслозавода и кустари, размашисто катила свои переливы тальянка.
Ограбление склада, думал Гуляев, было делом нетрудным. Иваненко – сторожа – знал весь город и заговорить с ним, отвлечь внимание мог каждый. Но, с другой стороны, Иваненко – старый солдат, службу знал хорошо, ночью не должен был вступать в беседу. Кроме того, город патрулировался. Любой шум мог привлечь внимание патруля. Склад недалеко от базара, а там по распоряжению военкома патрули бывали особенно часто. Нет, разгадка, видимо, в том, что с Иваненко мог заговорить только близкий знакомый, или же сторожа отвлекли другим способом… Могли убить и на улице, потом затащить труп в склад.
Он расспрашивал старшего патруля, тот сказал, что они появлялись на Подьячей улице, где был склад, почти каждые полчаса, все было тихо. Первый раз они встретили сторожа около склада, тот сидел на ступенях и даже окликнул проходящих: нет ли закурить? Второй раз Иваненко прохаживался по улице. После они его не видели – это уже часов с трех ночи, но проверять не стали, решили, что старик зашел в склад.
Значит, убийство и ограбление произошло около трех. Но как могли без шума и так быстро грабители вывезти товары? Хоть было их и не так много, но все равно потребовалось бы несколько подвод. Скрипа же телег или звука колес солдаты из караульной роты не слышали. На руках перетащить все товары за полчаса, час – слишком трудно…
Ладно, гадать не будем, суммируем то, что имеем: ограбление произошло после двух, грабили профессионалы. Надо порыться в делах уездной управы и полицейского участка. Посмотреть карточки на местную шпану. Впрочем, почему обязательно местную? Сколько за эти годы прошло и осело в городишке разного люда. Могли орудовать и залетные.
Внизу разговаривали в полный голос. Сидят там за чаем, болтают. Гуляеву взгрустнулось. С момента приезда в этот городишко он все время был один. Правда, Санька Клешков – друг, но и с ним у Гуляева не всегда ладилось. Гуляев понимал – почему. Для Клешкова, как и для Иншакова, он был чужак, «белая кость».
Гуляев снова сел на сундук и уставился в стену. Картины в темноте почти не было видно. Лишь чуть-чуть выделялись на темном фоне светлые пятна – золото листьев по краям аллеи.
Можно, конечно, сходить к Саньке, но Гуляев не решился. Саньке поручено вести что-то важное, если судить по тому, как Иншаков отрезал, когда Гуляев попросил придать ему Клешкова. Впрочем, начальник мог отказать и без умысла. Он считал, что только такие пролетарии, как он, могут вершить дела мировой революции. А Гуляев – досадное недоразумение… Что ж, начальник Иншаков другим быть и не может, его не переделаешь. Но и он, Владимир Гуляев, бывший студент таков, как есть. И он тоже нужен мировой революции. Его в этом не переубедишь…
Владимир встал и спустился по винтовой деревянной лестнице. Пафнутьевна, возясь у печи, взглянула в его сторону и что-то пробурчала.
– Вы мне? – спросил Гуляев. Лучше было бы промолчать, но это было не в его характере.
– Говорю, не у себя дома, а будто хозяин.
– А-а, – сказал Гуляев, – на эту тему мы с вами не подискутируем… Можно мне чайник поставить?
– Ставь хоть бочку… Начальники!… Откуда их набрали, начальства такого, ни вида, ни ума,
Гуляев поставил чайник, долил в него ковшом воды из ведра на лавке, и сразу же пришлось выдержать новое нападение.
– Воду-то брать – это кто же велел! – подбоченившись двинулась на него Пафнутьевна. – Аль не слыхал: кто не работает, тот не ест? Ты по дому что – работал? Почто чужую воду берешь?
– Скажи, куда идти, – принесу.
– Эх, злыдень, – останавливаясь против него, пропела Пафнутьевна, суживая глаза. – Людей в могилу спосылаешь, а откуда воду берут, досель не узнал?
Гуляев остро взглянул на нее, подумал: стоит ответить или нет? Решил, что нет. Прихватил пустое ведро, стоящее на лавке рядом с полным, и вышел в сени. У самой двери в темноте наткнулся на кого-то.
– Ч-черт, – сказал он, – извините, ничего не видно.
– Нет-нет, – в ту же секунду перебил его мужской голос, – это моя вина.
Вспыхнула спичка. Перед Гуляевым стоял худощавый мужчина среднего роста в пиджаке, военных галифе и сапогах. Догоревшее пламя последний раз блеснуло в запавших, нервно мерцающих глазах.
– Что-то не узнаю вас, – сказал Гуляев, не спеша уходить.
– Гость, потому и не узнаете, – сказал в темноте незнакомец. – Разрешите представиться. Яковлев, работник здравоохранения, давний знакомый Полуэктовых. А вы, кажется, постоялец?
– Да, – сказал Гуляев, – постоялец. Работник милиции… Позвольте пройти.
– Пардон, – посторонился в темноте Яковлев. – Вы потом не зайдете ли? Перекинемся в пульку, поболтаем.
– Вы же гость, я постоялец, – сказал Гуляев, – а должны приглашать хозяева.
Он сошел по громыхающим ступеням во двор, припомнил, что колодец у конюшни, и направился туда. Луна выползала над кровлями.
Скрипел журавель, лаяли вдалеке собаки, чернело небо, загораясь бесчисленными россыпями.
«Знаете ли вы украинскую ночь? – думал Гуляев, вытягивая из колодца полное ведро. Нет, вы не знаете украинской ночи».
Едва он вошел в кухню и поставил ведро на скамью, послышалось шуршанье платья, и вошла хозяйская племянница.
– Простите, пожалуйста, – сказала она, – дядя и тетя приглашают вас на чай.
Он посмотрел в ее большие глаза, спокойно наблюдающие за ним, шаркнул ногой.
– Благодарю. Сегодня не могу, очень занят. В следующий раз, если позволите.
– Конечно, – сказала она. – Приходите, когда угодно, если вам разрешают это ваши партийные инструкции.
– На этот счет нам инструкций не давали, – сказал Гуляев, враждебно оглядывая ее. – В свою очередь, если вам нужна моя комната или просто захотите навестить квартиранта, прошу не стесняться.
Они помедлили, глядя друг на друга, потом он вышел. Поднимаясь по лестнице, проходя к сундуку, скидывая краги и ботинки, он все вспоминал ее аскетически худое лицо с высокими скулами, светлые волосы над небольшим фарфоровым лбом, чуть вздернутый нос, полные губы. Знает себе цену, чертовка…
Клешкова томили предчувствия. Он и сам не знал, почему осенью они вдруг занимались в нем, как тревожные костры. Может быть, запах увядания, печальная пышность багряных садов вокруг, может быть, обостренное юностью, ожидание чего-то особенного, может быть, тревога самого городка, обложенного разъездами батьки Хрена – все это не давало спать ему по ночам. В таких случаях он читал. Сейчас он читал затрепанную книгу без обложки про похождения капитана Вельзевула. Это был высокий красавец, объявивший войну всему миру. У него был замок где-то в шхерах, и ему служил Геркулес, способный в одиночку драться с тридцатью человеками. Но Вельзевулу угрожали враги, и капитан то побеждал их, то проигрывал, чтобы опять победить. Читать было интересно.
Клешков шмыгнул носом, поглядел на огарок – он коптил. На страницах лежал тусклый отблеск пламени, глаза побаливали. А именно сейчас он читал рассказ одного из спутников Вельзевула про его схватку с барсом. Зверь прыгнул на него, а спутник Вельзевула «выхватил свой длинный острый персидский кинжал и ударил снизу в брюхо хищника…»
Свеча догорала, сквозь стенку слышалось чмоканье и посапывание спящих детей и хозяйки. Клешков задумался: надо же, какие приключения переживали люди. Барсы на них кидались. Тысячи крыс осаждали их среди шхер. Враги подстерегали за углом… А тут…
Он дунул на огарок и, плотнее завернувшись в одеяло, прикрыл глаза. Надо завтра поговорить с Гуляевым насчет этой книги, а то ему скажешь что-нибудь вроде этого: «И с невероятной силой напружинив мышцы, Геркулес расшвырял нападавших, как котят», а он смеется. Плохие, мол, книжонки читаешь, Саня.
Что-то мешало спать, и Клешков приоткрыл глаза. Окно было странно багровым. Закат, что ли? Какой ночью закат? Что за черт? Он привстал, вылезать из-под одеяла не хотелось: ночи стояли холодные и в комнате было прохладно. Стекло накалялось алыми отблесками. Он спустил ноги на пол и, шлепая по холодным доскам, подошел к окну. Издалека сквозь сады, то вскидывался, то опадал багровый нимб. Потом вдруг ухнуло чуть слышно и высоко ударило злое пламя. Клешков, путаясь и матерясь, натянул галифе, на бегу прицепил пояс с револьвером, выскочил во двор и помчался вдоль забора. Горели полуэктовские склады. В них хранились собранные за этот месяц запасы хлеба. Последняя надежда городка.
Клешков бежал по спящим улочкам, мимо оград, над которыми буйно полыхало золотое многоцветье листьев и несло густым запахом яблок и груш, мимо пустырей, оставшихся после боев с деникинцами, мимо на отшибе стоящей часовни с выбитыми оконцами. Городок спал, но над ним глухо урчало могучее пламя, шел треск и гигантский огненный хвост метался и ширился над крышами.
«Жуть, – думал на бегу Клешков, судорожно вытирая лоб, – могут весь город сжечь!»
У полуэктовских лабазов на фоне огромного рычащего пламени дергались и бегали люди. Клешков увидел двух крутящихся друг перед другом всадников. На одном из них пламя вырыжило белую папаху и позолотило оружие, на другом багряно светилась черная кожа костюма и фуражки.
– Товарищ начальник, – отрапортовал он, подбегая к всаднику в кожаном, – оперуполномоченный Клешков явился…
Лошадь начальника затанцевала, оттеснила Клешкова крупом.
– Под трибунал! – кричал Иншаков своим тонким голосом, способным пробуравить даже такую толщу, как рев огня. – Бандиты, а не бойцы революции!
– Кто бандит? – грозно спрашивал комэск Сякин – это он был в белой кубанке. – Революционные бойцы, павшие при исполнении обязанностей? Это они бандиты?!
Клешков отступил от кричащего начальства и осмотрелся. Три огромных деревянных склада были в сплошном огне, хрипели и вздымались обугленные стропила. Два каменных лабаза горели ровным пламенем, однако даже огонь, рвущийся над их крышами, не мог произвести изменений в их грузной каменной присадистости. Внутри лабазов что-то рушилось и гудело, но стены стояли незыблемо.
Около складов метались одиночные фигурки в шинелях и всадники.
Подлетел шарабан, и с него соскочила небольшая плотная фигурка в нахлобученной на лобастую голову кепке. Сейчас же побежали от него какие-то люди, быстро организовали цепь, а всадники куда-то умчались. Несколько человек вывезли на площадь перед лабазом огромную старую пожарную бочку, потянули брезентовые рукава.
Клешков побежал было к Бубничу, но тот сам уже шел в его сторону, и Клешков остановился в ожидании приказаний. Бубнич подошел и осадил коня Сякина, грудью толкавшего лошадь начальника Иншакова.
– Кто виноват – трибунал выяснит, – сказал он резко. – Сякин, быстро всех своих за водой! Пусть волокут ее, кто в чем может. Надо поставить конных цепью от реки.
Сякин немедленно умчался.
– Иншаков, – приказывал Бубнич, – оцепи пожар. Не подпускай посторонних.
– Клешков! – закричал, удерживая лошадь Иншаков. – Видел лабаз. Вон тот. Негорящий… Стань на часах, и чтоб ни одной души!
– Есть, – кивнул Клешков.
Он пробежал мимо крайнего горящего склада, увидел, как кричит на кого-то Гуляев, выскочил за ограду лабазов и тут увидел толпу спешенных сякинских кавалеристов, держащих коней за повод, и перед ними темные, лежащие на земле, тела. Конники обнажили головы.
«Со своими прощаются, – понял Клешков, – склады охраняли сякинские ребята…»
К стоящему отдельно лабазу летели головешки, догорая в бурьяне. На двери был сбит замок. Клешков откинул засов, открыл дверь. Внутри лабаза было хоть шаром покати. Сквозь выбитые окошки врывался сюда неровный свет и тогда в пустых углах вспыхивала рыжим паутина.
Клешков вышел наружу. «Чего тут охранять?» – подумал он. Около складов за цепью милиции и караульной роты уже скапливалась толпа. На огонь направили брандспойты. По цепи непрерывно передавали ведра с водой. Смельчаки уже орудовали баграми, пытаясь растащить стропила. Но огонь не убывал. По жестам метавшегося в свете пламени Бубнича было видно, как он объединяет людей на борьбу за лабазы. Деревянные склады он, видно, считал потерянными.
«Чего я тут торчу! – с унылой злобой думал Клешков. – Тоже, мне, выбрал Иншаков местечко…»
Он заметил, что и тут, у лабаза, начинает собираться народ, и крикнул:
– А ну, двадцать шагов назад! – А когда толпа зароптала, вынул наган. – Ат-ставить разговорчики!
Он пошел на толпу, и она отступила. Подскакал Иншаков.
– Как дела, Клешков?
– Охраняю, товарищ начальник.
– Не подпускать никого без приказу!
– Есть!
– Гляди, черт тебя дери! Единственное, что не сгорело, стережешь!
Клешков хотел было сообщить своему грозному начальнику, что тут потому и не горит, что гореть нечему, но Иншаков уже несся к складам.
Бородачи в чуйках – длинных суконных кафтанах – и картузах гомонили перед Клешковым, сзади плясал огонь, странно выхватывая в толпе лица, а он стоял со своим «наганом» и держал здесь свой фронт.
Среди толпящихся перед складом людей он вдруг увидел приземистую фигуру в картузе, которая мелькала то в одной стороне, то в другой, Клешков насторожился.
Горящие склады бомбардировали толпу головнями. Одна упала прямо под ноги Клешкову, и тот сапогом загнал ее в близкие лопухи. Толпа впереди странно заволновалась, он оглядел и охнул. Приземистый мужик в кожушке и картузе, держа тлеющую головню, заворачивал за угол.
Клешков решил было кинуться вдогонку, но услышал гомон и обернулся.
– Назад! – закричал он, увидя сплоченно напирающие чуйки. – Назад, ну! – и трижды выстрелил над их головами.
Толпа попятилась. Он шагнул вперед и увидел, как сбоку опять метнулся в сторону человек в кожушке и картузе. Клешков повернул голову – из разбитых окошек лабаза потянулся дымок. Он кинулся было к двери, но толпа опять загалдела и он остановился: все равно в лабазе ничего нет.
Клешков стоял, высвеченный пламенем, высокий, худой, в своем штатском пальто и кепке, перед шумящей толпой и она не решалась смять этого готового на все парня с наганом в руке.
У лабазов люди одолевали огонь. В движениях тех, кто тушил, уже чувствовался единый ритм, ведра точно переходили из рук в руки, из брезентовых рукавов хлестали струи, несколько человек подбирались к самым стропилам, спасая крышу, раскидывая в стороны горящие балки.
Толпа перед Клешковым снова заволновалась.
– Комиссары, – гудел огромный бородач, – они доведут! Один амбаришко приберегли и то загорелся.
Клешков оглянулся. Лабаз, порученный его наблюдению, пылал.
Он повернулся к толпе, выставил вперед рук с наганом. Толпа подалась, выкрикивавший брань великан исчез за чужими спинами. Клешков выматерился, и тут же перед ним заплясал конь Иншакова.
– Прошляпил, раззява?! – Иншаков замахнулся плетью, Клешков отскочил. – Под трибунал! – кричал, наезжая на него конем, Иншаков. – Под трибунал пойдешь, зараза.
У Клешкова от обиды и злости свело скулы.
Гуляев высунулся из окна. Не веря своим глазам, смотрел вниз, во двор: по выгоревшей траве по направлению к каменному сараю, где держали арестованных, брел в распоясанной косоворотке, обритый наголо человек, странно похожий на Клешкова. За ним, старательно вынося штык, вышагивал парнишка-конвоир.
– Саня! – крикнул Гуляев, все еще не веря.
Спина узника дрогнула, он на ходу оглянулся, махнул Гуляеву рукой и побрел дальше.
Клешков! За что?!
Первой мыслью было – выручить. Бежать к Иншакову, к Бубничу…
Скрипнула дверь. Гуляев обернулся. Вошел спокойно сел за его стол Иншаков.
– Товарищ начальник, – шагнул к нему Гуляев, – я сейчас…
– И я сейчас! – перебил Иншаков и замолчал. Одутловатое лицо его будто враз постарело – под глазами трещинки морщинок, даже короткий задорный нос не веселил.
– Вот что, Гуляй, – сказал Иншаков после недолгого молчания, – как там у тебя с ограблением кооперации?
– Пока ничего конкретного.
– Бросай. Не до нее. Берись за склады. Там, правда, Бубнич сидит, но он просит прибавить от милиции кого-нибудь.
– А с кооперацией?
– Отложим. Тут, понимаешь, какое дело? Вдарили нас под самый поддых. Ловко сработали, гады. Склады-то полуэктовские – последнее наше добро. И то, почитай, не наше. Отослать мы этот хлебушек должны были. Да Харьков до лучшей поры разрешил самим пользоваться. Теперь выхода нет: будем реквизировать у буржуев. А тех мы недавно и так трясли. Теперь ежели не вытянем у них крупно продуктов, рабочий нам такого не простит. – Он помолчал. – Дела мутные… Да тут еще Сякин с его эскадронцами. Лучше бы его напрочь не было, понимаешь?! – закончил Иншаков с ожесточением.
– Товарищ начальник, – сказал Гуляев, – я займусь полуэктовскими лабазами. Только можно ведь туда Клешкова бросить! Я бы тогда кооперацию довел до конца.
– Про Клешкова забудь, – вставая, отчеканил начальник. – Клешковым трибунал занялся.
– За что? – изумленно спросил Гуляев.
– За дело, – бросил Иншаков. – А твое дело – сторона.
Гуляев вошел в обгорелый лабаз, где в углу за досчатым столом сидел на деревянной скамье Бубнич. Неподалеку от них отлого поднималась гора зерна. От нее шел запах гнильцы и духоты.
Бубнич невидяще посмотрел на Гуляева и снова уставился перед собой. Лобастое крючконосое лицо уполномоченного ЧК было угрюмо.
– Иншаков прислал? – спросил он своим скрипучим голосом.
– Иншаков.
– Садись. – Бубнич подвинулся на скамье. – Видел убитых?
Гуляев кивнул.
– Что об этом думаешь?
– Похоже, взяли их всех вместе.
– Думаешь, ребята были в будке?
– Похоже на это.
– Сякинские хлопцы, конечно, подраспустились. Но вояки они опытные, сплошь из госпиталей… Что-то не верится, чтобы они могли бросить посты и так запросто отправиться отдыхать.
– Тогда бы их не взяли, как кур. Семь человек! Едва ли нападающих было больше. И ни выстрела, ни крика…
– Соседи говорят, что вскрики они слышали. – Это уже, когда их рубили.
– По всему видно: работал батька Хрен. Но вот, как он провел свою сволочь сквозь патрули, как разузнал, что, где и как – вот вопрос…
– В городе, видимо, действует подпольная организация, – сказал Гуляев. – И ограбление складов потребкооперации тоже не просто грабеж. Опять все искусно, профессионально.
– Да, – сказал Бубнич, – подпольщина – это сейчас главная забота. Мы тут кое-какие меры приняли… Но что делать с поджигателями? Обратились на маслозавод, к ребятам с мельницы, в ячейки, просили сообщать любые слухи, которые дойдут до них об этом факте. На счету каждый человек.
– Товарищ уполномоченный, – воспользовался поводом Гуляев и прямо взглянул в суженные жесткие глаза Бубнича, – людей так мало, а они за пустяк трибуналом расплачиваются.
– Ты это о чем? – спросил Бубнич.
– Я про Саньку Клешкова. Сгорел там один амбар, а он его охранял… Ну вы же видели, какая обстановка была. Обыватель набежал. Тут можно было не уследить.
– В революции, товарищ, надо уметь за всем уследить, – резко ответил Бубнич. – А тот, кто не дюж, пусть за этот гуж не берется.
Гуляев опустил голову. Конечно, Санька был виноват. Но это же Санька!
– Санька, товарищ Бубнич, – сказал он медленно, – никогда своей жизни не щадил. За революцию! Если мы таких парней шлепать будем, тогда уж не знаю.
– Ладно, – сказал Бубнич, внезапно улыбнувшись, – товарища любишь – это правильно. Ты за Клешкова не беспокойся, все будет по справедливости… А задание тебе такое. Придумай что-нибудь сам, любым способом проникни к сякинцам, повертись там, – он встал и прошел к двери лабаза, – послушай, что они обо всем говорят. – Он выглянул в дверь и повернулся к Гуляеву. – А ну, лезь в зерно. Затаись!
Гуляев, зачерпывая в краги зерно, проваливаясь по пояс, влез на самую вершину груды и лег там в тени. Ему был виден края лабаза, где стоял стол Бубнича. Уполномоченный ЧК сидел за столом и что-то писал.
С грохотом отлетела дверь. Вошел и встал в проеме рослый человек в папахе. Он стоял спиной к свету и Гуляев не видел его лица. Потом человек двинулся к Бубничу и в тусклом свете из окон стал виден весь: в офицерской бекеше, перекрещенной ремнями, в белой папахе, в красных галифе и сапогах бутылками. Шашка билась и вызвякивала, кобура маузера хлопала по бедру, зябкий осенний свет плавился на смуглом лице с мулатским придавленным носом и белесым чубом на лбу.
– Ша, – сказал человек, останавливаясь перед Бубничем, – ша, комиссар! Увожу своих ребят резать бандитву в поле! Они мне втрое заплатят.
Бубнич ждал, пока оборвется этот низковатый хриплый голос, потом взглянул в окошко.
– Садись, – сказал он, и Сякин, оглядевшись, сел прямо на зерно. – Комэск красной рабочей и крестьянской армии, товарищ Сякин, – сказал Бубнич, – на что ты жалуешься?
Сякин вскочил и плетью, зажатой в руке, ударил себя по колену.
– А ты не знаешь, на шо жалоблюсь? Семерых ребят моих срубали, а ты спрашиваешь!
– Ты, Сякин, из Сибири?
– Кубанский, – сказал Сякин, – ты мне шнифты паром не забивай, комиссар. Говори: будет такой приказ идти на банду, иль мы сами махнем.
– Комэск, товарищ Сякин, – сказал Бубнич, – ребят твоих срубали, потому что в твоем эскадроне нет никакой дисциплины, потому что ты с бойцами запанибрата и ищешь дешевого авторитета. Они ж не охрану несли, товарищ комэск, они ж пили в будке, их там и накрыли.
– Кто? – крикнул Сякин. – Покажи, кто! По жилке раздерем!
– Это ты должен был знать – кто, – встал Бубнич. – И учти, Сякин, момент тяжелый. В уезде плохо, в городе народ волнуется, потому что ты – понял? – ты не уберег складов, где было все наше продовольствие. Мы еще продолжим этот разговор на исполкоме.
– А! – махнул рукой Сякин, поворачиваясь к выходу. – Продолжай хучь у самого господа бога, которого нонче отменили. Я тебе, комиссар, говорю так: либо выступаем, ни грамма не медля, банду резать, либо я вам не товарищ! Все!
Четко прозвенев шпорами, он вышел и грохнул дверью.
Гуляев спустился вниз.
– Вот какова обстановка, – сказал, подрагивая желваками, Бубнич, – вот наша опора. Эскадрон единственная реальная военная сила в уезде. А какова она – эта сила? Почти те же бандиты.
– Его надо арестовать, – сказал Гуляев, – то бузу разведет.
– Это для дураков, – скачал Бубнич. – Арестуй его – эскадрон весь уйдет к Хрену. С ними надо ладить. Пока ладить. Этот анархиствующий казачок, кстати, на фронте был на месте. Не обратил внимание на его оружие? Почетное. Врага рубал без жалости… Нет, к Сякину нужен подход. И что делается в эскадроне, надо знать. Это тебе задание на сегодня. А завтра с утра найдешь меня здесь же, доложишь… И грабителей мы будем искать по-иному… Пока.
Прежде всего надо было переодеться. Cepое в талию пальто и краги – вытертые до рыжинки – все же сильно примелькались в городке. Гуляев почти бегом пустился к Полуэктовым Открыл своим ключом дверь веранды, чувствуя молодую легкость в ногах, одним махом взлетел по лестнице и остановился. Дверь его комнаты была открыта. Он неслышно ступил туда и легкая тень метнулась к окну. Он безотчетно выхватил из кардана наган, шепнул:
– Стой!
Тень остановилась. Теперь в проеме окна обозначился женский силуэт с высокой талией и округленными бедрами. Гуляев сунул в карман револьвер, хотел было спросить хозяйскую племянницу, что она делает тут, но вспомнил, что сам приглашал ее заходить к нему. Она стояла, замерев, с прижатыми к груди ладонями, и он насторожась, обшарил глазами комнату. Все было на месте. Женщина на картине по-прежнему бежала куда-то сквозь осенний рассвет. Только крышка сундука, стоящего под картиной была закрыта неплотно.
– Садитесь, пожалуйста, – он кивнул ей на единственный стул у окна. – Вы так легко одеты, а тут прохладно…
Она с трудом вздохнула, опустила руки, прошла и села.
– Испугалась, – сказала она, улыбаясь, – думала кто-то чужой.
Теперь свет падал на нее сбоку, выгодно оттеняя голову с тяжелой косой, фигуру в строгом черном платье, шаль, наброшенную на плечи.
– Мы с вами не знакомы по-настоящему, – сказал Гуляев, пристально оглядывая ее. – Меня зовут Владимир Дмитриевич, если хотите, просто Володя. А вас?
– Нина Александровна, – сказала она, привставая, с полупоклоном.
«Что здесь она делала?» – подумал он и спросил:
– Скажите, чья эта картина?
– Кто художник? – она повернулась на стуле и посмотрела на картину. – Не знаю. Вернее не знаю имени… Какой-то сибиряк…
– А кто владелец? – спросил Гуляев, наблюдая за ней. Она только делала вид, что спокойна, а сама очень волновалась.
– Владелец? – она усмехнулась. – Купила я, по случаю. Еще когда училась в Москве на курсах. А вам она нравится?
Он, чувствуя ее напряжение и не забывая о том, что в комнате до его прихода происходило что-то непонятное, искал повод выпроводить эту племянницу вниз – необходимо было установить, чем она здесь занималась.
– Что вы спросили? – он прошелся по комнате.
– Я спросила: вам очень нравится эта вещица? – голос ее набирал силу.
– Очень, – сказал он. – Я неплохо знаю школы живописи. Но этот автор – что-то совсем свежее, совсем особое.
– Да, я когда-то очень любила эту картину, – сказала она и села поудобнее. – Простите, – она взглянула на него чуть кокетливо и даже с вызовом. – Я не ожидала, что красный Пинкертон может оказаться столь образованным человеком.
– Вы многого еще не знаете.
«Как ее выгнать отсюда хоть на минуту?» – думал он.
– Простите, что я так вольничаю, – сказала она, – но думаю: не выпить ли нам по случаю внезапного знакомства чаю?
– Извините, – сказал Гуляев сухо, – я ведь забежал по делам, должен переодеться, кое-что взять. Но если вы подождете минут десять, я согрею чай.
Некоторое время она сидела молча, покачивая носком ботинка, торчащим из-под платья, потом на лицо ее упала дымка безнадежности.
– Нет, – сказала она, вставая, – я заварю чай сама. И не ваш, кирпичный, а китайский. У буржуа он есть еще, – слабо усмехнулась она. – Будем пить его, если вы не передумали…
Он послушал, как топочут по расхлябанным доскам лестницы ее каблуки, – ему же удалось добраться сюда неуслышанным…
В шкафу, вделанном в стену, висела порыжелая шинель, стояли кирзовые сапоги и на голенище одного из них – папаха. Не из тех кавказских, франтовских, в которых щеголяли конники Сякина, а потрепанная солдатская, времен германской войны. После операции против банды Краскова лично Иншаков распорядился снабдить обоих – Гуляева и Клешкова – комплектом такой одежды. Теперь она пригодилась.
Быстро намотав портянки и натянув сапоги, которые немного жали, Гуляев прошелся по комнате к окну и оттуда, опасаясь, что снизу можно это услышать, на цыпочках прошел к сундуку. Крышка открылась без труда. Он заглянул внутрь и ахнул. Сундук был туго наполнен сахарными головками, какими-то банками, пачками развесного чая, под этим видны были длинные коробки. Он хотел было раскрыть одну из них, но женский голос сзади сказал:








