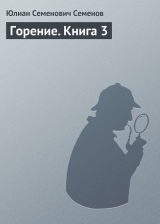
Текст книги "Горение. Книга 3"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
… На очередной доклад царю Столыпин пригласил генерала Герасимова; речь шла о поездке Николая на празднование двухсотлетия битвы под Полтавой; ясно, станет вопрос об организации надежной охраны.
– Государь может ехать куда угодно, – сказал Герасимов. – Я ему теперь не очень-то нужен… С ревельским эпизодом эпоха бомбистов окончена… Эсеры переживают сильнейший кризис, агентура сообщает, что после бегства Евгения Филипповича…
– Кого? – недоуменно переспросил Столыпин. – О ком вы?
– Об Азефе, Петр Аркадьевич. Неужели успели забыть? О том человеке, без помощи которого мы… вы бы не смогли успокоить Россию.
Едва заметная улыбка тронула чувственные губы премьера.
– «Мы», Александр Васильевич, «мы». Я чужую славу не забираю, своей готов поделиться, у нас ведь чем незаметнее, тем надежнее, как высунешься, сразу врагов наживешь, каждый третий Сальери, готов соседу глотку перегрызть, коли тот достиг успеха… Ну, продолжайте по поводу эсеров, государь интересуется судьбою сбежавших от кары бунтовщиков…
– Эсеры разваливаются, Петр Аркадьевич… Чернов короновал Савинкова главою боевки…
– Это боевая организация? – уточнил Столыпин. – БО?
– Именно так, – кивнул Герасимов. – «БО»… Так вот, после трагедии с Азефом именно Борис Савинков был делегирован главою террора, получил деньги, да и укатил в Биариц, а потом, через всю Францию, в Монте-Карло… Играл… В рулетку… Мои филеры его всюду сопровождали… Сначала выигрывал, что-то около семи тысяч взял… Ну, казалось бы, слава богу, успокойся… Так нет же, начал рисковать…
Столыпин задумчиво посмотрел на Герасимова:
– А может, так и надо? Ведь кто не рискует, тот не выигрывает…
Герасимов резко обернулся к премьеру; лицо Столыпина замерло; а ведь он жаждет, . чтобы террор продолжался; но я не могу этого сделать, потому что из-за его нерешительности с Лопухиным провалился Азеф; если теперь что-нибудь случится, мне не за кого спрятаться, эх, намекнул бы только Петр Аркадьевич в Ревеле – в два момента все было бы исполнено: государственный переворот, конституционная монархия, Милюков главный союзник, а у него все европейское общественное мнение в кармане; Англия с Францией покрепче Вильгельма, обойдемся без немчуры…
– Я перебил вас, Александр Васильевич, простите, продолжайте, пожалуйста, крайне интересно…
– Так вот, Савинков не успокоился, деньги, отпущенные ему ЦК на террор, просадил в Монте-Карло… Между прочим, выдержки этому господину не занимать, ни единым мускулом не дрогнул, даже посмеялся над собою, снял гвоздичку со своего лацкана и протянул соседке по игре… Сейчас сидит пишет в своем номере; подготовил цикл стихов и марает роман, должен называться «Конь-блед», занимательная полицейская хроника с психологическим надрывом…
– Ну, а как анархисты?
– Это каша, Петр Аркадьевич… Они ходят подо мною… Там чуть не каждый десятый заагентурен… Нет, это нельзя назвать силой, – размазня, хоть кричат громче других… И специалистов у них нет, и дисциплину отвергают, а террор без железной дисциплины не поставишь… Там легко: стоит только агентуре шепнуть, чтоб начали бучу против руководителя акта, – они вой поднимут, извозят в грязи, ногами затопчут, все грехи – те, что были и каких не было, – вставят в строку… Другое дело – социал-демократы…
– Государь считает их говорунами…
– Эсеры, как ни странно, отзываются о них так же…
Столыпин усмехнулся:
– Любопытное совпадение взглядов… На современном этапе вы считаете именно их единственно действенной силой?
– Там сейчас тоже раскол… Ликвидаторы, отзовисты, богоискатели… Если победит концепция Ульянова – тогда грядут трудные времена… Если же возобладает точка зрения Плеханова, можно ждать постепенного сближения социал-демократии с трудовиками и левыми кадетами, это не страшно, все в рамках закона, так сказать, оппозиция его величества…
Столыпин горестно заметил:
– Беда в том, Александр Васильевич, что государь и такой, вполне ему послушной, оппозиции не хочет. Он желает, чтобы в империи царствовало абсолютное единомыслие по всем вопросам…
Когда Столыпин вошел в кабинет царя, мягко притворив за собою дверь, генерал Дедюлин, взяв Герасимова под руку, повел в парк; ясно, для важного разговора; самые сложные беседы Дедюлин отчего-то вел на прогулке, будто опасаясь, что во дворце кто-то мог его подслушать; боже ты мой, даже дворцовый комендант чего-то боится; ему-то чего?! Кого?! Ведь самый близкий к царю человек, нет никого ближе!
– Александр Васильевич, вопрос, который мне хочется с вами обсудить, – начал Дедюлин, – носит деликатный характер. Я прошу вас клятвенно мне пообещать, что все это останется между нами в глубочайшей, совершенной и никому, подчеркиваю – никому не разглашаемой тайне.
– Обещаю и клянусь. Готов подняться к вам и забожиться на икону.
– Мне достаточно вашего слова… Начну с вопроса: среди эсеров-бомбистов имя Григория Распутина вам не попадалось?
– Видимо, вы дезинформированы… Мы казнили не Распутина, а Распутину… Старую террористку… Ее повесили в прошлом году…
– Господи, свят, свят! А она не из Сибири?
– Совершенно верно… Именно оттуда она совершила свой первый побег… Да я ж вам про нее рассказывал! Помните, мы ее во храме Казанской божьей матери обнаружили?! Во время молитвы?! Там и слежку за нею поставили…
– По батюшке она не Ефимовна, случаем? Откуда родом?
– Из Петербурга. Потомственная дворянка, помещица…
– Так вы ж сказали, что она из Сибири?
– Она бежала оттуда, в каторге была.
– Вы бы не могли выяснить, не являлась ли указанная вами Распутина в каком-либо, хоть и самом дальнем, родстве с неким «старцем» Распутиным, Григорием Ефимовичем? Хотя по паспорту он крестьянин, а никак не дворянин, и не стар, нет еще сорока, но меня одолело сомнение: а вдруг этот самый Гришка бомбист какой?! Особо законспирированный?!
– Почему вы заинтересовались им? – удивился Герасимов. – Где он появился? Когда? По какому поводу?
Дедюлин чуть не крякнул, огляделся по сторонам, приблизился к Герасимову еще теснее и тихо, одними губами (они у него были какие-то шлепающие, постоянно пересохшие, оттого что баловался государевой мадеркой – с обеда и до позднего вечера) произнес:
– Несколько дней назад Анька пригласила ее величество к себе домой, а там сидел этот проходимец…
– Какая «Анька»? – спросил Герасимов; эта манера постоянно что-то недоговаривать, намекать, таить вконец его измотала, особенно за последние месяцы. – Простите, мне такая кличка неизвестна…
– Ну конечно, что ж это я, понятно, неизвестна, – мелко рассмеялся Дедюлин, – только это не кличка, это Анна Танеева, фрейлина государыни… Мужик этот, Распутин, сказывают, лечит болезни и предсказывает будущее; морда воровская, волосы мазаны салом, расчесан на прямой пробор, чисто конюх, право, ходит в смазных сапогах и поддевке… Я на него глянул и ужаснулся: чистый вор, беглый каторжник, душегуб… Попытались мы со Спиридовичем навести об нем справки, – глухо… Вы нам самый близкий человек в столице, заслуги ваши в борьбе с бомбистами отмечены его величеством, помогите, Александр Васильевич! На вас вся надежда…
– Почту за честь… Сколько помню, у меня по эсерам Распутин Григорий Ефимович не проходил… Хотя вполне может быть, что он связан с местными организациями… Я сделаю запрос в Сибирь сегодня же…
– Ну, спасибо, Александр Васильевич, спасибо, мой друг, никогда не забуду вам этой услуги…
– А как он показался ее величеству, этот самый «старец»?
Дедюлин снова крякнул и, озираясь, шепнул:
– В том-то и ужас, что понравился…
Из агентурных донесений, поступавших Герасимову с первых дней прихода в охранку, он знал, что государь еще с ранней юности был подвержен настроениям, верил в потусторонние силы, тайком посещал сеансы спиритуалистов, не исповедуясь об этом духовнику.
Когда он встретился с принцессой Гессенской, зарубежная агентура охранки сообщала, что немка слушала курс наук в Оксфорде, знакома с новейшими теориями в физике и химии, увлекалась философией, вполне просвещенная особа; доверенные информаторы из окружения царя сообщали, что это успокоило вдовствующую императрицу, которая решила, что сын – под влиянием широко, по-европейски образованной женщины – отойдет от тех ясновидцев, медиумов, предсказателей, которые с начала века наводнили августейшие салоны. Все, однако, случилось наоборот: не государыня переменила настроения Николая, а именно он привадил ее к своим безумным мистикам, не принимая без их совета ни одного сколько-нибудь серьезного решения в государственных делах.
Царь и царица – особенно с началом русско-японской войны – проводили почти все время у «черногорок», дочерей великого князя Черногорского Анастасии и Милицы. Юродивых находили в российской глубинке, внимали им затаенно, мерцая доверчивыми глазами; медиумов поставляла в Петербург их сестра, королева итальянская Елена, страдавшая замужем за ветреным Виктором-Эммануилом Третьим, и Анна, принцесса Батенбергская. «Черногорок» постоянно навещал в ту пору и великий князь Николай Николаевич; о его романе с Анастасией знали все, кроме ее мужа, герцога Георга Дейхтенбергского, князя Романовского; Милица вышла замуж за великого князя Петра Николаевича. Внук Николая Первого, дядя царствующего монарха, поначалу был кавалеристом, лихой наездник, лозу рубил сплеча; в начале войны юродивые присоветовали поставить его генеральным инспектором по инженерной части; все предложения ученых и промышленников во главе с Путиловым выносил на суд гадателей и ясновидцев; что те говорили, то и выполнял безукоснительно; именно его ведомство, по его, понятно, указанию, заблокировало работу инженера Матросова, – тормозная система оказалась запущенной в серию американцами; изобретение Попова, предложившего беспроволочный телеграф, то есть передачу голоса на расстояние, обозвали в салоне Милицы «бредом, антихристовой затеей»; да только ли этих двух загубили?!
Подняв данные агентуры, работавшей в сферах, Герасимов без труда выяснил, что Распутин подошел к царскому дому именно через «черногорок», они его свели с Анной Танеевой; пронесся слушок, что фрейлина с ним встречалась в вечерние часы, однако проверить досконально не удалось; сейчас эта версия в работе, агенты слушают, какие звуки доносятся из ее дома, когда там останавливается Распутин.
… Столыпин вышел от государя бледный чуть не до синевы, простился с Дедюлиным сдержанным кивком; тот – к немалому изумлению Герасимова – ответил еще более сухо.
В экипаже Столыпин сумрачно молчал, только желваки ходили яблочками-дичками под сухой кожей на скулах; потом положил холодные пальцы на колено генерала (даже сквозь галифе Герасимов ощутил их ледяной холод) и с тихой яростью заметил:
– Понятие человеческой благодарности, столь угодное обществу, совершенно у нас отсутствует…
– Что случилось, Петр Аркадьевич?
– Еще случится, – жестко усмехнулся Столыпин. – Пока еще ничего особенно страшного не произошло… Но произойдет… Я ведь с чего доклад начал? С того, что его величеству не нужна дополнительная охрана во время поездки в Полтаву, Герасимов убежден, что опасности для августейшей семьи в настоящее время нет, ситуация подконтрольна, страна успокоена, революцию можно считать законченной… А государь мне на это знаете что ответил? Он пожал плечами, снисходительно улыбнулся и отчеканил: «Какая еще революция?! Были мужицкие смуты. Темную толпу подталкивали к беспорядкам чужеродные элементы, такое и раньше случалось… Разве это революция? Так, шум… Да и шум этот можно было бы погасить, коли б у власти в правительстве стояли люди, готовые принимать решительные меры незамедлительно и бесстрашно… Было б у меня побольше таких героев, как Думбадзе, так и шуму б никакому не дали произойти в державе… » Каково, а?!
(Иван Антонович Думбадзе, генерал-майор свиты его императорского величества, был назначен начальником гарнизона Ялты; свою деятельность начал с того, что закрыл въезд на Южный берег Крыма для студентов, евреев и чахоточных; не пускал сюда и тех, кто когда-либо привлекался к дознанию по политическим преступлениям.
Как-то вечером, совершая ежедневный объезд города, особенно той его части, что прилегала к Ливадии, услышал выстрел; охрана бросилась на него, сбив с сиденья на пол пролетки; разъярившись, Думбадзе охранников раскидал, повелел вызвать полицию и привезти пушку; когда прибыли наряды, приказал из того дома, откуда вроде бы стреляли, выгнать всех жильцов на улицу, заарестовать, отправить в подвал и подвергнуть самому крутому допросу на предмет немедленного обнаружения бомбиста; дом приказал разрушить из пушки – прямой наводкой, что и было сделано… Даже Гучков был шокирован такого рода варварским беззаконием, однако «Русское знамя» Дубровина и Пуришкевича поместило восторженные редакционные статьи: «Думбадзе – гордость христианского духа! Око за око, зуб за зуб! Только так и можно поступать с бомбистами, они понимают язык силы, апеллировать к их чувствам или разуму бесполезно! Не перевелись еще рыцари в нашей державе! Если мало виселицы, пусть будет артиллерия! Побеждает тот, кто исполнен решимости победить!»)
Столыпин нервно поежился, как-то жалостливо сунулся в самый угол экипажа, снова вздохнул:
– Сколь же быстро государь забыл о том, каково мне было спасти его, что надо было предпринять, дабы вывести страну из кризиса… Ничего он не помнит… Страшно это, Александр Васильевич… Нет ничего ужаснее легкомысленного беспамятства… Словом, царь разрешил вам долгосрочный отпуск… Я сказал ему, как вы устали, передал, что опасности для него более нет, может ездить куда душе угодно, полагал, что он обсудит со мною вопрос о вашем внеочередном награждении за особые заслуги… А он соизволил заметить, что, если Герасимов нуждается в долгосрочном отпуске, пусть сдает дела по охранному отделению и отправляется на лечение…
– Это что ж, отставка? – поинтересовался Герасимов, не поворачивая голову. – Отслужил – и на свалку?
– Передайте дела временно исполняющему обязанности… Понятно? Временно… И отправляйтесь отдыхать… Когда вернетесь, я возьму вас своим товарищем по министерству внутренних дел и главноначальствующим политической полицией империи…
– Не позволят, Петр Аркадьевич.
Столыпин пожал плечами, ответил с незнакомым Герасимову равнодушием:
– Что ж, коли так, я тоже уйду в отставку. В этом государстве без прикрытой надежным человеком спины работать, как оказалось, нельзя. Думаете, я не устал? Не менее вашего, Александр Васильевич, отнюдь не менее…
– Кому прикажете сдать дела?
– Я не хочу, чтобы вы сдавали дела… Я хочу, чтобы вы толком отдохнули и осмотрелись… Подберите на свое место бесцветную личность… Кого-нибудь из провинции, – он вдруг усмехнулся, – вроде меня… Пока-то пообвыкнет, покато поймет суть происходящего, а там и вы вернетесь… Посидите месяц, да и переберетесь ко мне, в министерство.
Герасимов тоже улыбнулся; это уже заговор; ранее премьер так никогда не открывался.
– Есть такой человек, Петр Аркадьевич… Полковник Карпов. Солдафон с амбициями… Он, исполняя мои обязанности, наворотит… Контраст – вещь полезная, пусть… Только просил бы вас сначала позволить мне закончить дело, о котором я только что имел беседу с Дедюлиным…
– Что за дело?
– Достаточно любопытное. Божился Дедюлину, что буду молчать… Появился некий «старец» Григорий Ефимович Распутин… Вышел на государыню… Это перспективно. Для вас… И, если позволите присовокупить, меня…
– Говорили б сразу – «для нас», – откликнулся Столыпин, закрыв глаза (чистый татарчонок, подумал Герасимов, чем не Борис Годунов? ).
– Кто такой этот Распутин? Не родственник ли той бомбистки, что вам отдал Азеф?
– Это и меня интересует, Петр Аркадьевич… Доложу, как только придут сведения…
Сведения пришли через две недели; ознакомившись с ними, Герасимов почувствовал, как волосы его становятся дыбом.
Распутин Григорий Ефимович конечно же никакого отношения к эсерке Распутиной не имел, дороги их не пересекались даже случайно, хотя он и числился в розыскных списках департамента полиции – но не по политическим делам: разврат и вовлечение в хлыстовский блуд женщин и незамужних девок, воровство, пьяные дебоши и конокрадство. Из-под суда Распутин бежал, скрылся, отлеживался где-то более полутора лет, потом неожиданно появился в салоне Милицы; августейшая подруга ее императорского величества привезла «старца» к фрейлине Анне Танеевой-Вырубовой, а та устроила встречу «святого человека» с государыней; встречались теперь каждую неделю; потом с Распутиным увиделся царь; пророчествам внимал с широко открытыми, остановившимися глазами; затем Распутин показал, как можно поднимать наследника, если тот занедужит: положил мальчику на темечко ладонь, затрясся, губу закусил, замер; сынок сразу же почувствовал облегчение, поднялся с кроватки и пустился бегать по зале; государыня вытирала быстрые слезы, струившиеся из ее широко посаженных, очень холодных, но сейчас фанатично сияющих глаз…
Когда Герасимов доложил об этом Столыпину, тот сразу же отправился в Царское, резко заметив, что жизнь августейшего дома обязана быть прозрачной; гибель морального авторитета самодержца означает гибель России.
Герасимов пытался остановить его: «Погодите, Петр Аркадьевич, не надо торопиться, дайте я к нему пригляжусь, он может нам быть полезен, коли царь нам достался хлипкий». Столыпин резко оборвал его; подчинился; потом казнил себя за нерешительность: страх убивает слова и дробит мысль, будь мы все неладны…
Во время этого поворотного доклада государю Столыпин, ощущая понятную неловкость, спросил:
– Ваше величество, вам известен Григорий Распутин?
– А в чем дело? – царь надменно поднял голову, хотя в глазах его Столыпин заметил если и не страх, то, во всяком случае, растерянность.
– Мне бы хотелось выслушать ваш ответ. Тогда я объясню, отчего решился поставить такой вопрос, ваше величество.
– Кажется, ее величество как-то говорила мне об этом человеке… Самородок, странник, знающий все святые места державы, прекрасно толкует Библию, своего рода святой…
– Вы его видели?
– Вы считаете возможным задавать мне такой вопрос?
– Именно так, ваше величество.
– В таком случае извольте объяснить, какими мотивами вы руководствуетесь…
– Я непременно отвечу вам, но сначала я обязан – во имя вашего же блага – получить ответ, ваше величество.
– Извольте… Я его никогда не видел.
– Ваше величество, речь идет о чести вашей семьи, а может быть, и о самом ее существовании…
– Повторяю, я с ним не встречался, – глаза государя, обычно неподвижные, какие-то стоячие, быстро метнулись к спасительному окну.
– Но Герасимов доложил иное… Распутин был у вас. Дважды.
Царь резко, словно от удара, откинулся на спинку кресла, потом поднялся и, походив по громадному кабинету, остановился возле камина:
– Ну, разве что Герасимов вам обо мне докладывает… Он следит за мной, да? По чьему повелению? Я за собою слежку пока еще не приказывал наряжать…
– Он следит за Распутиным, ваше величество. С моей санкции. Распутина уже полтора года ищет полиция, его тюрьма ждет…
– То есть как это? – царь с нескрываемым ужасом посмотрел на премьера молящими глазами. – Он бомбист?!
– Беглый вор, ваше величество. И безнравственный хлыстовец, опоганил всех женщин и девушек в своей округе… Это не сплетни, а показания потерпевших и свидетелей… Если хотите, я передам вам его дело…
– Ах, увольте, пожалуйста, от этой грязи, – царь даже руки перед собою выбросил. – Я не желаю, чтобы меня погружали в мерзость!
– Но я умоляю вас прекратить с ним встречи, ваше величество! Повторяю, речь идет не только о чести августейшей семьи, но и о ее физическом существовании… Те полтора года, что Распутин скрывался от суда, он вполне мог быть завербован бомбистами – и сейчас только ждет часа, дабы привести в исполнение свой злодейский план…
– Хорошо, хорошо, я не буду с ним более встречаться… Хотя, право же, неужели я не имею права на личную жизнь?
– Вы монарх, – чеканяще произнес Столыпин. – Ваша личная жизнь – это благосостояние подданных.
Столыпин поднялся, потому что стало ясно, что дальнейшего разговора не получится, царь затаил злобу; мягкотелые таят ее долго и забыть никогда не забывают.
Через три дня агентура сообщила, что поздно вечером августейшая семья снова пришла к Анне Танеевой-Вырубовой, когда туда привезли Распутина; Герасимов сразу же позвонил Столыпину:
– Петр Аркадьевич, я написал проект приказа об административной высылке Распутина в Сибирь, на родину. Вы, как министр внутренних дел, имеете право провести это без суда, я это решу сегодняшней же ночью.
– А что случилось?
– Распутин снова у Вырубовой; там же государь с государыней.
– Господи, да не может того быть!
– Может, Петр Аркадьевич, может… Либо вы должны подписать этот приказ, либо разрешите мне лично повстречаться с ним и, говоря нашим языком, завербовать.
– Не смейте об этом и думать! – Столыпин даже ладошкой прихлопнул по столу, не отрывая глаз от телефонной трубки. – Слышите?! Ни в коем случае! Он же об этом скажет государыне! Разве можно?
Через час, подвинув к себе бумагу с текстом приказа о высылке «старца», он прочитал ее дважды, хотел было внести какую-то правку, но не стал; подписал размашисто, с яростью…
Вернувшись, Герасимов вызвал агентов и приказал им арестовать Распутина; немедленно были выставлены посты на вокзале: «старец», однако, как в воду канул.
Министр юстиции, которому Столыпин сообщил о своем приказе, счел нужным оповестить об этом Вырубову; та сама отвезла Распутина во дворец великого князя Петра Николаевича, сдав на руки ее высочеству Милице Николаевне, «черногорке».
Когда об этом узнал Герасимов, ярости его не было предела; он установил круглосуточное наблюдение за дворцом, приказав филерам:
– Когда этот бес выйдет, хватайте его, невзирая на то что может получиться скандал.
Наблюдение за дворцом великого князя Герасимов держал месяц; Распутин не выходил.
Через полтора месяца из Сибири сообщили, что «Гришка» уже как две недели вернулся домой. Столыпин улыбнулся:
– Ну и слава богу, что обошлось без скандала. Оттуда он не решится выбраться, знает, что его здесь ждет… «Вот почему революция неминуема!» «… Пятый раз я встречаю в тюрьме новый год (1898, 1901, 1902, 1907); первый раз – одиннадцать лет тому назад. В тюрьме я созрел в муках одиночества, в муках тоски по миру и по жизни. И, несмотря на это, в душе никогда не зарождалось сомнение в правоте нашего дела. Здесь, в тюрьме, часто бывает тяжело, по временам даже страшно… И тем не менее если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы так, как начал. И не по долгу, не по обязанности. Это для меня – органическая необходимость… Тюрьма лишила меня очень многого: не только обычных условий жизни, без которых человек становится самым несчастным из несчастных, но и самой способности пользоваться этими условиями, лишила способности к плодотворному умственному труду… Столько лет тюрьмы, в большинстве случаев в одиночном заключении, Не могли пройти бесследно… Но когда я взвешиваю, что тюрьма у меня отняла и что она мне дала, я не проклинаю своей судьбы, так как знаю, что все это было нужно для того, чтобы разрушить другую, огромную тюрьму, которая находится за стенами этого ужасного павильона. Это не праздное умствование, не холодный расчет, а результат непреодолимого стремления к свободе, к полной жизни… Там теперь товарищи и друзья пьют за наше здоровье, а я здесь один в камере думаю о них: пусть живут, пусть куют оружие и будут достойны того дела, за которое ведется борьба. … Сегодня сообщили, что мое дело будет слушаться через четыре недели – 28 января 1909 года. Теперь уже каторги не миновать, и тогда придется здесь сидеть четыре-шесть лет. Брр… Это мне не очень улыбается. … С того времени, когда я в последний раз писал этот дневник, здесь было казнено пять человек. Вечером между четырьмя и шестью часами их перевели в камеру номер двадцать девять, под нами, и ночью между двенадцатью и часом повезли на казнь… … Заключенные возмущены Ватерлосом. Оказывается, это из-за его неосторожности арестован солдат Лобанов. Он переписывался с ним, не сжигал писем, и они были найдены в его камере во время обыска. Он сидит в камере номер пятьдесят, один и опять в кандалах. … Зимний, солнечный, тихий день. На прогулке чудесно, камера залита солнечным светом. А в душе узника творится ужасное: тихое, застывшее отчаяние. Осталось лишь воспоминание о радостях жизни, и оно-то постоянно терзает человека, как упрек совести. Недавно я разговорился с солдатом. Печальный, удрученный, он караулил нас. Я спросил его, что с ним. Он ответил, что дома нет хлеба, казаки в его деревне засекли розгами несколько мужчин и женщин, что там творятся ужасы. В другой раз он как-то сказал: „Мы здесь страдаем, а дома сидят голодные“. Вся Россия „сидит голодная“, во Всем государстве раздается свист розог. Стоны всей России проникают и сюда, за тюремные решетки, заглушая стоны тюрьмы. И эти оплеванные, избиваемые караулят нас, пряча глубоко в душе ужасную ненависть, и ведут на казнь тех, кто их же защищает. Каждый боится за себя и покорно тащит ярмо. И я чувствую, что теперь народ остался одиноким, что он, как земля, сожженная солнцем, теперь именно жаждет слов любви, которые объединили бы его и дали ему силы для действия. Найдутся ли те, которые пойдут к народу с этими словами? Где же отряды нашей молодежи, где те, которые до недавнего времени были в наших рядах? Все разбежались, каждый в погоне за обманчивым счастьем своего „я“, коверкая свою душу и втискивая ее в тесные и подчас отвратительные рамки. Слышат ли они голос народа? Пусть же этот голос дойдет до них и будет для них ужасным бичом. … Подо мной уже несколько дней сидят два человека. Они ожидают казни. Не перестукиваются, сидят тихо. В прошлом месяце в числе других были казнены два человека по обвинению в убийстве помощника генерал-губернатора Маркграфского. Оба казнены без всякой вины. Один из карауливших нас жандармов арестован, а шесть жандармов переведены отсюда на другую службу. Солдат Лобанов приговорен к арестантским ротам на два с половиной года за то, что передавал по назначению письма заключенных. Почти все служители-солдаты как ненадежные заменены новыми. На месте казни установлены постоянные, а не временные виселицы! Обреченных ведут уже отсюда со связанными ремнем руками. Вешают одновременно до трех приговоренных. Когда их больше, вешают троих, остальные тут же ожидают своей очереди и смотрят на казнь товарищей. … Опять повесили пятерых из шестнадцати осужденных бандитов и членов боевых дружин ППС. Сидит здесь некто Голэмбиовский. Его приговорили к смертной казни, но заменили десятью годами каторги. Он не хотел верить. Когда родители приехали к нему на свидание, он отказался выйти из камеры, думая, что его хотят перевести в камеру смертников. По просьбе родителей его силой привели к ним. Сидят здесь пять умалишенных. Один из них, буйный, сидит давно в совершенно пустой камере. Окна выбиты, вместо стекол – солома, по ночам он сидит без лампы. Крики отчаяния, бешенства, стон, удары в двери, в стену. Его заковали в ручные кандалы, он их разбил… Два дня назад умер Аветисянц. Он сидел здесь с 1905 года, и до окончания его заключения оставался только один месяц. … Уже неделя, как я опять сижу один. До этого я в течение двух недель сидел с офицером Б. и неделю с офицером Калининым. Б. явился ко мне неожиданно, и я очень обрадовался… Он словно с неба упал; вечером с шумом открылась дверь, его как бы втолкнули в мою камеру, и дверь захлопнулась. За несколько дней до суда офицеров вызвали в канцелярию, велели им показать, что у них в карманах, а в их камере, где они сидят все вместе, произвели обыск. Это было сделано по распоряжению генерала Утгофа, и специально для этой цели были присланы два ротмистра. По-видимому, вся эта шумиха была подготовлена со специальной целью внушить судьям представление об этих офицерах как об опаснейших людях. Председательствовал на суде Уверский, самый кровожадный из всех судей. О нем здесь рассказывают, что, когда для него становится очевидным, что подсудимый может отвертеться от виселицы, он сразу становится грубым, недоступным, настроение его становится бешеным, и наоборот, когда он видит, что это подсудимому не удастся, он потирает от удовольствия руки, вежливо разговаривает с адвокатом, его настроение становится розовым. Обвинял Абдулов. Следствие вел Вонсяцкий – в настоящее время начальник радомского губернского жандармского управления, мерзавец, известный своей деятельностью в Варшаве и в Риге. Обещаниями, подкрепляемыми честным словом, что он их освободит, угрозами, постоянными допросами он добился того, что почти все обвиняемые сознались, что ходили на собрания, и засыпали Калинина. На офицеров Вонсяцкий действовал уверениями, что солдаты сидят по их вине и что если они сознаются, то он сможет освободить солдат. Самым важным свидетелем был Гогман – шпион, о котором я уже упоминал. Обвинение базировалось на показаниях Гогмана и поручика 14-го Олонецкого пехотного полка Александра Бочарова и на подброшенной ему литературе. Бочаров на суде взял обратно свои показания. Это был трагический момент. Он заявил, что принадлежал к Военно-революционной организации социал-демократов, что под угрозой Вонсяцкого арестовать его и закатать на каторгу он дал ложное показание и написал все то, что ему велел Вонсяцкий. Уверский прервал его: „Ведь вы офицер!“ Бочаров ничего не ответил и продолжал стоять с опущенной вниз головой. В зале суда было большое волнение. Судей было трое: кроме генерала Уверского, два обыкновенных кадровых полковника; они в течение всех пяти дней сидели как болваны и не проронили ни единого слова. Все дело было раздуто Вонсяцким со специальной целью добиться полковничьих погон, и в этом он успел. Собрали людей из разных местностей царства Польского. Люди эти не имели ничего общего друг с другом. Арестовали солдат, неизвестно почему именно этих, сгруппировали их вокруг неблагонадежных офицеров и создали огромное дело Военно-революционной организации офицеров и солдат, которая могла погубить самодержавие. Но вот появляется храбрейший рыцарь Вонсяцкий и искореняет крамолу: какой же похвалы и награды он достоин! Моего товарища Б. освободили и вывели прямо за ворота цитадели. По-видимому, его держали в тюрьме четырнадцать месяцев исключительно для того, чтобы предоставить суду возможность вынести оправдательный приговор. „Наш военный суд беспристрастен, он не лакей охранки“ – так когда-то говорил мне жандармский полковник Сушков. Когда Б. вернулся после того, как суд вынес ему оправдательный приговор, он до того устал, что незаметно было, что это его радует. „Поздравьте меня“, – сказал он вяло. А после зародилось опасение, что его так же долго будут в административном порядке держать в тюрьме, как держат других. Дело Горбунова, например, – чиновника охранки – прекращено, а он продолжает сидеть более месяца. Трое: Клим, д-р Беднаж, Денель, оправданные четвертого августа, продолжают сидеть, и имеется предположение, что их сошлют в Якутскую область (на днях Клима и Беднажа выслали за границу, а Денеля собираются сослать в Якутскую область; жена его ездила в Питер и выхлопотала ему ссылку за границу; он уже должен был уехать, его даже ожидала карета, но охранка велела опять задержать его). Я успокаивал его, убеждал, что его освободят, что охранка ничего против него не имеет. Неожиданно в половине шестого ему приказано было собрать вещи и идти. „В ратушу? “ – „Нет, прямо за ворота“. Это как гром обрушилось на него. Он не знал, что прежде всего хватать. Я почувствовал, как сжимается мое сердце. Что делать? Все мое спокойствие куда-то запропастилось. Я помог ему собрать вещи, после чего наступил момент тишины. Я уже радовался за него, а теперь опустела моя камера. Проклятые стены… Почему не я? Когда же я? „Алеша, исполните мою просьбу, помните“, – произнес я холодно… Он страстно обнял меня на прощанье… Я люблю его. Он такой молодой, чистый, и все будущее перед ним открыто. Час спустя привели ко мне офицера Калинина. Молодой и сильный, он старался не обнаруживать этого. Он не пробудет в каторге шесть лет – это так нелепо, бессмысленно. Он – интеллигентный, молодой, сильный – должен перестать жить, должен быть совершенно отрезан от мира. Никто не может с этим примириться. В особенности он, который, быть может, и бессознательно, верит в превосходство своего ума, в силу своей воли, в свою способность к великим, могучим делам. Люди пойдут за ним, а не он за людьми. Поэтому ему противны партия и партийность. Воля человека – это все. Он красив, молод, интеллигентен – что же может противостоять ему? А эти бессмысленные стены… Он не хочет их. Он знает только себя и сам будет нести ответственность за свои поступки; он не думает об общественном мнении; ему противна только „грязь“. „Это грязь“ – вот вся его критика. Он „прямолинеен“: все, что бы я ни сделал, – сделал я, и поэтому я не знаю угрызений совести. В этом чувствуется сила молодости, немного рисовки и, возможно, много сомнений в самом себе. Во всяком случае, тип любопытный и интересный. Это человек, который может подняться очень высоко, но и пасть очень низко; если его посетит минута слабости, тогда он скажет себе: „Эта слабость – это я, этот путь – мой путь“. … Весна. В камере светло, много солнца. Тепло. На прогулке ласкает мягкий воздух. На каштановых деревьях и на кустах сирени набухли почки и уже пробились зеленые, улыбающиеся солнцу листья. Травка во дворе потянулась к солнцу и радостно поглощает воздух и солнечные лучи, возвращающие ее к жизни. Тихо. Весна не для нас. Мы в тюрьме. В камере двери постоянно закрыты; за ними и за окном вооруженные солдаты никогда не оставляют своих постов, и по-прежнему каждые два часа слышно, как они сменяются, как стучат винтовки, слышны их слова при смене: „Под сдачу состоит пост номер первый“; по-прежнему двери открывают жандармы, и по-прежнему они выводят нас на прогулку. Как и раньше, слышно бряцанье кандалов. … Неделю тому назад в одном из коридоров, на печке в уборной, найдены браунинг и несколько пуль. Приехал жандармский полковник Остафьев, созвал жандармов, угрожал им, упрекал, что они плохо наблюдают за нами, что поддерживают с нами сношение; грозил, что всех расстреляет, упечет на каторгу, закует в кандалы, за малейший пустяк будет отдавать под суд. Нескольким он надавал пощечин. Они не протестовали. Об этом они не хотят рассказывать нам. Им стыдно. Но они еще больше сближаются с нами. По этому поводу мне написал один из товарищей: „В связи с этим я вспомнил одно событие, о котором мне рассказывал очевидец. Вы слышали, должно быть, что в 1907 году в Фортах ужасно издевались над заключенными. Всякий раз, когда попадался до мерзости гадкий караул, заключенные переживали настоящие пытки. В числе других издевательств был отказ в течение многих часов вести в уборную. Люди ужасно мучились. Один из заключенных не мог вытерпеть, и, когда он захотел вынести испражнения, заметивший это офицер начал его ругать, приказывал ему съесть то, что он выносил, бил его по лицу. Тогда тоже все молчали, ограничившись тем, что не позволили ему выйти из камеры одному и вышли с ним вместе, чтобы не дать его бить. Когда я возмущался, очевидец в ответ спросил: „А что было делать? Если мы сказали бы хоть одно слово, нас бы всех убили, выдавая это за бунт“. В 1907 году, когда я сидел в „Павиаке“, солдат ударил одного заключенного, разговаривавшего во время прогулки с другим через окно. В это время по двору гуляли сорок человек. Один из них хотел было броситься на солдата, но другие оттащили его в сторону. Мы потребовали тогда замены этого солдата другим, тюремные власти тоже на этом настаивали, но караульный начальник не дал на это своего согласия и стал угрожать нам. Когда один из заключенных начал против этого протестовать, солдат замахнулся на него штыком, другие заключенные заслонили его от рассвирепевшего солдата, но все вынуждены были уйти с прогулки. Когда вскоре после этого солдат убил выглянувшего в окно Гельвига, вызванный нами прокурор Набоков издевался над нами, заявляя: „Вы ведете себя возмутительно. Следовало бы вас всех расстрелять“. Возможны ли при таких условиях какие-либо протесты? Каждый такой протест может вызвать только резню. Каждый чувствует в такой атмосфере только свое бессилие и переносит унижения или в отчаянии бросается сломя голову, сознательно ища смерти. Я сижу теперь с Дан. Михельманом, приговоренным к ссылке на поселение за принадлежность к социал-демократии. Он был арестован в декабре 1907 года в Сосковце. Он рассказал мне о следующем случае, очевидцем которого являлся: в конце декабря приходят утром в тюрьму в Бендзине стражник с солдатом, вызывают в канцелярию одного из заключенных, некоего Страшака – прядильщика с фабрики Шена, внимательно осматривают его с ног до головы и, не говоря ни слова, уходят. После полудня является следователь, выстраивает в ряд шесть заключенных высокого роста, в том числе Страшака, приводят солдата, и следователь приказывает ему признать среди них предполагаемого участника покушения на шпика. Солдат указывает на Страшака. Этот Страшак, рабочий, ни в чем не был замешан, ни с какой партией не имел ничего общего. Солдат был тот самый, который приходил со стражником утром и предварительно подготовился к ответу. Страшака повесили… Прошел день 1 мая. Празднования в этом году не было. А у нас ночью с первого на второе кого-то повесили. Была чудесная лунная ночь, я долго не мог уснуть. Мы не знали, что недавно был суд и что предстоит казнь. Вдруг в час ночи началось движение на лестнице, ведущей в канцелярию, какое обыкновенно бывает в ночь казни. Пришли жандармы, кто-то из начальства, ксендз; потом за окном прошел отряд солдат, четко отбивая шаг. Все, как обыкновенно… Повесили рабочего-портного по имени Арнольд… Так прошло у нас 1 мая. Это был день свиданий, и мы узнали, что в городе первое мая не праздновали. Массам еще хуже: та же, что и прежде, серая, беспросветная жизнь, та же нужда, тот же труд, та же зависимость… Некоторые рекомендуют теперь приняться исключительно за легальную деятельность, то есть на самом деле отречься от борьбы. Другие не могут перенести теперешнего положения и малодушно лишают себя жизни… Но я отталкиваю мысль о самоубийстве, хочу найти в себе силы пережить весь этот ад, благословлять то, что я разделяю страдания с другими; я хочу вернуться и бороться… “ „Так что же случилось-то?! “







