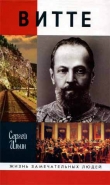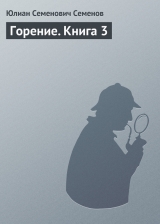
Текст книги "Горение. Книга 2"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
– Граждане! Безответственность многих выступавших ораторов ярче всего проявляется в том, что они обходят практическую осуществимость народовластия через «революционное правительство» или через Советы. Можно ли мечтать об этом? Да, мечтать можно, но провести в жизнь нельзя! Либеральная интеллигенция, крестьянство, пролетариат – революционны, но революционная кооперация трех этих элементов под флагом вооруженного восстания невозможна, немыслима! Из каких же тогда элементов может возникнуть та новая власть, о которой не устают твердить революционные партии и особенно большевистская фракция? Чем могла бы оказаться такая власть? Диктатурой пролетариата? Да разве можно говорить об этом в России?! Ее смоет волна контрреволюции!
Это выступление Ленин записал целиком, напрягся – вот оно, начало схлеста, повод к выяснению позиций, к размежеванию. Однако слова не просил, внимательно слушал бойкого меньшевика – тот, возражая по существу вопроса о власти, по форме извинялся перед либералом, повторяя все время как заклинание: «Предыдущий оратор должен понять!» Он дискутировал, цеплялся за слова либерала, увещевал, а надобно бить, наотмашь бить!
Ленин выступил перед закрытием заседания, когда в зале прибавилось рабочих – наступало время окончания первой смены, восемь вечера; несмотря на то что работать начинали в шесть, но шли из цехов не домой, сюда шли.
– Граждане, – сказал Ленин, – я хочу остановить ваше внимание на трех вопросах. Первое: Советы рабочих депутатов прямо-таки не имеют права позволять себе роскошь выслушивать расплывчатые, неконкретные, зыбкие предложения, а таких сегодня было предостаточно. Советы рабочих депутатов не имеют права шиковать, дозволяя ораторам говорить чуть не по полчаса! Говорить надо по делу, конкретно, с предложением, сформулированным четко и ясно, иначе Советы превратятся в дискуссионный клуб, где собираются люди, которым нечего делать! Председатель – не украшение, но рабочая единица, организующая или – точнее – помогающая организовать отлаженную работу! Слишком много славословия, слишком много безответственности! Выступавший здесь представитель радикальных кругов изложил с предельной отчетливостью – столь в общем-то редкой для них – сущность либерально-буржуазной точки зрения. Ошибки рассуждения нашего оратора так наглядны, что на них стоит указать, спорить – нет смысла. Ранее кадеты утверждали, что вооруженная борьба народа в России невозможна, теперь они соглашаются, что эта борьба – реальность. Значит, восстание возможно, но недоказуем наперед его успех. При чем же тогда «смоет контрреволюция»?! Революции без контрреволюции не бывает и быть не может. Разве мы не видим каждодневно, как даже манифест «17 октября» смывает контрреволюционной волною?! Но разве эта волна контрреволюции доказывает нежизненность вполне легальных конституционных требований?! Как быть? Прекращать борьбу за проведение этих конституционно-демократических требований в жизнь?! Вопрос, следовательно, не в том, будет ли контрреволюция, а в том, кто – после долгих и полных превратностей судьбы битв – окажется победителем. «Все на выборы в Думу!» Все? Да разве?! Если бы – «все»! Выборов в Думу хотят помещики – они не желают революционной борьбы, они свое получили после опубликования манифеста. Выборов хотят буржуа
– они тоже получили свое. Для них Дума – поле выгодных сделок! А мы на сделки не шли и не пойдем. «Все на выборы»?! Это же бессмыслица – выборы на основании несуществующего избирательного права в несуществующий парламент! Советы рабочих депутатов были избраны по «полицейским» законным формам, но мы-то знаем, что над ними занесен топор, нам-то известно, что правительство со дня на день готовит разгром всех Советов депутатов! Это лишний раз подтверждает нашу позицию: нельзя доверять лжеконституционализму! Революционное самоуправление непрочно без победы революционных сил, без кардинальной победы. Беспартийная организация может дополнить, но никогда не заменит прочной боевой организации победившего пролетариата, стоящего на партийной позиции. Нам нужны пушки для борьбы. Но разве нарисованная на картоне пушка – одно и то же, что пушка настоящая?! Советам, следовательно, нужна постоянная пружина партийной организации. Советам нужна пушка!
Рабочие зааплодировали, истосковались по четкому, страх как надоело слушать глаголы.
– Второе, – продолжал Ленин. – Здесь кто-то требовал разоружить полицию, блокировать Зимний и захватить редакции газет. Благие пожелания! Вполне р-революционные прожекты! Об этом, однако, не говорить надо! Это надо – если позволяют обстоятельства – планировать и проводить в жизнь! А здесь, сейчас, на открытом заседании, происходит выбалтывание! Кому это на руку? Рабочим? Весьма сомнительно, чтобы это было на руку организованному пролетариату. Восстание – наука, а истинная наука требует тишины и, ежели хотите, словесной скромности! А вот по поводу ста тысяч петербургских безработных, выброшенных хозяевами на улицу, отчего-то никто из выступавших не говорил! Совестятся, что ли? Или считают это слишком заземленным вопросом? Что сделала городская Дума, болтающая о демократии, Для того, чтобы помочь рабочим?! Пусть мне ответят! Им нечего отвечать, они, наши страдающие либералы, палец о палец не ударили, чтобы помочь пролетариям. Пенять им придется на себя. Совет рабочих депутатов выведет с окраин сто тысяч рабочих, и они потребуют от «народной», в высшей мере либеральной, очень страшно для Витте говорящей Думы средств, сворованных хозяевами у рабочих!
В зале зааплодировали пуще.
– И, наконец, третье. В ответ на забастовки, возникающие то здесь, то там, хозяева объявили локаут, закрыли заводы, рассчитали рабочих. Что ж, пусть. Но неужели мы смиримся? Нет и еще раз нет!
На локаут буржуазии, на локаут правительства пришло время ответить рабочим локаутом, закрыть ворота для хозяев, взять управление в свои руки! Я уложил свое выступление в четыре минуты. Это пока все, товарищи.
Рабочие зашушукались:
– Кто это? Кто? Кто это, а?
Ленин на свое место возвращаться не стал, наверняка есть в зале филеры. Поехал в меблированные комнаты «Вена». Там внизу был ресторанчик, вечером должны были собраться Богданов, Луначарский, Румянцев, Красин, Лядов и Литвинов, надо было готовиться к съезду: без плана восстания, без науки восстания дальше нельзя, ко всему решающему следует готовиться загодя.
20
Собрание ложи масонов проводили теперь у постели графа Балашова – издатель и банкир лежал при смерти, понимая отчетливо, что жить ему осталось недолго; брат милосердия, приезжавший из военно-морского госпиталя шесть раз на дню со шприцем, проболтал прислуге, что у старого барина гнойная опухоль в легких, скоро начнет выхаркивать кровь, а там и помрет с криком. Поэтому в глазах челяди – когда входили в кабинет графа – была жалость, та особая, всепрощающая, милостивая жалость, которая присуща только крестьянам, а Балашов всю челядь из Пермской губернии привез, из своего имения; при том, что на горожан ставил, окружал себя мужиками, полагая, что только те помнят прошлое, лучину помнят, побор и зуботычину старосты, а потому наделены чувством преданной благодарности к тому, кто дал чистую жизнь в столице.
Балашов лежал на подушках одетый, в сюртуке; подушки были обтянуты тигровыми шкурами, на этом мрачном желто-черном фоне не так был заметен землистый цвет его лица и черные круги под глазами.
Вел собрание адвокат Александр Федорович Веженский, для всех в ложе очевидный преемник графа.
– Братья, следует обсудить новые сведения. Касаются они двух ведущих ныне тем: аграрного вопроса и займа, – сказал он.
– Прежде чем начнем, – проговорил Балашов, с трудом подняв иссохшую руку, – я бы хотел в двух словах остановиться на положении в Царском Селе, братья. Там – худо. Государь окружен людьми настроения, людьми, черпающими надежду в примерах нашего патриархального прошлого. То, что являет собою Трепов, самый вроде бы верный паладин государя, это прошлый день, братья, это вчерашняя Россия. Если уж ему Витте кажется либералом – куда дальше? Но дни Витте, думаю, сочтены, и поэтому надобно сейчас нам подумать, кто возглавит новый кабинет.
– Столыпин, – ответил Веженский сразу же.
Братья переглянулись: фамилия была новой, слышали про молодого губернатора разное; впрочем, во всех разговорах выделяли главное: Столыпин умел держать.
– Столыпин недавно сказал, – продолжил Веженский, – что ставить следует на сильных и трезвых, а не на пьяных и слабых. Он уже раза три эту фразу повторял – программная фраза, ждет общественной реакции. Он обещает взять в кулак поляков, татарву, евреев, потийских грузин, латышей. Как нам откликнуться – вот в чем вопрос?
– Мы ж еще не похоронили Витте, – улыбнулся генерал Половский.
– Преемника назначают при живом, – тихо сказал Балашов и, жалко улыбнувшись, обвел взглядом братьев. – Надобно присмотреться к Столыпину, аванс, конечно, рано давать, но что-то в нем есть симпатичное, мощь в нем чувствуется, сила, желание наладить власть, надежную исполнительную власть.
– Нельзя надеяться, что Столыпин сразу же сменит Витте, – заметил Веженский. – Какое-то время в Зимнем будет сидеть промежуточная фигура. Видимо, это целесообразно: общественное мнение убедится в необходимости правительства твердой руки.
– Поскольку вопрос окончательного падения Витте заключен в успехе или неуспехе займа, – сказал генерал Половский, – я бы хотел рассказать о внешнеполитическом аспекте этой проблемы.
– Да, да, мы очень ждем этого, – откликнулся Балашов и осторожно, боясь пошевелить притихшую после укола боль, повернулся на левый бок.
– Наша военная разведка имеет неопровержимые данные: когда кадеты
– видимо, через уволенного Кутлера – узнали все подробности плана Витте о займе в два миллиарда франков, милюковская партия немедленно отправила в Париж своих представителей. Те вошли в сношения с министром Рувье, убеждая его, что нельзя давать заем до той поры, пока в России нет Государственной думы: «Вы поможете сохранению варварства, которое в один прекрасный день может обернуться против вас из-за неустойчивости государя: тот всегда тяготел к Берлину». Удар по Царскому Селу был нанесен красивый – надо отдать дань дипломатии кадетов. Это был неожиданный поворот, это была косвенная поддержка Витте, иначе, думаю, его Трепов уже сожрал бы с потрохами. Однако, поскольку имя Витте связывают с учреждением Думы, его позиции укрепились, кадеты помогли царю понять, что без Витте ему золота не видеть. Но еще более кадеты преуспели в Лондоне: сказались старые связи Милюкова. Британский «Экономист» начал кампанию травли двора, о России писали как о «смердящем трупе», пугали Ротшильдов тем, что денег давать в Петербурге некому – власти не существует, империя накануне правого термидора.
– Это их термин? – поинтересовался Веженский.
– Их. Они в терминологии блистательны – тут спору нет, – сказал Половский. – После этого Париж, завязший на конференции в Альжесирасе с немцами, потребовал от Витте определенности: либо Россия давит на Берлин и принуждает кайзера признать главенство Франции в Марокко – заем состоится, либо Россия докажет свое бессилие на дипломатическом поприще, кайзер по-прежнему будет беспредельничать с Марокко – тогда займа не будет. Далее события развивались следующим образом: кайзер Вильгельм, узнав об этом условии, немедленно начал «громить посуду в арабской лавке», в стратегически важном Марокко, требуя себе преимуществ, особенно в Касабланке, – узловой порт, держит Средиземное море, противовес британскому Гибралтару. Зная нашу нужду в займе, он играл на том, чтобы Россия давила на Францию как раз в его пользу. Яснее ясного: Вильгельм хотел нарушить наш союз с Францией, привязать Россию к себе. Франция, в свою очередь, принудит кайзера к здравомыслию, о займе речи быть не может. Заслуга Витте в том, что он удержал Россию от того шага, на который его толкали в Царском Селе: он не отменил свободный обмен кредитных билетов на золото, рубль по-прежнему оплачивается песочком, и он не поворачивал к кайзеру – медлил. Он медлил не зря – военная агентура сообщала, что правительство Рувье шатается. И оно было свалено. Пришел Пуанкаре. Нам, в армии, было известно, что Пуанкаре видит свою цель в создании прочного русско-французского союза. Он дал разрешение банковской группе Нейцлина начать переговоры о займе. Кайзер, узнав об этом, запретил банковской группе Мендельсона финансировать Витте. Отказался от русского займа американский дом Моргана – тот тесно связан с немцами, они к нему через Гамбург подлезли. Остались Нейцлин в Париже и Ревельсток в Лондоне. Вопрос стоит так: если мы хотим свалить Витте немедленно, можно – у нас есть пути – содействовать займу завтра же. Коли, однако, мы заинтересованы в его премьерствовании еще на год, пока он не приползет на коленях к кайзеру, мы имеем возможность не мешать кадетской кампании в прессе Франции и Англии против займа. Кадеты могут инспирировать такую кампанию хоть сегодня.
Половский забросил худую, невероятно длинную ногу на острое колено, – видно было, какое оно костлявое; откинулся на спинку кресла, сцепил длинные пальцы, опер подбородок на них, оглядел братьев, приглашая к тому, чтобы высказались.
– Витте жаль, до слез жаль, это умный и честный человек, но заем необходим, – убежденно сказал князь Проховщиков. – Иначе анархия станет неуправляемой. Необходимо накормить рабочий элемент и хоть как-то помочь мужику. Только это оторвет их от социалистов.
Веженский, как-то странно усмехнувшись, быстро глянул на Балашова.
– От социалистов оторвет другое, – сказал граф, подчинившись молчаливой просьбе преемника. – От них оторвет иная идея, которую нам следует выдвинуть. Дело зашло слишком далеко, брат. Куском хлеба, подачкой, говоря иначе, сейчас не отделаешься.
– Витте стоит за союз с Францией и Германией, который будет подтвержден их двумя миллиардами франков, – сказал Рослов. – Модель английского общества мне более симпатична. Немецкая модель таит в себе угрозу необузданного гегемонизма и спорадической агрессивности.
– Кто же сменит Витте? – спросил князь Прохорщиков. – Видимо, это должно озадачивать нас прежде всего?
– Нет, – ответил уверенно Веженский. – Не это. Любой человек, который сменит Витте, долго не продержится. Придет сильный. Думаю, нам стоит очень внимательно изучить Столыпина. Думаю, нам стоит его поддержать, – впрочем, анализ и еще раз анализ, он только восходит, а всякое неожиданное восхождение в политике весьма рискованно и таит в себе угрозу тирании, которая в условиях России всегда неразумна, опирается на темноту и страшится культурного элемента. Однако ни переходный премьер – если мы поддержим заем через наших братьев в ложах Парижа и Лондона и, таким образом, свалим Витте, как ненужного мавра, – ни премьер будущий не есть главный вопрос. Мастер только что сказал: «Подачками не отделаемся». Это слова великого политика. Поэтому, братья, я зову вас – и это только на первый взгляд странно – к изучению разногласий между двумя революционными течениями. И среди кадетов и в партии октябристов наши позиции достаточно сильны, мы проросли там, я же зову вас к изучению социал-революционной теории Чернова, к анализу Плеханова и Ленина, потому что эти деятели определяют движение не только рабочего и крестьянского элемента, но и значительной части интеллигенции. Социал-демократия, будучи доктриной европейской, есть единственная доктрина в нынешней России, которая базируется на фундаменте науки. Кадеты – симбиоз славянофильства и британского конституционного монархизма. Октябристы уповают на сильную личность, которая развяжет им руки в управлении промышленностью и будет надежно гарантировать ритмику работы заводов. Эти – с челюстями, но доктрины нет, образ политического будущего России для них в тумане. Социал-революционеры приняли из рук стариков знамя утопического народничества – они пока что не есть серьезная сила, хотя шумят довольно, и к ним мы еще не подошли – жаль. Но именно социал-демократы
– с одним из их лидеров, Юзефом Доманским, я встречался в Варшаве год назад, это личность, братья, это серьезно, в высшей мере серьезно – должны стать объектом нашего пристального внимания. Поняв их, изучив сердцевину их расхождений и суть их связующего, мы обязаны озаботить себя созданием своей группы в Думе. Следует отрывать левый элемент от кадетов и октябристов так, чтобы не отдать их социал-демократам; следует – исповедуя наше преклонение перед Циркулем и мастерком – превратить понятие просвещенного труда в нашу доктрину, в то, что будет притягивать к себе русского человека, алчущего доброй работы. Мы, братья, должны проникать всюду и везде, мы должны уметь становиться тем и теми, за кем– тенденция. Главное – понять тенденцию, братья, понять и выверить все вероятия. Время таково, что ошибка чревата гибелью империи.
Балашов скривил губы от боли.
Веженский положил руку на ледяные пальцы Балашова, – костяшки стали выпирать, сделались бугристыми, желтыми, – шепнул:
– Мы покурим в кабинете?
Балашов благодарственно прикрыл веки, тронул кнопочку звонка, вызвал брата милосердия: доктор Бадмаев прописал инъекции из тибетских трав, боль снимало часа на три, наступало блаженство, голова становилась светлой, появлялось ощущение звонкой силы в теле – встань и иди, но что-то такое, что жило в Балашове помимо него самого, не позволяло ему подняться.
В кабинет был подан кофе; сигары кубинские, короткие, очень горькие, но со сладким запахом.
– Я беседовал с врачами, – негромко сказал Веженский, проверив, надежно ли прикрыты черные, мореного дуба, двери кабинета. – Чувствуется известный оптимизм – мастер так силен духом, что, возможно, он поднимется.
Половский покачал головой:
– Александр Федорович, зачем друг другу-то? Дни мастера сочтены.
– Мы же не монархия, – вздохнул Прохорщиков. – Наша линия постоянна. Я боюсь показаться жестоким, но ради пользы дела было бы разумным провести перевыборы мастера.
– Это жестоко, – сразу же откликнулся Веженский. – Он семнадцать лет был мастером, при нем наша ложа получила распространение в России, он провел нас сквозь грозные бури… Это жестоко, братья.
– А если кризисная ситуация? – кашлянув, поинтересовался Вакрамеев. – Если придется заседать не час и не два, а сутки? Если нужно принимать решение ночью, ехать к кому-то на рассвете – что тогда? Он ведь не выдержит, он не выходит из дому, тяготится болезнью, немощен, избегает встреч, не вносит предложений… А мы – по уставу ордена – не вправе принимать решений без утверждения мастера. Мне кажется, Александр Федорович, вы находитесь в плену неверно понимаемого чувства благодарности. Будет лучше, если мы сохраним в сердцах память по мастеру в его лучшие годы, когда он был на взлете. Горько, если мастер уйдет из нашей памяти больным, бессильным, неспособным к крутым – в случае надобности – решениям.
– Это жестоко, – повторил Веженский, понимая, что ему, преемнику, только так и можно вести себя. Он не допускал мысли, что его проверяют, – это было чуждо духу братства.
«А почему? – спросил он себя. – Братству – да, чуждо, но мы рождены в России, нами правит двор, который живет именно такого рода проверками. Проверка может происходить помимо осознанного желания братьев».
– Я против каких-либо шагов, – заключил Веженский. – Если, впрочем, вам кажется, что я недостаточно твердо провожу нашу линию во время недуга мастера, можно предложить иную кандидатуру.
Половский, который все сразу понял – умен генерал, мысль чует, даже коли не высказана, – пыхнул сигарой, задрал голову, словно зануздали:
– Дорогой мой, вы – истинный рыцарь. Речь идет не о каких-то крайних мерах. Просто, видимо, следует проинформировать наших братьев в главной ложе Парижа, что практическую работу во время болезни мастера проводите вы, Александр Веженский. Надо поставить точки над «i». Если хотите, я подниму это перед мастером. Я найду форму, которая никак его не обидит. Больной и бессильный мастер – плохая реклама нашей идее, – увы, это жестокая правда, вечность возможна только после смерти.
В кабинет, осторожно постучав, вошел брат милосердия.
– Господа, – прошептал он, – его превосходительство уснул после укола. Изволите дождаться пробуждения?
– Сколько он будет спать? – спросил Рослов, и вопрос его сделал тишину ощутимой – так были резки его слова и столько было в них скрытого раздражения.
– Два часа, – ответил брат милосердия и вышел.