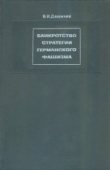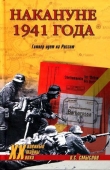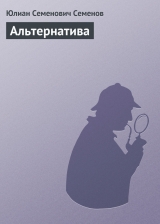
Текст книги "Альтернатива (Весна 1941)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
«Чем глубже прыжок в зеленую жуть морской пучины, – думал Веезенмайер, удобнее устраиваясь в углу большого «майбаха», – тем сладостнее миг, когда ты поднялся к небу, и вдохнул полной грудью воздух, и увидел солнце в синих и вечных небесах. Сейчас я увидел солнце. Сейчас можно закрыть глаза и вздремнуть, и пусть мне во сне приснится матушка, добрая моя и нежная мамми».
18. МАЛОДУШИЕ ЛЕЖАТЬ, КОГДА МОЖЕШЬ ПОДНЯТЬСЯ
Наутро Везич пообещал Ладе купить билеты на самолет в Швейцарию. Он дал ей слово, что не предпримет ни одного шага, который бы грозил не ему уже теперь, а им двоим. Однако он не мог до конца честно выполнить своего обещания и послать к черту этот бедлам, который именовался королевской Югославией, забыть ужас, который пришлось ему пережить в эти дни (а что может быть страшнее ужаса бессилия для натуры деятельной, способной четко и быстро мыслить). Желание уехать с Ладой существовало в нем неразделимо с желанием сделать то, что он мог и обязан был сделать перед лицом своей совести.
Он понимал, что, не сделай он того, что предписывал ему долг, счастью их будет постоянно грозить душевное терзание: «Ты мог, и ты не стал, и этим своим «не стал» обрек на мучительную гибель десятки, а то и сотни людей». Любовь, возросшая на смерти; счастье, построенное на предательстве; искренность, рожденная на измене, невозможны, как невозможно солнце в ночи.
Бросив машину на Власке, под Каптолом, Везич прошел через шумный, безмятежный, веселый, песенный Долаз, где женщины в бело-красном и мужчины в красно-черном крикливо продавали поделки из дерева, гусли, шерстяные расшитые наплечные чабанские сумки, старые ботинки, запонки, брюки, ручной работы сербские опанки – кожаные туфельки с резко загнутыми носами, серебряные кольца, позолоченные браслеты, привезенные из Далмации, толстые вязаные носки из Любляны; салат, макароны, фасоль, живую рыбу на льду; и оказался в темной маленькой улочке. Тишина этой некогда оживленной торговой улицы испугала его: в витринах было пусто, двери магазинов открыты, на полу шелестели бумаги, видимо, дома были брошены владельцами сегодняшней ночью.
Здесь, в центре старого Загреба, среди ссудных контор, дорогих ателье и ювелирных магазинов чудом затесалась парикмахерская Янко Вайсфельда. Везич любил приходить к нему стричься. Он слушал болтовню старика, исподволь советуясь с ним, не впрямую, естественно, а лишь задавая вопросы, ответы на которые помогали ему по-своему думать о замысленных им делах.
Он и сейчас хотел посидеть у Вайсфельда и попросить старика причесать его как можно тщательнее, сделать массаж, чтобы выглядел он ухоженным, и пока старик, хищно поигрывая золингенской бритвой, будет скоблить его щеки, он соберется, расслабившись поначалу, а потом появится среди своих коллег таким, каким его обычно привыкли видеть. Он не мог теперь не появиться в управлении, поскольку Родыгин сказал ему о Кершовани и Цесарце, которых арестовали. В былые времена он гордился этими своими противниками, учился у них методу мышления, и сейчас – он твердо был убежден в этом – место им в газетах, на митингах, в университете, но никак не в темнице.
«В газетах, – усмехнулся он, вспомнив «Утрени лист», «Хорватский дневник» и «Обзор». – Газеты печатают слащавые романы с продолжением о «чистой любви», сообщают о выставке новых мод из Виши, передают сплетни о том, что сейчас носят американские миллионеры, и ни слова о том, что нас ждет, ни слова...»
Шагая по пустой, тихой, узкой – раскинь руки, упрешься в стены противостоящих друг другу домов – улочке, Везич думал, что зря он пришел сюда, что Янка Вайсфельда тоже, наверное, уже нет, как и всех почти его соплеменников, но он ошибся: старик стоял на пороге парикмахерской и сосредоточенно курил сигарету, внимательно наблюдая за тем, как огонь медленно, сжимающимся черно-красным ободком пожирал бумагу и табак, превращая их в серый пепел.
– Шолом! – сказал Везич.
– Хайль Гитлер, – отозвался тот.
– Побреемся?
– Первый клиент за два дня. Извольте садиться, господин полковник.
Везич сел в кресло; Янко, взмахнув голубоватой простыней над его головой, ловко укрыл ею полковника, заметив:
– Все парикмахеры пользуются белыми простынками, а мне белый цвет напоминает саван, и поэтому я прошу Фиру подсинять простыни.
– Что у вас тут случилось?
– Исход, – пожал плечами Вайсфельд. – Разве не ясно?
– А в чем дело?
– Не надо мне делать глазами, полковник. Не надо. Я старый еврей с головой на плечах. Уж кому как не вам должно быть известно, что шестого апреля сюда прыгнут парашютисты Адольфа.
– Это точные сведения? – улыбнулся Везич.
– Это точные сведения. Иначе бы евреев никто не заставил давиться в сплитском порту, чтобы бежать в Испанию или Америку.
– А почему вы не в сплитском порту?

Вайсфельд быстро намылил мягким указательным пальцем левой руки щеки Везича и ответил:
– Потому что уехали те, которым было на что уезжать. А на что уезжать мне? Из обстриженных волос денег не сделаешь, даже если их продавать на щетину в магазин щеток Младена Рухимовича.
– Кто сказал, что шестого будет десант?
– Верные люди. Просто так банкиры не убегают.
– Ну и что будет?
– Это вы меня спрашиваете? – мелко засмеялся Янко. – Это он меня спрашивает, что будет! Люди рождаются людьми, просто людьми, полковник, и только папы и мамы делают их католиками, иудеями или православными! В наследство от родителей люди получают горе или радость. Только не думайте, что Адольф даст радость хорватским католикам за то, что они католики, а ему временами приходится целовать папу в зад, чтобы тот не проклял его на площади святого Петра! Адольф – главный покровитель невежества, и если папа скажет об этом вслух, всем станет ясно, что он самый жестокий враг людей, потому что тот, кто создал варваров и невежд, кто опекает их и говорит им, что они всегда и во всем правы, тот хуже Ирода и хуже Иуды. Вы думаете, что невежды Гитлера будут гладить по головке хорватских католиков? Так нет. Хоть вы и католики, но говорите не по-немецки и песни ваши очень похожи на русские. Моя бабушка из Гомеля, так она мне пела русские песни. Они такие же грустные, как ваши. Массаж будем делать?
– Да. Собираетесь остаться здесь?
– У вас есть другое предложение?
– Идите в Сплит пешком.
– Спасибо. С дедом, которому девяносто три года, и с внучкой, которой два месяца. Спасибо. А в Сплите кричать капитану: «Возьмите меня, я вас буду бесплатно стричь!» И чем я буду кормить жену, деда, трех дочек, ублюдка зятя и двух внучек, пока мы станем тащиться в Сплит? Показывать фокусы? Глотать огонь я не умею. Я умею стричь и брить, полковник... А... Что это мы говорим на такую грустную тему? Вайсфельд и есть Вайсфельд. Туда ему и дорога! Лучше поговорим о вас. Я думаю, вы не оставите бедного Вайсфельда, когда здесь будет новая власть. Как вы нужны новой власти, так и я нужен вам.
– Вайсфельд, и все-таки вам лучше уйти. Продайте свое кольцо, продайте парикмахерскую и уходите. Хоть в Италию – дуче итальянских евреев не считает евреями.
– Так ведь я не итальянский еврей, а славянский! Зачем же дуче давать мне карточку на маргарин?! Слушайте, полковник, лучше поговорим о вас! Обо мне и думать тошно, не то что говорить. Наши древние считали, что после смерти темнота и пустота и мечтать надо только о наградах и счастье в этой жизни. Ну так будет темнота! Как будто сейчас у меня очень много света! Все нормальные люди открывают свои парикмахерские в шесть часов, а Вайсфельд открывает в пять. Почему? Потому что, конечно же, этот старик хочет побольше награбастать денег. А Вайсфельд спит со своей старухой на двухэтажных нарах, и снизу на него пускает газ дед, а на кушетке дочка и ублюдок зять, и я должен то и дело закрывать внучек одеялками, потому что они беспокойные во сне... А здесь я царь! Здесь мое кресло! Здесь есть окно с нарисованным красавцем. Я отдыхаю здесь. Человек – странное существо, полковник. Он ищет страдание. Наверное, он думает, что страдание угодно богу, потому что тот никогда не улыбался. Вы же видели его фотографии – он всегда серьезен или чуть не плачет от любви к нам. Ну так и я пострадаю. Пострадаю на свете, а успокоюсь в темноте. Бриллиантин положим?
– Положим.
Везич достал из кармана ключ от ателье, где жила Лада. Ателье завтра останется пустым. Сейчас, перед тем как пройти в управление, он поедет за билетами в Швейцарию. А в ателье пусть живет Вайсфельд. Пусть проживет в нем столько, сколько ему отпущено прожить.
– Держите, – сказал Везич, протягивая ключ. – Запомните адрес: Пантовчакова улица, семь. Третий этаж. Там только одна дверь. Документы на квартиру вы найдете на столе. Приходите завтра утром. Можете жить там, Янко.
– Полковник решил сказать «адье» славянской родине?
– Молчи, – грустно усмехнулся Везич, погладив Вайсфельда по старческой, собранной добрыми морщинками щеке. – Руки целовать должен, а еще гадости бормочет.
– Спасибо за ключи, полковник. Спасибо. Только не надо их мне оставлять. Так я просто несчастный еврей, а если я поселюсь в вашем доме, я стану евреем, которого надо обязательно растоптать. Лучше я не буду нервировать новую власть. Лучше я буду спать на двухэтажных нарах. Оттуда спокойнее уходить в темноту, чем из вашей квартиры, где, я надеюсь, есть и сортир и зад не обмораживается зимой, когда ветер продувает сквозь доски.
В управление Везич вошел именно так, как и хотел войти: рассеянно-небрежно, с легкой улыбкой на лице. Он шел по коридорам, опасаясь увидеть тот особый взглядсослуживцев, которым отмечен обреченный, но по коридорам быстро пробегали офицеры, мельком кивали ему, и никто не обращал на него внимания.
Везич вошел в свой кабинет, постоял мгновение, не двигаясь, словно бы приходя в себя после изнурительной погони, и только потом обвел медленным взглядом стол, шкафы, кресла и увидел, что сейф взломан, а стальная дверь с набором секретных замков безжизненно и криво висит на одной створке, словно символизируя бессилие брони перед силой слабых человеческих рук.
И снова страх холодно сдавил сердце.
«Зачем я пришел сюда? – подумал Везич. – Они ведь могут взять меня прямо здесь и бросить в подвал. Или отвезти в Керестинец. Или передать Коваличу. Или вызвать «селячку стражу». Реши я остаться в Югославии, я должен был бы прийти сюда, явиться к генералу, доложить ему о случившемся и попросить санкцию на продолжение работы против немцев. А я бегу. Зачем я здесь?»
Он подошел к телефону и набрал номер Штирлица. По-прежнему никто не отвечал.
«Послушайте теперь мой разговор с консульством, – зло подумал Везич. – Это заставит вас поразмыслить, прежде чем решиться забрать меня».
– Простите, что господин Штирлиц, еще не вернулся?
– Кто его просит?
– Полковник Везич.
– Мы ждем его, господин полковник, – ответили на другом конце провода заискивающим голосом. – Он скоро вернется.
– Я перезвоню, – сказал Везич, – оставьте Штирлицу мой телефон; если он вернется скоро, я буду у себя в кабинете: 12-62.
(О звонке Везича было немедленно доложено генеральному консулу Фрейндту и оберштурмбанфюреру Фохту. Они переглянулись, одновременно вспомнив слова Веезенмайера: «Все наши наиболее явные контакты порвите; компрометирующие изолируйте».)
А затем Везич поступил так, как должен был и мог поступить человек отчаянной храбрости, – он пошел в картотеку «политических», в сектор, занимавшийся коммунистами, и рассеянно, закурив сигарету, попросил:
– Дайте-ка мне материал на наших «москвичей». Адреса, конспиративные квартиры, запасные явки...
– Господин полковник, – ответил старый, преисполненный к нему уважения капитан Драгович, – все эти материалы затребовал подполковник Шошич. Еще вчера утром.
...Шошич встретил Везича радостно, усадил в кресло и сразу же предложил выпить:
– Мне сегодня привезли далматинскую ракию из смоковницы, просто прелесть.
– Спасибо, с удовольствием выпью.
– Что это вас не видно в наших палестинах?
– Я был в Белграде.
– Ну и как? Помогло? – спросил Шошич. – Или, наоборот, все испортило?
– И помогло и испортило.
– Разве так бывает?
– Только так и бывает. Все двуедино в нашем мире, все двуедино.
– Еще рюмку?
– С удовольствием.
– Какие-нибудь новости из Белграда привезли?
– Привез. Только рассказывать о них погожу. Дня три-четыре.
– Ах, вот как...
– Именно так. Кто у меня сейф, кстати, разворотил?
– Мы.
– Почему?
– Потому что вы исчезли, а генерал приказал всю секретную документацию сконцентрировать в одном месте. Не у вас одного взломали сейф. У майора Пришича нам пришлось провести точно такую же операцию.
– Мне нужны материалы на коминтерновцев. В картотеке сказали, что они у вас.
– Они у генерала. Я же объяснил. Они все сконцентрированы в одном месте.
Везич спросил:
– Чтобы сподручнее было передать?
– Кому? – поинтересовался Шошич.
– Представителям власти.
– Какой?
– Разве власть имеет определение? Власть – это власть, дорогой Шошич. Или нет?
– Власть – это власть, – повторил тот задумчиво и неожиданно спросил: – Вы сговорились?
– С кем?
– Сговариваются, как правило, с другой стороной. С контрагентом.
– У меня много контрагентов. С каким именно? Вообще-то я умею сговариваться. Так уж у меня выходит, что я в конце концов сговариваюсь, особенно если обстоятельства сильнее меня.
– Напишите рапорт генералу, объясните, чем вызвана необходимость срочного знакомства с картотекой на коминтерновцев, и, я думаю, он даст указание...
«Хотят передать немцам или усташам документы в полном порядке, чтобы сразу начали действовать, – понял Везич. – И этим получат гарантии для себя».
– Как вы понимаете, судьбой коминтерновцев, которых взяли, и тех, кого должны взять, интересуюсь не только один я, – сказал Везич.
– Верно. Их судьбой мы интересуемся в такой же мере, как и вы. Только те, которые уже взяты, прошли мимо нас. Это делает нынешняя власть.
– Через «градску стражу»?
– Да. И через «селячку», и через «градску»...
– Но, значит, это выгоднее усташам, чем нам с вами. Вы же знаете, что в «селячкой страже» мало интеллигентных людей.
– Знаю. Но, повторяю, это случилось вне и помимо нас.
– Я хочу, чтобы вы меня верно поняли: арестованные интеллектуалы из Коминтерна должны представлять объект игры, а не пыток. Боюсь, что наши конкуренты из «селячкой стражи» не смогут понять разницы между этими – столь диаметральными – аспектами проблемы.
Шошич слушал Везича с напряженным вниманием. Он знал, что из тюрьмы, из кабинета Ковалича, полковника вытащили немцы. Значит, считал он, Везич сторговался с ними. Значит, разговоры о том, что сюда придут усташи, – пустые разговоры, значит, как он и предполагал, хозяевами положения окажутся немцы, на них и надо ориентироваться. Иван Шох не звонит и не появляется, а Мачек неожиданно уехал в Белград. Однако, по наведенным справкам, Шох вместе с ним в столицу не отправился. Видимо, Шох сейчас не та фигура, которая может быть нужна ему, Шошичу, в ближайшие дни. Либо Шох переметнется к немцам (о давних его связях с Фрейндтом подполковник не знал), но тем, считал он, Шох неинтересен вне и без Мачека; немцам куда как интереснее полковник Везич.
– Я вас прекрасно понимаю, – сказал Шошич, – и совершенно с вами согласен. К сожалению, лично я не могу решить вопрос. Но я готов доложить ваш рапорт генералу немедленно.
– Я думаю, что арестованных коминтерновцев надо немедленно забрать к нам. Сюда. Это так же целесообразно, как и концентрация в одном месте всех картотек и архивов.
– Шубашич их не отдаст.
– С ним уже был разговор об этом?
– Нет. Но мне так кажется.
– Если кажется, перекрестись, говорят православные, тогда не будет казаться.
– Единственный, кто мог бы приказать «селячкой страже» передать их нам, – задумчиво сказал Шошич, – это вице-губернатор Ивкович. Оппозиция всегда готова подставить подножку парламентскому большинству. И потом Ивкович связан с Белградом. – Шошич налил ракию себе и Везичу. – Пока что, во всяком случае. Попробуйте через него, а?
Профессора Мандича дома не было. Горничная сказала Везичу, что «господин профессор сейчас работают в университетской библиотеке». Везич нашел профессора в маленьком зале для преподавателей. Тот сначала недоумевающе поглядел на полковника, потом недоумение сменилось детским, неожиданным на его лице интересом, а потом Везич прочитал на лице историка ужас.
Профессор сидел в пустом зале, совершенно один, обложенный горою книг, и Везичу казалось, что он чувствует себя неприступным и сильным, когда отделен от мира такой баррикадой фолиантов.
– Немедленно уходите отсюда, – шепотом сказал Везич. – Немедленно. И скажите всем вашим друзьям, чтобы они тоже уходили. В ближайшие два-три дня начнутся массовые аресты. Я Везич, редактор Взик говорил вам обо мне. Это я звонил вам. Цесарец в тюрьме. Вам надо исчезнуть. Эмигрировать. Затаиться.
– Эмигрировать и затаиться, – так же шепотом повторил Мандич. – А драться будет кто? Кто будет драться?
– Тише вы...
– Здесь нет шпиков!
– Есть. Здесь всегда было очень много шпиков. В библиотеках и университетах нельзя жить без шпиков, профессор. Словом, времени у вас нет. Скажите друзьям, что все картотеки на коммунистов будут переданы немцам. И сразу же пойдут аресты. Повальные. Вторжение намечено послезавтра. В Белграде празднуют пасху; люди будут пьяны и беззаботны – самое время начинать против них войну.
– А если я истолкую ваши слова как полицейскую провокацию? – спросил Мандич. – Что, если вы просто-напросто запугиваете? Может, вы хотите, чтобы мы эмигрировали? Может, вы хотите расчистить поле для себя, чтобы вам никто не мешал творить ваше зло?! Так может быть?
– Может быть и так.
– Ну а почему в таком случае я должен вам верить?
– Слушайте, вы никогда не были функционером, и слава богу, иначе бы вы сразу завалили организацию – при вашем-то темпераменте. Сообщите мои слова своим товарищам. Они оценят эти слова правильно. Только сделайте это сейчас же. Немедленно, профессор!
«...Он мне не поверил, – понял Везич, останавливая машину около дома Ивана Кречмера, работавшего в «Интерконтиненталь турист-биро». – Он мне не поверил, и его можно понять. Я не так говорил. С ними надо говорить по-иному. Я должен был сказать, что для продолжения борьбы сейчас надо затаиться и уйти в подполье. Тогда бы он поверил. А я говорил с ним как с самим собой. Чем больше добра мы хотим сделать другому, тем больше мы стараемся отдавать ему свои мысли и этим приносим зло, ибо каждый человек живет по-своему».
Из «Интерконтиненталь турист-биро» Везич поехал к Ладе.
– Вот, – сказал он, положив на стол билеты, – в три часа ночи мы улетаем. Собирай чемоданы. Только самое необходимое. Я съезжу к приятелю и вернусь.
– У тебя нет приятелей, – сказала Лада. – У тебя никого нет, Петар. Не езди.
Он посадил ее рядом с собой.
– Давай поскандалим, а? Мы теперь муж и жена, и нам необходимо периодически скандалить. Иначе будет какая-то чертовщина, а не жизнь. Давай, Ладица?
Она улыбнулась, и круглые глаза ее показались ему огромными, потому что в них стояли слезы.
– Нет, – сказала она. – Я не стану скандалить, не научилась этому. Дура. Надо было учиться. Тогда бы ты остался. Мама говорила, что мужчина благодарен женщине, если она может настоять на своем. А я не умею. Такая уж я дура. В Швейцарии я с тобой разведусь. И снова нам станет прекрасно и свободно...
– Чтобы нам всегда было прекрасно, я должен иметь право смотреть тебе в глаза, Лада. Я не смогу смотреть тебе в глаза, если не встречусь с человеком, который меня ждет. Эта встреча нужна не только ему, хотя и ему она очень нужна. Эта встреча нужна мне. Я не могу уехать, если в доме пожар, а люди заперты в комнате на последнем этаже и нет лестницы, чтобы спуститься. Понимаешь?
– Я поеду с тобой, можно?
– Нет. Тогда я ничего не смогу сделать. Вернее, тогда не состоится встреча. Я должен был бы оговорить заранее, что буду не один. Люди моей профессии пугливы, Лада.
– Если бы ты был пугливый, ты бы не поехал.
– Если бы я не был пугливым, – медленно ответил Везич, – я бы уговорил тебя остаться здесь, а не поддался тебе. А я с радостью поддался тебе. Я испугался, Лада. Я вернулся из Белграда испуганным. Я теперь никому не верю, кроме тебя, – иначе я бы остался здесь. Понимаешь? Если драться против кого-то, надо верить тем, вместе с кем ты решил драться. А я не могу, я не умею верить людям. Полиция учит многому: она учит осмотрительности, хитрости, анализу, умению расчленять человека на составные части, выделяя в отдельные папочки зло в нем, добро, увлечения, слабости. Она многому учит, а научив, убивает веру. Я только одному человеку на свете верю – тебе. Поэтому я и ухожу с тобой. Убегаю... С тобой... Понимаешь?
...Рядом с Родыгиным сидел невысокого роста, очень дорого одетый человек, и сразу было видно, что он привык так одеваться, и привык к тому, чтобы вокруг него вились официанты, и привык встречать в таких дорогих загородных ресторанах своих гостей – сдержанным кивком головы и молчаливым предложением занять место за столом.
– Господин Абдулла, господин Везич, – познакомил их Родыгин.
Везич и Абдулла цепко приглядывались друг к другу.
– На каком языке вы предпочитаете говорить? – спросил Родыгин. – Господин Абдулла – мусульманин, он не знает сербскохорватского.
– Сербскохорватского, – усмехнувшись, повторил Везич, – я бы на вашем месте – в Загребе, во всяком случае – не обозначал таким образом наш язык... Или бы поменял местами... Я готов говорить на немецком или английском.
– Французский вас не устроит? – с явным сербским акцентом спросил Абдулла. – Немецкий и английский несколько сковывают меня. Моя стихия – латинские языки. Но, впрочем, я готов беседовать с вами на английском.
– Времени у меня в обрез, – сказал Везич. – Я уезжаю, – пояснил он, заметив вопросительный взгляд Родыгина. – Да, да, бегу. Но я обещал прийти и пришел. Что касается ваших единомышленников, их взяла «селячка стража», это акция Мачека и Шубашича, которые таким образом готовятся к встрече с новыми хозяевами. Мне кажется, этот их шаг продиктован желанием доказать Берлину, что они не дадут спуску вашим друзьям и что незачем для этого тащить в Загреб Павелича. Арестованные люди – карта в игре за власть.
– Вы убеждены, что эту карту будут разыгрывать только Мачек и Шубашич?
– Не убежден.
– Я тоже, – согласился Абдулла. – Я далеко не убежден в этом. Что можно предпринять для их спасения?
– Мне стало известно, что вице-губернатор Ивкович готов к обсуждению вопроса и может помочь вам.
– С Ивковичем уже говорили. Он занял верную позицию; он встречался с Шубашичем, но губернатор отказался освободить Кершовани, Прицу и Цесарца с Аджией. От кого вы, кстати, узнали имя Ивковича?
– От Шошича. Вам это ничего не скажет.
– Почему же, – усмехнулся Абдулла, – имя Владимира Шошича мне кое о чем говорит.
– Я пытался предупредить через Мандича, что картотека на коммунистов подготовлена к передаче новой власти. Вашим надо уходить.
– Речь идет только о функционерах или о сочувствующих тоже? – спросил Абдулла.
– По-моему, речь идет обо всех тех, кто когда-либо разделял идеологию большевизма. Обо всех поголовно.
– Почему вы решили уйти, Везич? Почему бы вам не остаться? Не все капитулируют, поверьте мне.
– В Белграде был я, а не вы. С помощником премьера в Белграде говорил я, а не вы...
– Верно, – согласился Абдулла, – я с помощником премьера не говорил, я говорю с самим премьером. Не в нем ведь дело, в конце концов. В Югославии есть иные силы. Эти силы будут вести борьбу.
– Но я боролся против этихсил. Я боролся против тех сил, о которых вы говорите, – заметил Везич. – Думаете, об этом не знают все ваши? Думаете, это легко забывается? Чувствовать себя ренегатом, причем двойным ренегатом, – можно ли в таком состоянии драться? Я пробовал говорить с вашимив Белграде. Меня отвергли, мне не поверили. Если я потребуюсь и меня позовут и если я увижу толк в том деле, которое призовет меня, я приду.
– Как это понять?
– Это просто понять. Оставьте адрес, по которому я могу снестись с вами. Я напишу. Только пусть случится то, что должно случиться, и пусть я увижу то, что должно случиться после случившегося. Я хочу увидеть борьбу, настоящую борьбу, понимаете?
– Вы еще не встречали Штирлица?
– Его нет. Я звонил по всем телефонам.
– Не надо больше звонить, – попросил Абдулла.
– Вы перестали им интересоваться?
– Перестал. Но я очень интересуюсь вами. И, чтобы я мог дать вам номер своего почтового ящика в Мадриде или Лиссабоне, мне нужна гарантия. Вам этот адрес больше нужен, чем мне, полковник. Вы, по-моему, человек честный, и в полицию вас занесло не из корысти, а по соображениям иного, более серьезного порядка. Но мой адрес вам понадобится. Когда здесь начнется то, что должно начаться, вы не сможете спокойно и честно смотреть в глаза Ладе...
Везич задержал бокал с «Веселым Юраем» на половине пути.
– Вы серьезно работаете, – сказал он.
– Иначе не стоит, – жестко ответил Родыгин, и Везич заметил, как дрогнули в снисходительной улыбке губы Абдуллы.
– Если бы вы решили остаться в Загребе, никакой гарантии от вас мне не нужно, – продолжал Абдулла. – Но поскольку вы уезжаете, гарантия должна быть дана в письменной форме.
– Так я не умею, – сказал Везич. – Так я работал с проворовавшимися клерками, которых внедрял в марксистские кружки. Я не смел так говорить с серьезными людьми...
– Повторяю, – словно не обратив внимания на его слова, продолжал Абдулла, – мне нужно, чтобы вы написали на имя оберштурмбанфюрера Штирлица коротенькую записку следующего содержания, которое вас ни к чему – в конечном счете – не обязывает: «Я взвесил ваше предложение и считаю целесообразным принять его в создавшейся ситуации». Подпишитесь любым именем. Это все, что мне от вас нужно.
– Вы должны объяснить мне, зачем вам это, господин Абдулла.
– Мне это нужно для того, чтобы, оставаясь здесь, продолжать работу против нацистов.
– Что вам даст мое письмо?
– Оно даст мне Штирлица. Он сделал на вас ставку, и вас по его требованию освободили из-под ареста. Если бы не он, с вами бы покончили. В этом был заинтересован Мачек, в этом были заинтересованы усташи, которые очень не любят Мачека, и в этом были заинтересованы наци, которые в равной мере играют и с Мачеком, и с усташами.
– Таким образом, я передаю вам, русскому резиденту, мое согласие на сотрудничество с нацистами?
– Да.
– Напишите мне, в таком случае, следующее: «Я, Абдулла, представляющий интересы СССР, получил от полковника Везича расписку на согласие фиктивно работать со Штирлицем в интересах рейха. Это согласие считаю целесообразным».
– Хорошо. Только я внесу коррективы, – согласился Абдулла и, достав из кармана «монблан» с золотым пером, быстро написал на листочке, вырванном из блокнота: «Я получил расписку на ваше согласие работать в пользу рейха, считая эту фиктивную работу необходимой в настоящее время – в тактических целях. 71». – Такая редакция вас устроит?
Везич прочитал листок, протянутый ему Абдуллой, спрятал его в карман и попросил:
– Дайте блокнот.
– Пожалуйста.
– Я вырву два листа. На одном я напишу ваш адрес, на другом – письмо Штирлицу.
– Адрес записывать не надо. Адрес лучше запомнить. Мадрид. Главный почтамт. Почтовый ящик 2713, сеньору Серхио-Эммануэль-Мария Ласалье. О вашем письме я узнаю через три дня, где бы ни находился.
Везич быстро написал свое письмо Штирлицу и еще раз повторил вслух:
– Сеньор дон Серхио-Эммануэль-Мария Ласалье, 2713.
– Верно. Пишите мне лучше по-немецки. О погоде на Адриатике. О живописи Сезанна. Главное – письмо от вас. Это значит – вы готовы драться. Еще один вопрос...
– Пожалуйста. – И Везич взглянул на часы.
– У вас же вылет в три, – сказал Абдулла, – еще масса времени.
– Профессор Мандич уже ушел на конспиративную квартиру? – спросил Везич, поняв, что его весь день «водили» по городу люди этого маленького, надменно спокойного человека.
– Я не зря спросил вас о сочувствующих. Нет, он еще не ушел. Теперь мы знаем, что он тоже под ударом, и скроем его... Вы сообщили моему другу о данных полковника Ваухника. Кто вам сказал о них?
– Генерал Миркович.
– Их два, Мирковича. Который именно? Боривое?
– Да.
– В связи с чем он сказал вам об этом?
– Он понял мое отчаяние.
– А вы не допускаете мысль, что он проверял вас? Может быть, он хотел понять вашу реакцию? Вы ему больше вопросов не задавали?
– Мы с вами в разведке, видимо, лет по десять служим, а?
Абдулла улыбнулся доброй, открытой улыбкой, и Везич заметил, какие красивые у него зубы, словно у американского киноактера Хэмфри Богарта.
– Это я как-то упустил, – тоже улыбаясь, согласился он.
– Я сейчас вернусь, – полувопросительно сказал Родыгин, поднимаясь.
– Да-да, – согласился Абдулла, – я жду вас.
– Куда он? – спросил Везич.
– Проверить, не смотрят ли за вами. На улице наши люди, они наблюдают за теми, кто появляется здесь. Загород, сразу ведь чужих заметишь...
– Вы остаетесь? – спросил Везич.
– Не понял: вы имеете в виду этот кабак или Загреб?
– Я имею в виду Югославию.
– Да, мы здесь остаемся, – ответил Абдулла.
– Идеализм – не ваша религия.
– Именно потому и остаемся здесь, полковник. Мы готовы к войне.
– И если бы я решил остаться...
– Мы бы помогли вам, – ответил Абдулла, – мы умеем помогать друзьям.
Абдулла нарушил правила конспирации. Он не имел права встречаться с Везичем. Но по своим каналам он узнал о той операции, которую проводил Штирлиц. Абдулла понимал, как важно сейчас Штирлицу иметь подтверждениеудачи в работе с Везичем, и только поэтому пошел на то, чтобы нарушить правила конспирации – он был обязан вывести из-под удара товарища.
(Со Штирлицем он встречался трижды: два раза в Париже и один раз в Бургосе. В Париже Абдулла носил имя Мустафы, а в Бургосе был сеньором Ласалье, который ворочал крупными финансовыми операциями на брюссельской бирже.)
...Той же ночью, выслушав Родыгина, Штирлиц еще раз перечитал записку Везича и спрятал ее в карман.
– Значит, говорите, Ваухник... Вы, надеюсь, еще не послали шифровку с указанием точного дня нападения?
– Шифровка ушла час назад.
– Вам не поверят, – сказал Штирлиц, – и зря вы поторопились.
У него были основания говорить так. Он знал, что Шелленберг лично завербовал Ваухника, словив его с помощью женщин («Что бы делала разведка без баб? – смеялся потом Шелленберг. – Без баб разведка превратилась бы в регистрационное бюро министерства иностранных дел»). Ваухник узнавал высшие военные секреты рейха. Работал он блистательно, через третьих и четвертых лиц, и засекли его случайно, получив ключ к коду югославского посольства. У Гейдриха глаза полезли на лоб, когда он читал шифровки Ваухника. Он даже не решился доложить их Гиммлеру, сообщив в общих лишь чертах, что в Берлине существует канал, по которому уходит секретная информация. На то, чтобы открыть все связи Ваухника, было потрачено три месяца. Занимался этим лично Шелленберг. Он взял Ваухника с поличным и – в обычной своей стремительной манере – поставил его перед выбором: или сотрудничество с РСХА, или расстрел. Ваухник согласился работать с Шелленбергом и передал ему все свои контакты с французами и англичанами.