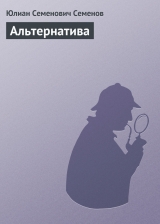
Текст книги "Альтернатива (Весна 1941)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Я вас понимаю, – ответил Йованович, – но боюсь, что вы предлагаете рискованный ход: трудно управлять джинном, выпущенным из бутылки. Мы потом можем не сдержать великосербские настроения...
– Ну и что? Мы же с вами не в покер играем. Может быть, эта «неуправляемость» заставит Симовича предпринять более четкие шаги и делом подтвердить свою верность Тройственному пакту?
– Не надо считать меня наивным ребенком, господин Веезенмайер. Я же понимаю, в чью пользу можно обратить неуправляемые акции сербского населения...
– Вы думаете, мы нуждаемся в предлоге? – спросил Веезенмайер.
– Думаю, что нуждаетесь.
– Ошибаетесь. Мы ни в чем не нуждаемся. А вот вы нуждаетесь в наших гарантиях. Лично вы. И те ваши друзья, которые позволяют себе колебания в этот сложнейший момент.
Йованович от слежки оторвался и с первым же поездом уехал в Белград. Там он пришел в Сербский клуб, встретился с рядом профессоров, потом поехал в университет и в редакции трех газет, побеседовал с политическими обозревателями, а назавтра на улицах городов стали слышны лозунги:
– Хорваты – предатели!
– Почему Мачек не едет в Белград? Боится Гитлера?
– К стенке хорватских квислингов – цепных псов Гитлера!
– Слава сербам, единственному верному оплоту Югославии!
– Бей хорватских католиков!
– Да здравствует правительство сербов!
Страсти нагнетались. Армия, вместо того чтобы активно готовиться к вторжению извне, патрулировала города и села, чтобы не дать вспыхнуть межнациональной резне.
Загреб остро прореагировал на новую ситуацию: Мачек несколько раз связывался с Белградом. Его заверили, что провокации будут пресечены. Мачек тем не менее дал негласное указание хорватским газетам сообщить в завуалированной, правда, форме о том, что происходит в Сербии. Газеты с этими сообщениями в Белграде были конфискованы, в Загребе же они разошлись громадными тиражами. На тех хорватских домах, где были вывешены югославские флаги в день прихода к власти Симовича, после того как слухи о великосербских устремлениях Белграда докатились до Загреба, флаги были сняты. Дом серба можно было узнать по флагу, дом хорвата узнавался по тому, что национальный флаг вывешен не был.
Мачек до сих пор не дал ответа, согласен он войти в правительство Симовича или нет, хотя сообщение о том, что он является его первым заместителем, было опубликовано через два часа после переворота...
Получив задание Фохта встретиться с представителями германских фирм, работающими в Загребе, Штирлиц, отказавшись от предложенной ему машины, отправился в город. Он шел по Загребу, любуясь этим странным, двуединым – славянским и одновременно европейским – городом, и вдыхал всей грудью сладкий воздух, в котором гулко стыли удары колокола на громадном средневековом храме, и жадно слушал славянскую речь, читая вывески у подъездов: «Ключничар», «Лекар», «Столар», – и вспоминал, как всего неделю назад он был в генерал-губернаторстве, в тех землях, которые раньше были польскими, а теперь принадлежали Германии и заселялись немцами. Командировка была краткой и пустячной: Шелленберг поручил ему просмотреть личные библиотеки в фольварках, оставленных польскими магнатами, – шеф шестого отдела РСХА мечтал собрать библиотеку для ведомства внешнеполитической разведки, чтобы сотрудники могли изучать противника – и настоящего и гипотетического – по «первоисточникам».
Сделав все дела, Штирлиц поехал на вокзал.
В станционном буфете он заказал пива. Окна были затемнены, хотя эту польскую станцию ни разу не бомбили, да и вообще англичане ни разу не бомбили территорию рейха восточнее Берлина.
Кафельная печка была жарко натоплена, гудели, маневрируя на путях, паровозы, и Штирлиц думал о том, что люди – сгусток непонятных странностей: во время океанских путешествий, когда кругом лишь вода и небо, они ведут ежедневный журнал и заносят в него самые, казалось бы, незначительные малости, а странствуя по суше, только избранные, только те, кто умеетпутешествовать, делают дневниковые записи. Штирлиц часто вспоминал Альфонса Доде: веселый и мудрый француз описывал некоего мсье, который вернулся из Австралии и на просьбу рассказать что-нибудь об этой диковинной стране всех огорошивал: «А вы ни за что не угадаете, почем там картофель!»
Штирлиц вдруг явственно увидел лицо отца. Он сначала не понял, отчего это, а потом вспомнил, что именно отец учил его преклонению перед музой дальних странствий, когда они в сибирской ссылке ходили к железной дороге – затаенно любоваться проходившими поездами.
Когда объявили посадку на поезд, следовавший из Москвы в Берлин, Штирлиц допил пиво, дал буфетчице на чай так, чтобы это было не очень заметно остальным офицерам, и отправился к своему вагону. Как оберштурмбанфюреру СС, ему полагался первый класс, и место его было в том купе, где ехала женщина с сыном, белобрысым, в веснушках мальчуганом лет пяти.
«Русские, – сразу же определил Штирлиц. – Господи боже ты мой, русские! Наверное, из торгпредства».
Он поклонился женщине, которая, застегнув длинную шерстяную кофту, торопливо убрала со столика два больших свертка («Я по этим сверткам определил, что они русские. Только наши возят в таких бумажных свертках еду: сало, черный хлеб, яйца, сваренные вкрутую, и плавленые сырки») и, посадив сына на колени, начала читать ему стихи про дядю Степу.
Штирлиц повесил свой плащ, еще раз поклонился женщине и, сев к окну, достал из кармана газеты.
– «В доме восемь дробь один у заставы Ильича, – читала женщина шепотом, – жил огромный гражданин по прозванью Каланча...»
– Мам, а это фашист? – спросил мальчик, задумчиво разглядывая Штирлица.
– Тише, – испуганно сказала женщина, – я что тебе дома говорила?!
Осторожно взглянув на Штирлица, она как-то жалко улыбнулась ему и начала было дальше читать про дядю Степу, но сын не унимался.
– Мам, – сиплым шепотом спросил мальчик, – а правда, Витька говорил, что у Гитлера один глаз фарфоровый и нога костяная?
– Пойдем в уборную, – сказала женщина и, быстро поднявшись, потянула мальчика за руку.
– А я не хочу, – сказал он, – ты ж меня недавно водила...
– Я что говорю?!
– Едете в Берлин? – спросил Штирлиц, поняв – до горькой теплоты в груди – волнение женщины.
– Ich verstehe nicht. Mein Mann arbeitet in Berlin, ich fahre zu ihm2
[Закрыть]... – ответила она заученно.
– Чего ты фашисту сказала? – по-прежнему шепотом спросил мальчик, но женщина, рванув его за руку, вывела в коридор.
«Сейчас достанется, бедненькому, – подумал Штирлиц, – с ним трудно, как его проинструктируешь?»
В дверь постучали: буфетчик развозил по вагонам пиво, воду, сосиски и шоколад.
– Шоколад, пожалуйста. Две плитки, – попросил Штирлиц.
– Кофе?
– Нет, благодарю вас.
– Бельгийские кексы?
– Покажите.
– Пожалуйста.
Обертка была красива, и Штирлиц купил две пачки.
Когда женщина с мальчиком вернулась, Штирлиц протянул малышу шоколад.
– Пожалуйста, – сказал он, – это тебе.
Мальчик вопросительно посмотрел на мать.
– Спасибо, – быстро ответила женщина, – он только что ел.
– Пожалуйста, – повторил Штирлиц, – это хороший шоколад. И кекс.
– Мам, а в «Докторе Мамлоке» такие же фашисты были? – спросил мальчик, завороженно глядя на шоколад.
Женщина больно сжала его маленькую руку, и мальчик заплакал.
– Вот, вы лучше угощайтесь, – громко заговорила она, считая, видимо, что чем громче она будет говорить, тем понятнее будет иностранцу, и стала суетливо разворачивать снедь, завернутую в трескучую, шершавую, русскую оберточную бумагу. – Чем богаты, тем и рады.
Она положила на бумажную салфетку крутые яйца, сало, кусок черного хлеба и половину круга копченой колбасы.
– Спасибо, – ответил Штирлиц и впервые за много лет ощутил запах дома: черный хлеб пекут только в России – заварной, бородинский, с тмином, с прижаристой коричневой корочкой снизу и с черной, пригоревшей – поверху. Он отрезал кусок черного хлеба и начал медленно есть его, откусывая по маленькому кусочку, как дорогое лакомство.
– Нравится? – удивленно спросила женщина.
Штирлиц должен был сыграть непонимание; он обязан был жить по легенде человека, не знающего русского языка, но он не стал играть непонимание, а молча кивнул головой.
– Мам, а Витька говорил, что у Гитлера один глаз фарфоровый, а нога костяная...
Женщина снова сжала руку мальчику, и он закричал:
– Больно же! Ну чего я сделал-то, чего?!
Штирлиц хотел погладить малыша по голове, но тот отшатнулся от его руки и прижался к матери, и та испуганно – не смогла скрыть – обняла его, словно защищая от прикосновения немецкого офицера в черной форме.
Вернувшись тогда в Берлин, Штирлиц поехал к себе домой, достал из бара бутылку можжевеловой водки, налил полный стакан и выпил – медленно, словно бы вбирая в себя этот тяжелый, с лесным запахом, крепкий, нелюбимый им напиток.
«Как же хорошо, что этот малыш так ненавидит фашиста! – подумал Штирлиц. – Как хорошо, что в глазах у него столько неприязни и страха! Только б дома не успокоились, только б не верили моим здешним шефам... Неужели верят, а?»
Он налил себе еще один стакан можжевеловой водки и подумал: «Этот стакан я выпью за малыша. Я выпью за него этот стакан водки, которую приходится хлестать только потому, что ее любит Гейдрих, а я должен всегда делать то, что может понравиться группенфюреру. Я выпью за маленького человека, который не научился еще скрывать ненависть к фашисту Штирлицу. Спасибо тебе, человечек. Пожалуйста, всегда ненавидь меня так, как ты меня сейчас ненавидишь. Страх в тебе пройдет: возраст должен убивать страх, иначе люди выродились бы в зайцев... Только, пожалуйста, не считай меня своим союзником – даже временно. Считай, что ты пока не воюешь со мной – этого хватит. Будь здоров, малыш, спасибо тебе!»
Каждому человеку отпущена своя мера трудностей в жизни; преодоление этих трудностей во многом и формирует характер. Чем тяжелее груз ответственности, тем больше, естественно, приходится преодолевать трудностей тому или иному человеку. Но особо трудно разведчику, внедренному в стан врага, ибо его деятельность постоянно контролируется Сциллой закона и Харибдой морали. Как совместить служение идее добрас работой в штаб-квартире зла– разведке Гиммлера? Как, работая с палачами, не стать палачом? Уступка хоть в мелочи, в самой незначительной мелочи, нормам морали и закона наверняка перечеркнет все то реальное добро, которое несет труд разведчика. Соучастие в злодействе – даже во имя конечного торжества добра – невозможно, аморально и противозаконно.
Именно этот вопрос постоянно мучил Штирлица, ибо он отдавал себе отчет в том, что, надевая черную форму СС – охранных отрядов партии Гитлера, он автоматически становится членом «ордена преступников».
Он нашел для себя спасение, и спасение это было сокрыто в знании. Окруженный людьми интеллектуально недостаточно развитыми, хотя и обладавшими хитростью, изворотливостью, навыками быстрого мышления, Штирлиц понял – в самом еще начале, – что спасением для него будут знания, и Шелленберг действительно держал его за некую «свежую голову» – редакционный термин применительно к политической разведке оправдан и целесообразен. Шелленберг имел возможность убедиться, что Штирлиц может доказательно разбить идею, выдвинутую МИДом или гестапо, то есть его, Шелленберга, конкурентами. То, что он использовал Штирлица как своего личного консультанта, позволило Штирлицу довольно ясно дать понять помощнику Гейдриха, что ему интересно делать, а что в тягость, в чем он силен, а в чем – значительно слабее других сослуживцев по шестому отделу СД. Он был незаменим, когда речь шла о серьезной и долгосрочной политической акции: знание английского, французского и японского языков, личная картотека на ведущих разведчиков, дипломатов и военных, смелость и широта мышления позволяли Штирлицу оказываться у самого начала работы. И, безусловно, с самого начала акция Шелленберга находилась под контролем советской разведки, и злупротивостояла правда.
Таким образом, именно знаниепомогло Штирлицу остаться человеком морали и закона среди рабов и слепых исполнителей чужой злодейской воли. Но это был очень тяжкий труд: все время все знать; все время быть в состоянии подготовить справку, все время быть в состоянии ответить на все вопросы Шелленберга и понять истинный смысл, сокрытый в этих его быстрых и разных вопросах.
Чтобы смотреть на свое отражение в зеркале без содрогания, чтобы рука не тянулась к пистолету – люди совестливые даже вынужденное свое злодейство долго выносить не могут, – чтобы с радостью думать о победе и знать, что встретишь ее как солдат, Штирлиц работал, когда другие отдыхали, уезжая в горы, на рыбалку или на кабанью охоту за Дрезден. Когда другие отдыхали, он работал в архивах и библиотеках, составлял досье, раскладывал по аккуратным папочкам вырезки, и это спасало его от практики каждодневной работы СД – его ценили за самостоятельность мышления и за то, что он экономит для всех время: можно не лезть за справками – Штирлиц знает; если говорит, то он знает.
«Много будешь знать – рано состаришься».
Он много знал. Он состарился в тридцать один год. Он чувствовал себя древним и больным стариком. Только он не имел права умирать до тех пор, пока жил нацизм. Он обязан был смеяться, делать утомительную гимнастику, говорить ворчливые колкости начальству, пить любимые вина Гейдриха, не спать ночами, побеждать на теннисных кортах, нравиться женщинам, учить арабский язык – словом, он обязан был работать. По законам морали. И никак иначе.
«Москва, ТАСС, принято по телефону стенографисткой М. В. Тюриной в 22.20 из Белграда.
Выполняя ваше повторное указание, взял билет на послезавтра – другой возможности не было. Всем этим удивлен. Костюков лежит в больнице.
Передаю последнее сообщение, завтра должен закончить с визовыми формальностями: венгры в визе отказали, ехать придется через Болгарию, хотя консульский отдел не убежден, что я получу визу там. Будут запрашивать Берлин, чтобы ехать через Вену. Подтвердите ваше «добро».
Ситуация в Белграде, судя по глубинным процессам, происходящим здесь, крайне сложная. Местная пресса по-прежнему хранит молчание, отводя большую часть места на газетных полосах сообщениям с фронтов в Африке, последним футбольным матчам, кинокартинам и премьерам в театрах.
Впрочем, впервые за последние дни здесь была опубликована небольшая статья в «Обзоре» о том, что собираются проводить в ближайшие месяцы деятели местного немецкого культурбунда, – фестиваль народной немецкой песни и танца, а также фестиваль немецких видовых фильмов. Это здесь расценивается как ответ на ту кампанию, которую начала германская пресса, печатая материалы о массовых гонениях, которым подвергаются в Сербии немецкие граждане, подданные Югославии. Впервые немецкая пресса выделила Сербию как район, где немецкое нацменьшинство подвергается якобы нападкам со стороны властей и населения. О положении в Хорватии немецкая печать ничего не дает.
Англо-американские журналисты, аккредитованные при здешнем МИДе, утверждают, что в ближайшие дни с правительственным заявлением выступит генерал Симович. В ответ на вопрос швейцарского корреспондента («Трибюн де Лозанн») заведующий отделом прессы МИДа г-н Растич заявил, что лично ему «ничего не известно о подготовке такого рода заявления и что положение в стране не вынуждает кабинет к принятию каких-либо экстренных мер. Контакты с Берлином поддерживаются по-прежнему», хотя всем известно, что фон Хеерен, германский посол в Югославии, или уже покинул, или собирается покинуть Белград в связи с «нецелесообразностью дальнейшей работы, ибо правительство не контролирует положение в стране».
Заметно усилился авторитет компартии. Требование немедленного заключения пакта о мире с СССР стало основным лозунгом демонстрантов, которым все труднее выходить на улицы, ибо армия сдерживает проявление антинемецких и просоветских выступлений. Мария Васильевна, передайте, пожалуйста, руководству, что ни я, ни кто иной из наших не сможет получить визу сюда, поскольку ситуация крайне сложная в городе и чувствуется во всем нервозность. Пусть доложат еще раз: Костюков в больнице, я уеду, кто будет передавать обзор информации из Белграда?
Потапенко».
– Я благодарен за то, – сказал Август Цесарец, оглядев главную университетскую аудиторию, заполненную студентами, – что профессор Мандич смог организовать нашу встречу: я понимаю как это трудно – пригласить в храм науки опального югославского писателя... Я хочу остановиться на одной общей проблеме, особенно важной для нас сейчас, в дни, полные тревог и надежд, в дни, когда определяется будущее нашей родины, страны южных славян, великолепной нашей страны – Югославии...
Август Цесарец отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре. Он не хотел пить, и горло у него никогда не пересыхало, но он нуждался в паузе, потому что в зале сидели не только его поклонники и друзья; здесь были и те, кто при упоминании Югославии начинал кашлять, возиться, пересмеиваться. Мальчики из подпольных организаций, связанных с усташескими группами, не хотели слышать «Югославия»; они требовали, чтобы слово «родина» определялось лишь как «Хорватия».
Зал сейчас хранил молчание, и Цесарец видел сотни глаз – внимательных, настороженных, ждущих от него слова правды, ибо разобраться в ошибке разных мнений, выявить истину в газетных статьях, часть которых ратовала за «тесный союз с Европой», другая часть настаивала на «немедленном союзе со славянской матерью, Москвой», третья часть предлагала проводить особую политику «балансировки на разностях европейских тенденций», – было довольно трудно не то что студенту, но даже человеку с определенным житейским опытом.
– Я хочу остановиться сейчас на некоторых отправных пунктах национализма, то есть того идейного течения, которое может быть источником высокого подъема нации, но одновременно может оказаться причиной крушения государства, деградации национального духа, причиной крови и слез ни в чем не повинных людей, караемых лишь за то, что их родители говорили на языке отцов, не понимая языка соседей. Я хорват, патриот югославского государства, как, я надеюсь, и все вы, но о национализме я начну говорить, исследуя поначалу становление национальной идеологии в Германии. Считается, что «доказательство от финала» больше подходит изящной словесности, но если мы обратимся к Геродоту, Цицерону или Криспу и вспомним великолепные слова древнего историка: «Прекрасно приносить пользу государству; неплохо также уметь хорошо говорить; прославиться можно и в мирное и в военное время; часто отзываются с похвалой как о тех, кто совершал подвиги, так и о тех, кто сумел описать подвиги других. А мне, хотя совсем неравная слава окружает того, кто пишет историю, и того, кто ее творит, представляется особенно трудной работа историка: ведь прежде всего словесное выражение должно стоять на равной высоте с описываемыми событиями, а кроме того, если автору случится с неодобрением отозваться о заведомой ошибке, большая часть читателей склонна видеть в этом недоброжелательство и зависть; при упоминании же писателя о великих заслугах и славе доблестных людей всякий с полным равнодушием воспринимает то, к чему считает себя способным, ко всему же, превышающему его силы, относится как к ложному вымыслу...», – то мы, видимо, утвердимся в том мнении, что приемы литературы отнюдь не чужды истории, если только относиться к этому предмету не как к музейной окаменелости, но как к скальпелю в руках хирурга, врачующего недуги будущего: лишь в этом случае и при таком условии литература и история окажутся неразделимыми, но не по принципу неразделимости добра и зла, а по высшему принципу единства честного и прекрасного...
Я начну с талантливого Фихте, который предвосхитил рождение национальной идеологии в Германии, который во время становления нации, то есть размежевания с наиболее близкими, угадал будущее, угадал тенденцию германского духа, приспособленную к экономическому развитию середины прошлого века. Он первым ощутил неприятие германской нацией романского мира, то есть самого ближнего, наиболее могущественного, и предвосхитил гимн того времени, «Вахту на Рейне». Континентальная Европа того периода, сложного и наполненного ожиданием, неясным и тревожным, Европа, пережившая взлет Наполеона, была похожа на весы, которые лишь ожидали руки, долженствующей поставить гирю на ту или иную чашу. Именно тогда в Германии – подспудно и осторожно – зрел процесс, видимый только на временном отдалении, сложный и непонятный во многом процесс выбора врага – гипотетического или реального. Выбор врага всегда происходит, одновременно с выбором союзника, ибо человечество, увы, как правило, объединяется не во имя чего-то, но против. Лозунг объединения, рожденный экономическим развитием немцев, естественно и неизбежно породил вопрос: «В каких границах?» Историческое право становится уличной девкой, которую пользуют прохвосты, удовлетворяя честолюбивую похоть. Ясно, что любой национализм цепляется в своих отправных постулатах за тот пик истории, когда народ достигал наивысшего успеха в государственном развитии. Политики обратились к историкам за справкой, и те напомнили им, что наивысшего пика немцы достигли во времена Священной римской империи германской нации. А вы знаете, какие земли входили в состав лоскутной, пронизанной ущемленным честолюбием Священной империи; Австро-Венгрия, которую Берлин всегда считал своей неотъемлемой частью, захватила исконные земли славян. Чтобы утвердить себя, надо победить врага. Если врага нет, его следует создать. Была создана «угроза панславизма», но в Берлине отдавали себе отчет в том, что угроза эта нереальная, гипотетическая. Эту угрозу надо было сделать реальной, близкой, понятной каждому бюргеру, для того чтобы, используя угрозу этой «опасности», выдвинуть лозунг объединения, который оказался бы панацеей от всех бед. Именно в ту пору оформилась в Германии вражда к славянам, и особенно к матери славян, России.
Национализм, если он не несет на себе печати откровенного идиотизма, неминуемо рождает свою концепцию. На смену «Вахте на Рейне», когда романский мир после Седана был поставлен на колени и единственным преемником великого Цезаря оказалась, по мысли Бисмарка, германская государственность, родился новый гимн: «Германия – превыше всего!» Не идея, не человек, не мечта, но государственность, определяемая национальной принадлежностью ее подданных. Национализм прожорлив: на смену концепции «Германия – великая держава» пришел термин «мировая держава». Категория духа – сгусток национализма. Категория духа того периода – я имею в виду конец прошлого века – была обращена на развитие германской экономики, подчиненной задачам «мировой державы». А целям Германии «мирового уровня» противостояла тогда Англия с ее флотом, колониями и банками. Англия стала тем «близким», которое в силу этого делается самым ненавистным. И ненавистное сделалось геополитическим образцом мировой нации, к которому так стремилась Германия. Занятная ситуация, не правда ли? Идеалом стал враг, против которого обращена пропагандистская машина кайзера, которому противостоят родившиеся Круппы и Тиссены. Стоит только посмотреть, какой ненавистью окружено в немецкой историографии имя Алексиса де Токвиля, министра иностранных дел в революционном правительстве Франции, созданном на гребне событий сороковых годов, когда этот прозорливый аристократ выдвинул идею биполярности мира, утверждая, что через сто лет, то есть в наши годы, будущее планеты будет определяться противостоянием двух гигантов – России и Северо-Американских Штатов. «Как? Россия и Америка?! А где великая Германия?! Французишка гадит! Ущербная нация прелюбодеев, завидующая величию немецкого духа!» Тем не менее открытая ненависть к Токвилю не помешала берлинским политикам весьма серьезно, но столь же постепенно пересматривать свою доктрину, обращенную в будущее. Именно тогда, в конце прошлого и начале нынешнего века, историки подошли к вопросу о теоретическом обосновании системы международных отношений как науки, а не прихоти того или иного лидера. Поэтому с начала нашего века, когда Германия добилась могущества в центре Европы, взоры ее руководителей все больше обращаются на восток, на главного врага – славян, на родину славянства – Россию. Все осторожнее высказывается германская пресса против надменного Альбиона, все более определенным становится отношение кайзера к Лондону – «мы, германцы и англосаксы, отвечаем за будущее Европы». Курт Рислер, советник канцлера Бетман-Гольвега, выдвинул теорию «скалькулированного риска». Каждый блок – и Антанта, и Тройственный союз – имеет свои отличительные особенности: в Антанте главными силами являются Англия и Россия, причем всем в мире понятно, что Россия – это развивающийся колосс, особенно когда идеи промышленного прогресса, трансформированные Марксом в «откровение от революции», все больше и больше проникали в Москву, Петроград и Киев. В то же время в системе германо-австро-венгерского блока Австро-Венгрия являла собой раковую опухоль: национальные противоречия подтачивали монархию Габсбургов изнутри. Между Берлином и Веной никаких противоречий гегемонистского плана не было – Берлин был над Веной, – в то время как конкуренция Петербурга и Лондона не составляла секрета. Где противоречия Англии и России наиболее очевидны? На Балканах. Следовательно, идея превентивной войны, целью которой было бы внести раскол в Антанту, отторгнуть от России Англию, включить Австро-Венгрию в битву за свои балканские интересы, стать, таким образом, европейским арбитром, была, по словам Мольтке, «богом данной идеей». Следовательно, сараевский выстрел оказался «божьим знамением» для Берлина в его последовательном пути к мировому владычеству через владычество европейское. Итак, неким пробным камнем германского национализма в его борьбе за свою «мировую идею» оказались Балканы, конкретнее – наша с вами родина, страна сербов, хорватов, словенов, боснийцев и македонцев. Каким же образом оказалось, что не Голландия с ее колониями, банками, флотом и портами, не Скандинавия, почитаемая германскими националистами истинно германской землей, не Италия, присвоившая лавры Цезаря, а земля южных славян оказалась тем кровавым полем, на котором начался похоронный звон по миллионам убитых более двадцати лет назад? Отчего и сейчас мы с вами являемся свидетелями трагедийной прелюдии? Обратимся к наполеоновским завоеваниям, которые в силу своей неприкрытой личностной агрессивности вызвали возмущение всех национальностей, оказавшихся под пятой парижского диктатора. Впрочем, мы могли бы начать с иного, обратившись к перечислению имен, ставших синонимом гениальности; я имею в виду Коперника, Сковороду, Толстого, Достоевского, Глинку, Сеченова, Менделеева, Теслу, Репина, Марию Склодовскую-Кюри, Сметану, Дворжака, Чапека, Шевченко, Шаляпина, – и уподобиться, таким образом, ребенку, который играет в дворовые игры «чей папа сильнее», но мы, увы, не дети, и такого рода игры взрослых людей приводят к гибели младенцев и женщин под бомбами, которые кидают с аэропланов мужчины, получившие образование в лицеях и университетах! Оставим упражнения в национальном чванстве тем, кто тщится доказать примат своей силы, пользуясь кровью соотечественников. Я не скрывал и не считаю возможным ныне скрывать, что всякого рода национальная исключительность продиктована узко классовыми интересами определенных слоев общества: в этом смысле гениальный славянин Ленин дал программу миру на многие века вперед!
Август Цесарец не ожидал, что овация будет такой шквальной, неожиданной.
– Я думаю, – продолжал он, не дав стихнуть аплодисментам, – что правительство немедленно должно объявить амнистию, и демократы, патриоты нашей славянской – не сербской или хорватской, но югославской – родины, должны выйти из тюрем! А следующим актом правительства обязана быть легализация партии коммунистов!
Он поднял руку, приглашая студентов к тишине, но овация шла, словно прибой, волнами: сверху вниз, снизу вверх, будто жила она сама по себе, отдельная от этих молодых людей, и от их рук, и от их глаз, устремленных на него, побледневшего от волнения, с багровыми пятнами, выступившими на лбу и на шее, – так с ним бывало всегда в минуты особенно сильного нервного напряжения.
– Итак, – продолжал Цесарец, – обратимся к периоду, последовавшему за наполеоновским нашествием, когда завоевателем были созданы «иллирийские» провинции, само название которых должно было убить в нас наше славянское существо и напомнить, что мы возвращены к тому статуту, который выделил нам в свое время Рим. Нет нужды сейчас прослеживать генезис славянской идеи, и уж совсем наивно прослеживать свое величие, силясь доказать то, что мы, славяне, являемся преемниками эллинского духа, – оставим в покое прах великого Македонского, поговорим о более близком. Нашествие агрессора, если использовать физическую формулу, подобно той силе, которая неминуемо родит антисилу, причем эта антисила тем могущественнее, чем неоправданнее гнет агрессора, чем возмутительнее его логика и практика его поведения. Именно тогда, во время борьбы против диктатора, хорваты и сербы были под одними знаменами. Они стали «иллирийцами» для того, чтобы утвердить себя славянами! Однако потом, после победы, пути хорватов и сербов начали расходиться, и это тем более парадоксально, что два наших славянских племени говорят на одном языке, поют одни и те же песни, наши матери рассказывают внукам одни и те же сказки, а наши юноши говорят своим подругам одни и те же слова любви. Что же разделяет нас, сербов и хорватов? Что же сеет между нами семена тяжелой ненависти? Девятьсот лет назад племя хорватов вошло в королевство Венгрии. С тех пор в нашем племени зрела ненависть к государственной власти, ибо власть эта была чужеязыкой, инокультурной по отношению к нашему народу. Впрочем, венгры не вырезали наше дворянство, уповая на то, что против каждого носителя славянской идеи, имевшего возможность обратиться к массе хорватских крестьян со словом гнева и свободы, они могут выставить по крайней мере трех перекупленных ими, воспитанных в Вене хорватских дворян, которые столь же талантливо запугают мужика турецкой или русской угрозой. Пять веков назад наши сербские братья были завоеваны турками; сербское дворянство было вырезано, и с тех пор у сербов зрела национальная идея, противоположная нашей, – идея славянской государственности, которая сможет защитить славянский язык, славянскую культуру, славянский дух, рожденный гением Кирилла и Мефодия, от византийской великодержавной доктрины. Следовательно, главное, что определяет расхождение между двумя братскими славянскими племенами, – это исторически сложившееся отношение к институту государственной власти. Второе противоречие между нашими племенами – противоречие религий, ибо сербское православие разнится от хорватского католицизма. И, наконец, третий пункт расхождений – это культурно-психологические устремленности наших народов: хорватское тяготение к венской, сиречь западной, культуре и сербское – к русской. Эта разность устремленностей наносит удар по идее славянской общности и служит тем, кто ищет повода для решения геополитических проблем. И как легко это делать искусным пианистам от дипломатии! Стоит лишь нажать на тот или иной клавиш в тот или иной момент – и готова реакция, пользуйся ею, поворачивай к своей выгоде! Как же юмористически – да простится мне кощунственность этого слова в данном контексте! – выглядят «великие национальные идеи», за которые вынуждают проливать кровь несчастных горцев и пахарей! Троньте струну «короны Томислава», и хорват начинает раздувать грудь и требовать сербского погрома. Скажите-ка сербу о «великой идее короля Стефана Душана», и он точит нож, требуя сатисфакции у хорватов! Я напомнил вам об этом сейчас, когда германский национализм, считавший и считающий ныне славян своими исконными врагами в Европе, начинает играть на педалях хорватского национализма, противопоставляя одно славянское племя другому, вытаскивая пропахший нафталином франковский лозунг – «Мала домовина, але своя!». Я напоминаю вам об этом потому, что примат национального момента над моментом классовым всегда приводит к крови и к гибели государства. Мечта о своем, «маленьком» хорватском государстве не столько наивна, сколько преступна, ибо, отклонившись от лагеря славянской общности, мы неминуемо обречем себя на роль полицейских ищеек, провокаторствующих в интересах третьей, мощной державы. На определенных этапах истории человечества высшим проявлением патриотизма является пораженчество. Но сейчас, перед лицом нацистской угрозы, пораженчество может быть расценено как измена делу славян, как предательство по отношению к той великой культуре, под шатром которой жить и жить еще нашим внукам и правнукам! Я напоминаю вам об этом, потому что наше югославское отечество в опасности!








