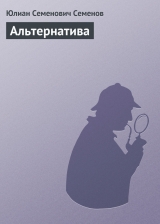
Текст книги "Альтернатива (Весна 1941)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Ты думаешь, что коммунисты...
– Да, да, да, – прервал его Везич, – да, Звонимир. Они – единственная партия здесь, которая называет себя югославской. Тебе странно слышать эти слова от полицейского? Но не все же в полиции дубины. Кому-то надо сидеть в полиции, чтобы думать и о будущем страны. Мне коммунисты так же антипатичны, как и тебе, но нельзя же быть слепцом! Если мы хотим сохранить государство, мы обязаны включать их силы в расклад общей борьбы.
– Почему ты обратился именно ко мне?
– Потому что я должен знать все обо всех. Я знаю о тебе все, Звонимир. Понимаешь? Все.
– Пугаешь?
– Нет. Отвечаю.
– Никогда не думал, что ты способен преступить служебный долг...
– Тут отличные вяленые фрукты. Заказать?
– Я бы выпил кофе.
– Уже заваривают. Здесь занятный хозяин, он из турок. Помогает нам. Мне, вернее. Я привлек его к работе: тут собираются интересные люди, потому что тихо и еда отменная. Все считают, что Мамед плохо понимает по-хорватски. В общем-то это так, но он хорошо понимает меня...
– Ты так ответил на мое замечание о служебном долге?
– Да, – спокойно отозвался Везич. – Ты верно меня понял. Чтобы иметь возможность работать, нужна надежная страховка, Звонимир.
Служба наблюдения, пущенная Петаром Везичем за профессором Мандичем на день раньше его коллеги, сообщила о цепи: после ухода Звонимира Взика профессор посетил паровозного машиниста Фичи, тот отправился к юристу Инчичу, который, в свою очередь, встретился со студентом университета Косом Славичем, на квартире которого в тот вечер собрались пять членов подпольного ЦК, непосредственно связанные с Тито.
Полковник Везич поблагодарил службу наблюдения за операцию, столь четко проведенную, спрятал в сейф адреса явочных квартир и фотографии их хозяев, но рапорта начальству, как того требовал устав, писать не стал. Он ждал, как будут развиваться события. Все должен был решить вопрос, обсуждавшийся на бесконечных вечных заседаниях кабинета: объявлять мобилизацию армии по плану Р-41, согласно которому следовало немедленно входить в контакт с греками, чтобы выстраивать общую линию обороны против Италии, Германии, Венгрии, Болгарии и Румынии, или же сделать главную ставку на попытку политического решения кризиса, на новое соглашение с Гитлером. Берлин вел игру: чиновники МИДа, принимая югославского посла, намекали на возможный компромисс; германский же поверенный в делах в Белграде считал такой компромисс невозможным. Когда есть два выхода, человек пребывает в колебании, какой выбрать. Генеральному штабу вермахта только этого и надо было: каждый час, не то что день, ослаблял противника, ибо югославам надо было развернуть войска на трех тысячах километров ее границ. Это значило, что сотни паровозов и автомашин, тысячи вагонов должны быть подготовлены, заправлены углем или бензином; это значило, что интенданты обязаны приготовить помещения для войск, обеспечить их питанием и медикаментами. Однако вся эта гигантская машина могла быть пущена лишь в тот момент, когда правительство объявит мобилизацию.
В стране шли слухи о предстоящей мобилизации, но слух можно сфабриковать в тихих кабинетах тайной полиции, и поэтому задача германской разведки заключалась в том, чтобы установить истину и сообщить в Берлин совершенно точно, чего следует ожидать в ближайшие часы. Веезенмайер поручил Дицу именно этот вопрос, хотя, в общем-то, такая задача не входила в прерогативы его «специальной группы». Но он правильно учуял в слухах несфабрикованность. Он не знал, конечно, о разногласиях между премьером Симовичем и генштабом, требовавшим развернуть мобилизацию в тот же день, когда был свергнут Цветкович. Не знал он и о том, что Симович принял решение, отмеченное двойственностью: «объявить к третьему апреля скрытую мобилизацию». Симович отвел семь дней на решение конфликта политическим путем, не поняв, что лучшее решение политического конфликта с таким человеком, как Гитлер, – противопоставление силе силы. Симович продолжал уповать на «рыцарскую честь» и «военное джентльменство». Когда ему говорили, что «банде надо противопоставлять не довод, а силу», Симович морщился: «В вас говорит предвзятость. В конце концов они европейцы, а не гунны».
Его позиция – следоватьза событиями, не торопя их и даже не стараясь на них повлиять, его убежденность в том, что личностьдолжна лишь формулировать очевидное и не забегать, суетясь, вперед, в неведомое и пустое будущее, – сыграла с ним злую шутку: он без боя отдал «темп», вещал, вместо того чтобы действовать, изображал, вместо того чтобы быть.
А в это время войска фельдмаршала Листа уже вышли на исходные рубежи вдоль восточных границ Югославии.
7. SUMMA SUMMARUM 3
[Закрыть]
Гитлер пригласил на ужин Розенберга, Кейтеля, Риббентропа и Бормана. Гостям подавали капустный салат, свиные отбивные, а фюреру вареную рыбу и картофель с оливковым маслом.
– Французское вино откупорили в вашу честь, Риббентроп, – сказал Гитлер. – Если бы повара не знали, что вы сегодня здесь ужинаете, мне бы не удалось выпросить у них эту красную кислую гадость...
– Мой фюрер, – ответил Риббентроп, – я обязал бы каждого немца ежедневно пить по стакану красного французского вина, потому что только так можно уравновесить извечную несправедливость природы: солнце светит на виноградниках Прованса раза в полтора активней, чем в Мекленбурге, а французское вино – это витаминизированный концентрат солнца.
– Вызовите на переговоры солнце, – усмехнулся Гитлер, – пригласите его на Вильгельмштрассе, а Кейтель отдаст приказ войскам быть наготове, чтобы оказать вооруженную поддержку винолюбивым политикам. Как салат?
– Очень хорош, – сказал Розенберг. – И, странно, он приготовлен по-славянски.
– Слава богу, здесь нет Гиммлера, – засмеялся Гитлер, – он бы тотчас приказал проверить генеалогию повара.
– Это сделаю я, – под общий хохот заключил Борман.
– Если в вашем поваре, фюрер, и есть славянское изначалие, то оно от добрых, аристократических кровей, – сказал Розенберг, – в России капусту в салатах почти не используют – картошка, морковь, соленый огурец и немного зеленого горошка.
– Я ел русский салат, – вспомнил Гитлер. – Это было за две недели перед тем, как я уехал из Вены в Мюнхен.
Судя по тому, как Борман подался вперед, отодвинул вилку, все поняли: сейчас начнется одна из тех речей фюрера, которыми славились «обеды для узкого круга» – с Герингом, Геббельсом, Гиммлером и Гессом. Гитлер не верил военным и не любил раскрываться в присутствии фельдмаршалов. Впрочем, чем больше за Кейтелем укреплялось прозвище Язагер4
[Закрыть], чем заметнее в глазах его горела постоянная алчущая заинтересованность, когда он слушал фюрера, тем менее напряженно чувствовал себя Гитлер в его присутствии, хотя на такие обеды приглашал не часто.
– Я шел по засыпающим улицам Вены, – продолжал Гитлер, – и странное чувство высокой печали сопутствовало мне. Вена была подернута синей дымкой, зажигались огни, и казалось, вокруг звучит музыка Штрауса. Я не отношу себя к поклонникам его таланта, в его музыке есть нечто лукавое, а всякое лукавство – от скрытого еврейства, но в тот вечер какая-то странная размягченность овладела мною и Штраус не раздражал меня, потому что я уже знал, что меня ждет в Мюнхене: борьба, страдания и победа. Три эти понятия однозначны одному имени – Вагнер! А всякая истинная сила не боится соседства легких скрипок и сантиментов. Контраст чувств рождает великую музыку и, соответственно, великое ее восприятие.
Гитлер откинулся на спинку стула и мельком взглянул на дорогой костюм Риббентропа, сшитый у лучшего венского портного.
– Я был голоден, – снова заговорил Гитлер, – гроши, которые я зарабатывал акварелями, не всегда давали возможность пообедать. Но я отложил из тех денег, которые были собраны на дорогу, несколько монет и решил устроить прощальный ужин. Я шел мимо ресторанов и кафе, выбирая то, которое окажется мне по карману. И вдруг увидел русскую вывеску. А Вена тогда подвергалась постоянному неприкрытому ославяниванию, которое проводилось по приказу безвольного Франца-Фердинанда, женатого на грязной чешской графине, заставлявшей этого несчастного говорить по-чешски даже за обедом и завтраком. «Чем же прельщают венцев русские?» – подумал тогда я. Надо знать врага во всех его ипостасях – разве кулинария не одна из форм пропаганды?! Разве повар – в определенный момент – не подобен писаке из социал-демократического листка?! Разве его оружие – сковорода и кастрюля – не служит идее: «Моя пища вкуснее твоей, красивей и здоровей»?!
Гитлер сделал глоток из толстого керамического стакана – врачи предписывали ему выпивать триста граммов мангового сока после обеда – и на какое-то мгновение задумался, тяжело нахмурившись. Как и все люди ущербного самолюбия, он часто начинал говорить, не зная, собственно, чем закончит. Другой мог бы замолчать, отшутиться, перевести разговор на иное, но Гитлер считал невозможным уподобиться простым смертным; он верил в свое призвание вещать, и его убежденность в примате слова произнесенного над словом написанным мешала ему; он постоянно и мучительно думал о том, как сломать плавное течение обычной застольной беседы, чтобы сделать свои слова предметом будущего исторического рассмотрения. Ему приходилось заставлять себя отстраняться, чтобы увидеть беседу со стороны; это помогало сосредоточиться, подчинить волю и мысль, заложенную в него свыше, и он решительно ломал ровное течение беседы и повторял – всякий раз по-разному – то, что уже когда-то было сказано им или написано.
– Я заказал себе салат, окрошку и гречневую кашу с гусем. Я помню эти названия так хорошо, словно это было вчера. Я помню вкус этой пищи – вкус сытости и лени! И я подумал тогда: «Эта громадная страна с ее богатствами, принадлежащая недочеловекам, бренькающим на балалайках, стоит – молча и угрюмо – на границах с государством германской расы. Если бы их необъятные земли обрабатывались немецким плугом и урожай собирался германским серпом, сколь сильны бы мы стали! Зачем больная мысль о колониях, думал я. Зачем сражение с Англией?! Союз с Англией против России, союз с державой морей, которой нечего делить с будущей державой материка, с державой немцев! Ну, хорошо, возразил я себе тогда, а если союз с Россией против Англии? Нет, ответил я, это нонсенс! Если уже сейчас Россия исподволь, постепенно через своих европейских наймитов – чехов – дурачит австрийцев, если славянское влияние проникло в немецкоговорящую Вену, о каком союзе может быть речь?! Если Россия станет могучей, она перейдет от молчания к диктату, от пропаганды борщом к пропаганде штыком! Нет и еще раз нет! Потомство проклянет Черчилля за то, что он так утонченно гадил идее германо-британского союза, пользуясь младенческим слабоумием древнего Чемберлена. Удар, который сокрушит Россию, приведет в Лондоне к власти тех здравомыслящих политиков, которые низвергнут Черчилля вместе с прогнившей идеей продажного британского парламентаризма. Придет вождь, который скажет саксам: «Смотрите на континент – там наши братья! С ними – к победе над силами гуннов!» Я помню, как тяжелая брезгливая ненависть вошла в меня, когда юркий чех поставил передо мной тарелку с бело-зеленым русским пойлом. Он сказал на их диком языке: «Приятного аппетита», – но я оборвал его: «Извольте говорить на языке нашего государства!» Он ушел, приниженный. Я подумал, глядя ему вслед: «А может быть, я слишком жесток? Может быть, он отец троих детей и уносит им из этой кормушки поздней ночью куски хлеба, и дети хватают эти объедки худенькими ручонками и жадно их поедают?..» Но я решил, что дух мой будет твердым, ибо он принадлежит не мне и не моему сердцу, ранимому людской болью, а нации германцев, которая должна владычествовать в мире, потому что только ее кровь, мозг и мускулы могут принести этому миру истинную свободу. «Да, мне придется, – сказал я себе тогда, – открытыми глазами смотреть на уничтожение людей, которые говорят на чуждом нам языке варваров. Да, возможно, сердце мое содрогнется от боли и глаза исторгнут слезы. Но пусть оно разорвется, мое сердце, пусть глаза ослепнут от слез, если им суждено видеть смерть, – пусть бы только росло и мужало племя германцев, наше с вами племя... Можно ведь привести к власти в Белграде, Варшаве, Праге других лидеров, можно! Можно заставить их клясться в любви к великой Германии. Но разве государственность или идея определяют реальность силы? Чепуха! Бред кудрявых апостолов от марксизма! Как бы ни клялся этот лидер в любви ко мне, он всегда останется славянином, человеком другой, низшей расы! Лишь раса, лишь кровь определяют все в этом мире, а никак не идея. Нет хорошего или плохого славянина! Есть просто славянин! Есть ли талантливый славянин – композитор, поэт, художник? Есть! Именно такой славянин опаснее всего, ибо он рождает и хранит дух. Страх – вот что ломает аристократов духа. Поэтому удар должен быть нанесен прежде всего против славянских талантов! Нации, которые не могут рождать дух, призваны покориться, прежде чем вымереть или превратиться в здоровых, хорошо организованных рабов. Поэтому, Кейтель, в первый же день югославской кампании необходимо нанести такой страшный удар по этому племени славян, чтобы их потомки замирали в страхе, встречая германца, их руки непроизвольно тянулись к кепке или папахе, чтобы сорвать ее в поясном поклоне перед победителем. Помните, друзья, опыт предстоящей кампании важен как лаборатория в исследовании возможностей славянского духа, учитывая предстоящую русскую кампанию... Если дорога в ад вымощена благими намерениями, то, быть может, путь в земной рай надо пройти по трупам?
Фюрер хотел сказать что-то еще, но неожиданно для всех поднялся и быстро вышел из комнаты. Следом за ним столовую покинул Борман.
«Пошел записывать, – понял Розенберг, – все-таки рейхслейтер устроился лучше всех – он постоянно соприкасается с гением или с его мыслью».
Вернувшись к себе, Риббентроп продиктовал телеграмму, которую попросил зашифровать и немедленно отправить Веезенмайеру:
«Ускорьте контакты с лидерами усташей. Помните, что чем страшнее будет террор возмездия против изменников сербов, продавшихся Лондону, тем униженнее оставшиеся в живых приползут к сапогам немецких солдат. Удар должен быть нанесен выборочно – и по тупой массе, по толпе, и по носителям духовных ценностей. В последнем случае необходимо ликвидировать всех инакомыслящих хорватов еще более непримиримо, чем сербов, ибо, дай мы тлеть углям неуправляемого хорватского духа, возгорится пламя неповиновения среди тех, кто должен стать на какое-то время карателем сербов...»
Розенберг отправил шифровку своему непосредственному представителю в Загребе – Вальтеру Малетке. Ее содержание резко отличалось от телеграммы Риббентропа.
«Вам надлежит, – писал он своему сотруднику, – сделать Мачека не просто нашим союзником; следует провести с ним такого рода подготовительную работу, чтобы в надлежащий момент он смог объяснить миру гнев хорватов против сербского засилья, и не просто объяснить этот гнев, но обосновать его теоретически, исходя из посылов нашей расовой теории. Эту работу вам надлежит проводить исподволь, настойчиво и энергично, не вмешивая в нее других представителей рейха, занятых по долгу службы в Загребе».
Кейтель продиктовал приказ генерал-фельдмаршалу Листу:
«Сотни самолетов должны обрушить на столицу Югославии тысячи тонн бомб в первые часы вторжения. Бомбардировка имеет не столько стратегическое значение, сколько демонстративное – как удар возмездия и кара страхом».
Этот документ – в копии – был послан Риббентропу: во-первых, чтобы показать рейхсминистру, как армия откликнулась на слова фюрера, а во-вторых, чтобы министерство иностранных дел сообщило немцам в Югославии о готовящемся налете и предупредило о необходимости – под любым предлогом – покинуть Белград шестого апреля с пяти утра до семи часов вечера.
Начальник имперского штаба Джон Дилл прилетел из Афин в Белград ночью, опасаясь нападения итальянских истребителей. Он был в штатском – такое условие поставил Симович: «Не надо злить немцев, не надо давать им карты в руки». С аэродрома он сразу же отправился к премьеру.
– Мы окажем вам помощь, – пообещал Дилл, – но в пределах реальных возможностей: в Греции у нас всего три дивизии, а Нильская армия не может оголять Суэцкий канал, потому что Роммель набирает силу в Африке. Мы сможем передать вам одну дивизию и одну моторизованную бригаду.
– Но у Листа по меньшей мере двенадцать дивизий.
– Я понимаю, – вздохнул Дилл, – я все понимаю, генерал, но пока еще не изобретен способ создавать солдат из воздуха. Я предлагаю, чтобы наши штабные офицеры начали немедленные переговоры о возможности отступления югославских армий к Салоникам, объединения их с греками и с нами и создания общей линии обороны.
– Господин фельдмаршал, речь, в таком случае, пойдет о защите британских интересов на Ближнем и Среднем Востоке, но отнюдь не о защите Югославии, – сказал Симович. – Возможно, наши объединенные части и удержат фронт в Салониках... Это будет означать, что я своими руками отдаю мою родину под власть Гитлера.
– Я понимаю, я все понимаю, господин премьер-министр. Но пока Россия не вступила в войну, единственный гарант европейского возрождения – Великобритания. Как это ни горько говорить, но вы, сражаясь за интересы империи, в большей мере поможете своей родине – в будущем, естественно, – чем если бы в настоящем решились на сражение с Гитлером. Я военный, как и вы, поэтому я говорю по-солдатски открыто и доверительно.
– Ставка на Москву? – спросил Симович. – Я ждал вашего приезда, чтобы окончательно выяснить военные возможности на Балканах. Итак, ставка на Москву. Как вы относитесь к этому?
– Если Кремль согласится выступить против Гитлера самим фактом переговоров с вами, этот шаг – во всех смыслах – будет иметь позитивное значение. И не столько сейчас, сколько впоследствии. Боюсь, впрочем, огорчить вас – мне сдается, что Кремль не рискнет начать с вами переговоры...
...Через два часа Симович вызвал для беседы советского поверенного в делах Лебедева.
– Пусть приготовят чай, – попросил он секретаря, – разговор, видимо, затянется, а я не спал две ночи.
Лишь после того, как Симович испробовал все пути для урегулирования отношений с Германией; лишь тогда, когда югославскому послу в Берлине было сказано, что «после тех актов террора, которым подверглись лица немецкой национальности в Белграде, впредь наши дипломатические отношения переходят на уровень консульских»; лишь после того, как главное командование югославской армии провело ночное совещание с фельдмаршалом Диллом и выявило со всей определенностью, что военная помощь Великобритании может носить лишь символический характер; лишь тогда, когда Симович убедился, что хорватский лидер Мачек по-прежнему саботирует участие в его правительстве и проводит в Загребе сепаратистскую линию, – лишь после всего этого Симович решил начать переговоры с Советским Союзом, хотя он мог и должен был начать их еще три дня назад.
Когда советский поверенный в делах Лебедев сообщил Молотову шифрованной телеграммой о том, что Симович обращается с просьбой заключить договор о дружбе и взаимной помощи, то есть тот самый договор, который был предложен Белграду Советским Союзом еще несколько месяцев назад, в дни, когда Риббентроп требовал немедленного присоединения Белграда к Тройственному пакту, шифровка эта была доложена Сталину.
– Заигрались, а нам расхлебывай, – попыхивая трубкой, хмуро проговорил Сталин. Он ходил по кабинету, ступая осторожно и мягко. – Что дает разведка? Какие у них данные о ситуации на Балканах?
– Она сообщает, что армии Листа в Болгарии начали передислокацию к западным границам, – ответил Молотов. – В Венгрии происходит концентрация германских войск в районах, которые прилегают к стратегическим дорогам, ведущим на Белград, товарищ Сталин.
– Что же это – война?
– Может быть, демонстрация силы? Нажим на Симовича...
– А поточнее? Война или демонстрация силы? Нельзя ли поточнее? Если война, то, значит, нам предлагает дружбу покойник? Политический покойник? Значит, будущие историки посмеются над доверчивыми глупцами типа Молотова и Сталина, которые подписали договор о дружбе с политическим трупом?
Сталин остановился у стены, и Молотов, глядя на его сутулую спину с чуть опущенным правым плечом, на мгновение раньше движения угадал само движение: Сталин обернулся, и зеленоватые глаза его остановили медленный, изучающий взгляд на лице наркома.
– Если мы пойдем на заключение договора о дружбе, это будет первый договор такого рода в Европе, – сказал Молотов.
– Это будет первый договор со славянской державой, – уточнил Сталин, – которая уже однажды стала объектом мировой войны, определенного рода побудителем войны в Европе. Значит, будущие историки могут попрекнуть Молотова и Сталина в том, что они пошли на поводу у традиционной русской царской политики на Балканах?
Он неслышно повернулся, подошел к столу, взял книгу в сером кожаном переплете, открыл ее и неторопливо прочитал:
– «Благодарю за телеграмму. Очень рад слышать, что Вильгельм старается прийти с Ники к соглашению относительно мира. Мировая война была бы непоправимым бедствием, и я от души надеюсь, что ее удастся предотвратить. Мое правительство, со своей стороны, делает все возможное, предлагая и России и Франции приостановить дальнейшие военные приготовления, если Австрия удовлетворится занятием Белграда и окружающей его сербской территории как залогом для успешного выполнения требований, при условии, что и другие государства тем временем приостановят свои военные приготовления. Георг, король британский...»
Сталин поднял глаза на Молотова, набил трубку, продолжая смотреть куда-то в надбровье собеседника, потом медленно, словно бы сознавая значимость каждого своего слова, уперся пальцем в строчки.
– «Как Англия, так Германия и Австрия хотели локализовать конфликт в Сербии, – продолжал Сталин. – В России агитировала влиятельная партия, желавшая во что бы то ни стало вызвать войну. Нападение России ставило лицом к лицу со свершившимся фактом, и в последнюю минуту в Австрии побоялись приостановить мобилизацию, дабы не опоздать с обороной. Послы не всегда говорили то, чего от них хотело их правительство, – Сталин чуть усмехнулся и сделал короткую затяжку, – они передавали поручения вполне корректно, но если их личное мнение, – Сталин на мгновенье поднял глаза на Молотова, в них метались искорки молчаливого смеха, – несколько отклонялось от предписанного, то это разногласие ни от кого не оставалось в тайне...»
– Кто это?
– Коллега... Тоже министр иностранных дел. Чернин. Австриец. Стоит почитать.
Словно бы играя и с собеседником, и с самим собой, Сталин неслышно обошел Молотова, слегка прикоснувшись рукой к его плечу, и сел за стол.
– Единственной преемницей французского духа, то есть европейского духа на нашем континенте, осталась сейчас Россия, славянская держава. В этом парадокс переживаемого историей момента. А кому, как не славянской России, входящей в Союз Республик, протянуть руку славянской Югославии? Политик может оказаться банкротом: государство на определенный период можно стереть с географической карты; народ вечен. Тем более, что мы сейчас – если Политбюро поддержит нашу точку зрения – предпринимаем акт мира, а не войны. Думаю, что будущие историки не простили бы нам трусости, узнай они, что мы отказались заключить договор дружбы с народом, со славянским народом, перед лицом возможной агрессии.
– Но риск войны с Гитлером неминуемо возрастет, товарищ Сталин.
– Риск? – переспросил Сталин, и быстрая улыбка тронула его сухие беловатые губы. – Риск – категория постоянная, Молотов. Он существует как объективная реальность каждую минуту. Думаю, что риск был бы куда большим, не ударь мы Гитлера договором с Югославией: это будет чувствительный дипломатический удар. Мы достаточно терпимы к его дипломатическим ударам – он не очень-то с нами церемонится. С другой стороны, народы Европы, попавшие под власть Гитлера, не смогут не оценить этого шага Советского Союза, только слепец не поймет такого шага Москвы. Или глупец. И еще... Видимо, нашу реакцию на предложение югославов ждут в Лондоне и Вашингтоне. Мне кажется, что в случае положительной реакции мы в их лице обретем потенциальных союзников, а это совсем не плохо – иметь добрые отношения со всеми странами, втянутыми в конфликт. Это приведет к такого рода двустороннему нажиму, который неминуемо выпрет нас наверх. Готовьте вопрос на Политбюро, будем обсуждать предложение Белграда. Если они готовы подписать договор, за нами дело не станет. Мне почему-то кажется, что наша с вами позиция не встретит возражений Политбюро. Хорошо бы только свести все три точки зрения – дипломатов, военных и разведки – в одну. Меньше споров, если все же допустить, что они возникнут. Главное, что надо выяснить, – война или демонстрация силы?
Через час после этого разговора начальник разведки доложил Сталину сообщение, полученное через Анкару от Штирлица:
«Центр.
Группа Веезенмайера (оберштурмбанфюрер Зонненброк) ведет работу среди русской эмиграции. Зонненброк выезжал в Белград, где в «Русском доме» имел секретные консультации с агентом М-12, известным среди белогвардейских кругов как Александр Ланин. В Загреб были вызваны агенты IV отдела РСХА Василий Страндман, Николай Чухнов и Николай Примеров, которые перед возвращением Зонненброка в Загреб дали исчерпывающую информацию по поводу состояния русской колонии в Белграде, наиболее значительной из всех в Югославии. Было принято решение (не зафиксированное пока еще в документах) создать «Русский охранный корпус», в случае, если события продиктуют необходимость иметь в Югославии еще одну пронацистскую силу, подчиненную непосредственно СС. Предполагается, что начальником «Русского охранного корпуса» будет генерал Михаил Скородумов или же генерал Владимир Крейтер. Разведывательными акциями будет руководить агент VI отдела СД Владимир Гершельман, который теперь взял свою прежнюю фамилию – фон Гершельман и прежнее имя – Вольдемар. Активно сотрудничает с миссией Веезенмайера руководитель русских фольксдойче Теодор Вальдман. В немецких кругах наиболее интересной фигурой считают агента абвера полковника Симинского. Дали согласие работать на СД генерал Опухтин и русские монархисты Андрей Могила и Георг Эвер, проживающие в Сплите. Среди серьезных военных теоретиков, которые будут сотрудничать с СД, называются генерал Борис Штейфон и полковник Николаев. Лидером коллаборационистов в Хорватии из числа русских эмигрантов называют Михаила Семенова, имеющего собственную фабрику в Осиеке.
Из бесед с членами группы Веезенмайера (Фохт, Зонненброк) следует сделать вывод, что «Русский охранный корпус» будет работать не только в Югославии, но, возможно, и в других славянских странах. Более того, Веезенмайер требует, чтобы высшие русские офицеры немедленно отправились в Берлин для составления топографических карт Советского Союза, считая это задачей первостепенной важности. Зонненброк сказал, что члены «Русского охранного корпуса», который будет создан в тот день, когда и еслинемецкие войска войдут в Белград, должны быть готовы к операциям против Красной Армии. Прошу подтвердить получение донесений и доклад их руководству. Зонненброк сказал, что к маю «Русский охранный корпус» должен быть «вчерне смонтирован и представлять собой боеспособную единицу». Это третье подтверждение по линии СД, из которого можно сделать вывод, что нападение на СССР готовится в мае.
Юстас».
– Что это вы все в истерику впадаете? – раздраженно спросил Сталин, прочитав телеграмму. – То, по-вашему, Гитлер нападет на Югославию в начале апреля, то на нас – в начале мая. Нельзя быть такими пугливыми. Либо он нападет на Югославию, и тогда ни о каком нападении на Советский Союз не может быть и речи, либо он не нападет на Югославию, и тогда надо еще и еще раз потеребить ваших людей, проверяя и перепроверяя их сведения. Черчилль тоже не дремлет, Черчилль тоже спит и видит, как бы втянуть нас в конфликт. Не оказываются ли ваши люди наивными ребятишками, которых манят на конфете в ад?
– Зорге, Маневич, Радо, Исаев сообщают об одном и том же, товарищ Сталин.
– И Черчилль сообщает об этом же, – по-прежнему раздраженно вставил Сталин. – Черчилль, которого никак не заподозришь в симпатиях к Советской России.
– А если предположить, что в данном случае Черчилль говорит правду?
– Да? – удивился Сталин. – А зачем ему это? Вы скажите вашим работникам, пусть они повнимательнее изучают тех, кто поставляет им такого рода сведения. И ответьте на вопрос, который я задаю вам уже второй раз: Гитлер начнет кампанию в Югославии или нет? А если начнет, когда именно? Приблизительный ответ в данном случае меня не устроит. Срок – день, от силы два.
Той же ночью начальник военно-дипломатического управления РККА заехал без звонка на квартиру югославского военного атташе полковника Максимовича.
– Что-нибудь случилось? – испуганно спросил Максимович. – Уже началось?
– Вас приглашает товарищ Сталин, господин полковник.
...Максимович впервые видел Сталина так близко. До этого он два раза встречал Сталина на приемах, но, как говорил потом Максимович, тот разговаривал с гостями мало, да и то лишь с послами великих держав.
– Не сердитесь, что вас потревожили так поздно? – Голос у Сталина был глуховатый, словно простуженный. Его зеленоватые глаза обняли фигуру Максимовича, отметили количество орденских ленточек, соотнесли это декоративно-цветное количество с возрастом – воевать на первой мировой толком не мог, молод; глаза Сталина зажглись на какое-то мгновение, но быстро потухли, сосредоточившись на желто-зеленом – в цвет глаз – огоньке спички, поднесенной к трубке.
– Господин Сталин, для меня это большая честь – беседовать с вами. В любое время суток.
– У вас, говорят, рабочий день начинается в шесть и кончается в три пополудни, – сказал Сталин. – А у нас начинается в три пополудни и кончается в шесть утра. Так что в чужом монастыре вам приходится жить по чужому уставу.
– Тем более что в этом монастыре такой настоятель. – Максимович позволил себе пошутить.
– Что – страшный настоятель?
– Строгий.
– Ладно, о монастырях позже, полковник, – улыбнулся Сталин. – Я пригласил вас, чтобы поговорить о ситуации в Югославии. Меня часто обвиняют в грубости, и это, конечно, тяжкое обвинение. Поэтому не сердитесь за грубый вопрос: как думаете, сколь долго ваша армия сможет противостоять неприятелю, если предположить войну?








