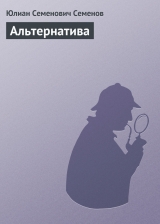
Текст книги "Альтернатива (Весна 1941)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
4. ЗА СУМАСБРОДСТВА ЦАРЕЙ СТРАДАЮТ АХЕЙЦЫ – I
Анка провела кистью еще раз, и нечто, казавшееся желто-серым, сделалось низкой чеснока. Эта чесночная низка лежала возле темной бутылки с оливковым маслом, куском хлеба и двумя яблоками. Анка тронула кистью несколько разных красок, выдавленных на картон, служивший ей палитрой, потом легко прикоснулась к толстому ватману, и левое яблоко на рисунке чуть не покатилось – так неожиданно в нем угадалось движение, как и в том, которое лежало на столе. Улыбнувшись, Анка быстро оглянулась: ей показалось, что в комнату вошла мать – девочка не могла работать, если кто-либо стоял у нее за спиной; она сразу же поднималась и закрывала рисунок.
«Капризы это, – говорила мать, – что я, сглажу, что ли? Может, я ей еще лучше подскажу, где чего дорисовать».
Отец привел учителя живописи из гимназии; он циклевал полы в доме, где жил старик, и вместо платы попросил его посмотреть работы дочери: стоит ли деньги на краски переводить, может, лучше пусть вяжет, как мать?
Учитель пришел в дом Иосифа сердитый и раздраженный: на педагогическом совете директор гимназии выговаривал ему за то, что ученики разбегаются с его уроков.
«В конце концов я не могу заставить рисовать того, кто не хочет рисовать! – отвечал учитель. – Нельзя привить навык к творчеству! Можно привить навык к физике или зоологии, потому что это дисциплины! А рисование – это не дисциплина! Это – рисование!»
Директор ответил, что ему надоело постоянное жонглирование термином «творчество», и что гимназия – не ателье импрессионистов, и если «господин Воячич не может заставить учеников выполнять его предписания, то гимназия будет вынуждена отказаться от услуг уважаемого живописца». Учитель сник, начал лепетать что-то о необходимости помощи со стороны коллег и ненавидел себя за эту ложь; хотелось послать все к черту, но он понимал, что если он лишится заработка в гимназии, то снова начнется голод и жена будет пилить его за то, что детям надо купить новую обувь, «а на твои рисунки можно приобрести бутылку воды и ящик воздуха».
– Ну, – сказал учитель, – где работы?
Мать и отец засуетились, начали доставать рисунки из комода, а девочка стояла около окна, и щеки ее жег стыд – и за свои работы, и за то, как суетливо отец раскладывал рисунки на столе, но внезапно все это исчезло, потому что Анка вспомнила, как однажды пошла с матерью на базар помочь ей нести сумки, и увидела сейчас – явственно и близко – желтый медовый прилавок и старуху с длинными зубами, прикрывавшую лицо черной шалью, которая то и дело сползала на спину; старуха раскладывала перед покупателями облитые керамические тарелки – сине-красные, черно-желтые, красно-голубые. Анка вспомнила сейчас, что среди всех этих тарелок ее поразили две – со странным, диковинным рисунком: петухи с распущенными хвостами, с неестественно длинными лапами и с когтями, украшенными синим маникюром. Анка тогда прищурилась, и петухи исчезли – осталось лишь точное сочетание красок, которые поймали форму – законченную, литую, и если долго смотреть на этот рисунок, то могло показаться, что здесь и не петух вовсе, а июльское желтое поле и голубые васильки в нем или предгрозовое небо поздним майским вечером, когда черная туча кажется фиолетовой, а в провалах белого неба горят зеленые, холодные звезды...
– Тебя спрашивают! – услыхала Анка голос отца. – Не слышишь, что ли?
– А? Чего? – спросила девочка, покраснев.
– Это она, значит, витала, – виновато объяснила мать учителю. – Разинет рот и глядит мимо.
– Что ж ты линию горизонта заваливаешь? – повторил учитель. – Нельзя так. И проекцию совершенно неверно пишешь... У тебя ведь яблоко меньше перца.
– Отвечай, когда спрашивают! – сказал отец. – Что молчишь?
– Я не знаю, – ответила девочка, – оно так лежало.
– При чем здесь «лежало»? – поморщился учитель. – Есть законы живописи, которым подвластны все... Кроме гениев, впрочем, – добавил он, скорее для себя, чем для этой туповатой, то и дело краснеющей девочки в уродливом платье, перешитом, видимо, из материнского. – Ты у кого училась?
– Ни у кого она не училась, – ответил отец. – У кого ж ей учиться?
– В гимназии ведь проходят рисование.
– Так то в гимназии, господин Воячич, а откуда у нас на гимназию деньги-то? Она семь классов походила в обычную, а теперь матери по хозяйству помогает.
– Нельзя так писать бутылку, – снова поморщился учитель, – стекло ты по фактуре угадала верно, но цвета смешаны: мягкий должен быть разлит в центре, а на стыках тени и света следует подчеркнуть цветовую жесткость... Нельзя же так: что вижу, то и рисую... Нет, ей надо как следует учиться.
Учитель сказал еще что-то и ушел, отказавшись от приглашения к обеду, который со вчерашнего дня готовила мать, купив на базаре курицу. Она еще утром накричала на Анку, когда девочка просила подождать, пока она напишет ощипанную птицу, лежавшую на грубо сбитом кухонном столе. Ей очень хотелось написать желтизну куриного тела, бессилие свесившейся шеи в контрасте с устойчивой жесткостью стола, но мать, запарившись, бросила птицу в кастрюлю и Анку из кухни прогнала.
Учитель вернулся домой, продолжая свой мысленный язвительный спор с директором гимназии, лег на софу, которая стояла возле окна, и вдруг увидел два яблока, бутылку с оливковым маслом и низку чеснока. Он сначала не понял, откуда это, и решил было, что вспомнился ему кто-то из французов позднего импрессионизма, но вдруг он увидел лицо дочери этого полотера, и мучительный стыд ожег его. Не ответив жене, которая спрашивала, когда он будет обедать, учитель выбежал на улицу, чтобы вернуться в дом полотера и сказать девочке, что у нее божий дар, и что не надо ей слушать его слов о проекции и законах света, и что пусть она приходит к нему в мастерскую, но он остановился, поняв, что не сможет найти дом, где он был только что, – он шел оттуда быстро, сняв очки, смотрел себе под ноги и жил своей обидой.
«И нечего винить всех вокруг в том, что ты неудачлив, – сказал он себе. – Разве истинный творец переживал бы так, как я, склоку в учительской? Истинный творец даже и не услышал бы ничего, как не слышала меня та девочка в нелепом платье, перешитом из материнского. А я и это подметил, вместо того чтобы заплакать при виде ее картин...»
...А отец отнес все картины на чердак, сказав:
– Ну, Анка, хватит баклуши бить: побаловалась – и будет. Помогай матери хлеб зарабатывать, большая уже.
– Ладно, – сказала девочка и, раскатав в пальцах хлебный мякиш, быстро слепила фигурку – учитель, упершись руками в бока, откинул голову, словно норовистый конь, и смотрит, насупившись.
– Ишь, – усмехнулся отец, – похоже...
А мать отчего-то заплакала и ушла на кухню.
Ай люли, люли, люли,
К нам Душана привезли,
Душан мальчик-краса,
Он не плачет никогда.
Бабка раскачивала внука на левой ноге, отодвинув от себя, чтобы видеть лицо младенца: очки она надевать не научилась, но могла четко различить буквы и лица, когда отходила в сторону. Старшая внучка, дочь Младены, смеялась над старухой во время прогулок по Загребу: «Бабушка, ты говоришь: «Ну-ка посмотрим, что это за магазин», – и хозяин, услышав тебя, бежит открывать дверь, а ты отскакиваешь от него на другую сторону улицы, чтобы прочитать вывеску – чем здесь торгуют».
Наш Душан похож на маму,
Ротик, будто вишенка,
А кряхтит, как старый дед,
Наверное, описался...
Иво слушал, как мать укачивала внука, и огромное спокойствие было в нем. Все в мире было иначе, пока не родился Душан: и синие горы были другими, и серый туман в лощинах, и шум ручья, стеклянно бьющийся о серый гранит в урочище Медвещака, – все это раньше существовало отдельно, жестоко пугая своей красотой, которая исчезнет вместе с ним, с Иво. А теперь красота мира продлится еще на пятьдесят лет, на жизнь сына, а потом она перейдет к сыновьям его сыновей и – останется навечно принадлежащей людям.
«Когда я пишу репортажи, – подумал Иво, – я не нуждаюсь в читателе, потому что стараюсь выразить свое «я». И лишь колыбельная невозможна без слушателя. Сейчас маленькому не нужны слова, сейчас еще бабка поет для себя – от радости, что у нее такой внук, а потом она сделается творцом, когда ей надо будет придумать особые слова, чтобы мальчик внимал им и засыпал без плача. Высшая правда искусства – колыбельная: если младенец заинтересуется и поверит – он уснет, и автор слов и музыки испытает высшее счастье... При чем здесь гонорар за строчку? Искусство, если оно истинно, меряется лишь наслаждением, которое испытал тот, кто отдал».
Бабка пела тихо, и младенец спал, и спала мать младенца, и Иво почувствовал, как у него закрываются глаза, словно подчиняясь словам старухи, и тому однообразному, как извечное спокойствие, ритму, рожденному высшей гармонией, словно серые клочья тумана в урочищах или постоянный шум воды на порогах, где по утрам, в водяной пыли, устойчиво стоит мост сине-желто-красной радуги – пройди сквозь нее, и на всю жизнь будешь счастливым...
Стружка вилась, как волосы кудрявого младенца, мягко и ниспадающе. Ладони Мирко ощущали гладкую тяжесть рубанка, вобравшего в себя резкую остроту стали. Ощущавший боль дерева в лесу, во время рубки, сейчас, обстругивая ствол сосны, Мирко не чувствовал боли, рождаемой каждым ударом топора – звонким, протяженным в тяжелом хвойном воздухе, резким, словно удар колокола по усопшим.
«Никогда не бьют в колокол по тем, кого убивают, – всегда звонят по умершим, – подумал он, наблюдая, как плавно ложится стружка на пушистый ковер таких же бело-желтых, пахучих стружек. – Только в лесу каждый удар топора, словно колокол, предупреждает о грядущей смерти, когда дерево застонет, начнет раскачиваться, будто человек, раненный в сердце пулей на излете, а потом закричит, падёт на землю и по-человечьи, словно волосы, разметает крону по траве и пням».
– Ну как, Мирко? – спросил Степан, брат Елены, его невесты, для которой он рубил новый дом. – Начнем крепить?
Мирко вытер со лба пот и посмотрел на дом: осталось связать последний венец, и тогда завтра можно приглашать мастеров – стелить крышу. А когда будет крыша, он положит пол из толстого дубового бруса, сложенного прошлой осенью под толем на дворе, и Елена войдет в их дом, и это будет его первый дом, потому что раньше он жил в горах, у дядьки, и это был не дом, а длинный унылый сарай с узкими щелями вместо окон, а стены были сложены из камня, и поэтому там всегда было сыро и пахло болотом, а когда шел дождь, крыша протекала и на глиняном полу появлялись лужицы.
– Мирко, – окликнул его Степан, – хоть Елена и моя сестра, а я все же не уразумею: зачем ты женишься? Ты ведь жизни не видел: то в горах рубил, то здесь стругаешь... А женщина, какая-никакая распрекрасная, – все равно словно жандарм: ни тебе выпить, ни к друзьям пойти; паши, как конь, и радуйся, что сенца подбрасывают.
– Так-то оно так, – согласился Мирко, – только одному на свете страшно, Степан. Если б я в горах всю жизнь прожил – тогда другое дело, там, в горах, чего ж бояться-то? Там бояться нечего. Бояться надо людей в городах, где каждый норовит к себе оттянуть, оттого и страшен делается.
– Ты не оттянешь – у тебя оттянут.
– Не по-божески это. Нельзя так жить.
Степан усмехнулся:
– Ты зачем дом строишь, Мирко? Ты ходи по дорогам и проповедуй.
– Каждый должен своей проповедью жить – тогда юродивого будут жалеть и кормить, а слушать не станут. Сейчас отчего люди слова ждут? Оттого, что погрязли в нечестности и корысти. А если чисто жить – зачем тогда церковь? Туда за отпущением грехов ходят, страх свой утешить туда идут.
– Мирко, а у тебя до Елены бабы были?
– Мне Елена не баба, Степан; она – человек мне. Ну, давай, бери бревнышко, пойдем вязать...
– Божий ты человек, Мирко... Тебе в глаза плюнь – утрешься.
– А ты чего меня цепляешь? Еленка просила испытать перед свадьбой – какой я, да? То-то она мне говорит: «Тихий ты слишком, таких пчелы жалят». Разве пчела жалит? Она лечит. Она только дурня ожалит, который боится, а тот, кто смысл хочет найти вокруг себя, – тот понимает, что это работа у пчелы такая – жало свое отдать, и сердиться на нее за это нельзя. На снег ведь ты не сердишься? Или на ливень?
– Не надо выключать свет, Милица.
– Надо.
– Я прошу тебя, сербочка.
– И я прошу тебя, хорватик.
– Но я больше тебя прошу.
– Нет, я больше, Светозар.
– Ты стыдишься себя?
– Тебя.
– Чего ж меня стыдиться, маленькая? Ведь я люблю тебя...
– Я знаю.
– Включи свет, я хочу видеть тебя.
– Нет.
– Почему?
– Потому.
– Иди ко мне.
Он обнял ее и почувствовал ее острые груди у себя на груди. Он улыбнулся в темноте, потому что соски у нее были холодные и шершавые.
– Что ты? – спросила Милица, отстраняясь.
– Ничего. Я просто радуюсь.
– Ты не радуешься. Ты смеешься.
– Когда радуются – обязательно смеются.
– А я плачу, когда радуюсь.
– Что ж ты не плакала, когда я подарил тебе сандалии?
– Так разве то радость? То просто так – сандалии.
– А что такое радость?
– Это когда ты рядом, совсем близко, и у меня глаза закрываются, и голова начинает кружиться, и кажется, будто я падаю в колодец с теплой водой, падаю, падаю, и никак не могу упасть, и так боюсь упасть, и так не хочу упасть, и когда я чувствую всего тебя, даже если руки мои лежат вдоль тела, а я все равно чувствую твою ложбинку на спине, и шею, и шрам на локте – вот тогда радость, и тогда я плачу.
– У мужчины и женщины радость разная.
– Наверное.
– Почему?
– Потому что мужчины слабее. Не смейся. Это правда. Женщина любит сильнее, мужчина не может любить так, как женщина. Поэтому женщина всегда должна жалеть любимого; это и есть любовь. Все остальное – неправда. Надо очень жалеть мужчину, только тогда он будет счастлив, а если он будет счастлив, он станет смелым, и женщина будет любить его еще больше.
– Дай я обниму тебя... Так больно?
– Нет.
– А так?
– Нет. Только еще приятней.
– А так?
– Ой, так приятно, что прямо сказать нельзя!
– Тебе ведь больно.
– Чем сильней мужчина, тем он приятней делает.
– Когда я стану старым, я не смогу делать тебе так приятно. Ничего не боюсь, только старым боюсь стать.
– Это страшно, когда ты один. Вдвоем старости нет.
– А что есть?
– Не знаю... Жизнь, наверное, есть. Уйдет сила, придет что-нибудь другое взамен.
– А что может взамен прийти? Ум? Зачем он нужен, если силы нет? Ум надо защищать силой.
Он почувствовал на своем лице губы Милицы – шершавые и маленькие, как ее соски, и такие же нежные, беззащитные, доверчивые, стыдящиеся света. Светозар обнял Милицу так сильно, как только мог, и почувствовал на ее лице странную, блаженную, как у святой, улыбку.
– Ох как хорошо мне, – сказал он, – сербочка, как же мне хорошо с тобой!..
Дед Александр, потерявший на войне левую ногу и в позапрошлом году оставшийся сиротой – семья его сгорела в доме, когда вспыхнул керосин, неловко пролитый золовкой, – ушел с пепелища, как успел выскочить из огня: в длинной белой рубахе и кожаных штанах, босой. Он жил эти два года христовой милостью, пел в шинкарнях странные песни – про мурашей и букашек, которые просыпаются по весне и радуются тому, что с первыми холодами умрут и не будут страдать в стужу, когда люди насмерть леденеют – не то что букашки, божьи твари. И еще он пел о том, как в больших городах готовят еду: на больших плитах, в которых нет огня, а лишь один жар, который может обжечь, но это будет ожог летним теплом, а не пламенем смерти, которое заставляет плясать покойников и скалить зубы, будто в последней насмешке над теми, кто остался на земле – допивать свою чашу горя.
Рожденный в Герцеговине, дед Александр знал тайну ганги – песни-плача, который только и умеют петь в горах, у Чаплины: словно бы перебивая друг друга в жалобах, чабаны редко говорили друг с другом – все больше изъяснялись гангой.
Раньше, когда была жива семья, Александр пел на два голоса с сыном: сначала тот жаловался ему на плохую погоду, и на ранний снег в горах, и на то, что реки рано стали, и овцы бьют копыта и хромо валятся в обрывы, а потом старик отвечал ему – но не впрямую, а как бы издалека, жалуясь на войну, когда сам себе не волен и когда не свободы жаждешь, а команды, потому что только в ней и есть надежда на спасение: офицеру-то свыше все виднее да умней, а уж если сейчас снег ранний, так это плохо, но не совсем плохо, потому что надо обратить гангу к господу – тот убережет от горя...
Теперь же старик пел песни странные, по форме вроде бы плач-жалоба, древняя и единственная ганга, да только не жаловался он, а все больше задирал кого-то, неведомого, но могучего, будто дразнил его, мстительно, хотя и опасливо:
Люди слушают весну, люди осень слушают,
Люди думают о лете и зимы боятся,
Только что же им мечтать и зачем стараться,
Если волк сильней овцы, а злодей – святого...
– Мийо, Мийо, ты слышишь меня, родной?!
– Я слышу, Ганна!
– Я тебя ужасно плохо слышу!
– А я тебя слышу великолепно.
– Мийо, я больше так не могу! Прилетай ко мне!
– У вас сейчас солнце?
– Что ты говоришь?
– Я спрашиваю – у вас сейчас солнце?
– Скажи по буквам, Мийо!
– Соль, Ольгица, Лев, Никола, Цезарь, Евген.
– Солнце? – не поняла Ганна. – Какое солнце?
– Ты мое солнце. Я сейчас пойду в университет и возьму отпуск. А потом закажу билет. Я не знаю только, откуда мне лучше лететь – из Лозанны или из Цюриха.
– Ты никогда не называл меня солнцем, любимый.
– Я сказал, что у нас здесь выглянуло солнце, когда ты сказала, чтобы я прилетел за тобой. Ты говорила с Взиком?
– Нет. То есть да. Но это неважно, Мийо. Я хочу, чтобы ты прилетел, а отсюда мы уедем вместе.
– Он отдаст тебе сына?
– Я заберу. Я не буду спрашивать. Когда тебя встречать?
– Дня через два. Я пришлю телеграмму. Или позвоню. Я позвоню.
– Что?
– Я позвоню!
– Позвонишь?
– Да.
– Я тебя еле слышу. Ты позвонишь мне?
– Да.
– Звони днем, когда Взик в редакции. Он приходит домой в час ночи.
– Хорошо.
– Ты очень хочешь меня видеть?
– А я тебя вижу.
– Что?
– Я вижу тебя. Я все время тебя вижу. Ты ведь со мной. Ты со мной всегда.
– Что ты говоришь?
– Жди звонка. Я скажу номер рейса. Может быть, я полечу через Германию. Чтобы скорей быть в Загребе. Тогда я пришлю телеграмму.
– Целую тебя, родной!
– Целую, Ганна!
Начальник генерального штаба
Гальдер
«Италия. Письмо фюрера к дуче. В нем говорится о серьезном, но не катастрофическом положении и о решении разгромить Югославию. Фюрер требует прекращения наступления в Албании, прикрытия северного фланга албанского фронта и подготовки к наступлению в Истрии.
Письмо дуче к фюреру. Обещает прекратить наступление в Албании, прикрыть три прохода с севера к флангу итальянской армии в Албании и перебросить на северо-восток Италии шесть дивизий в дополнение к имеющимся там семи дивизиям (кроме того, там есть около 15 тыс. пограничников). Ожидается также поддержка со стороны хорватских сепаратистов.
Турция. Если турки введут войска в выступ в районе Эдирне, Лист должен об этом доложить. Вероятность этого небольшая. Фюрер весьма оптимистически оценивает позицию Турции. Он сообщил турецкому послу (Гереде), что Россия осталась в стороне от Тройственного пакта, так как он (фюрер) не дал своего согласия на приобретение Россией опорных пунктов в проливах.
Кроме того, фюреру было доложено:
Не следует ограничивать действия Листа линией Олимпа.
Расчет времени: Наступление армии Листа начать как можно скорее; наступление на Скопле – по возможности одновременно с наступлением Листа.
Провести подготовку для ремонта и восстановления танков и автомашин в соединениях, участвовавших в операциях против Греции и Югославии.
Рациональное использование времени ввиду отсрочки операции «Барбаросса», задерживающейся по крайней мере на четыре недели...»
5. РАБОТА ПО СПЕКТРАЛЬНОМУ МЕТОДУ
Риббентроп не любил Розенбергов по двум причинам. Во-первых, потому, что они, по отзывам зарубежных журналистов, были «эталонами истинных арийцев» (подразумевалась их внешность) среди всего партийного и государственного руководства рейха: голубоглазые, высоколобые, с крепкими подбородками и «хотя бы остаточно, – как шутил Риббентроп в домашнем кругу, – но все-таки блондины». Во-вторых, и это было главное в объяснении его неприязни к рейхслейтеру, они исповедовали два совершенно различных начала в подходе к одной и той же проблеме, за которую отвечали перед фюрером, – внешней политике рейха.
Розенберга Риббентроп не называл иначе, как «теоретик», вкладывая в это определение все то презрение, которое плохо образованный, но сильный практик испытывает к тому, что руководствуется созданными им же самим канонами, кто каждый свой шаг соотносит с цитатами из своей же книги «Миф XX века» и кто хоть и не прямо, но, в соответствии с иерархической лестницей НСДАП, косвенно мог принимать или отвергать акции рейхсминистра иностранных дел.
Риббентроп сделал карьеру на Британии. Он сделал то, во что никто не верил: он подписал с Чемберленом морской договор, и это можно было считать прелюдией к выполнению стратегического плана фюрера: «Единственным союзником Германии в Европе может быть Англия, и никто больше».
То, что не удавалось сделать традиционной германской дипломатии, чинному министру фон Нейрату, то, что до тошноты порядочный посол рейха в Лондоне Хеш называл идиотизмом, то, что подвергал ироническому осмеянию Розенберг во время обсуждения в рейхсканцелярии плана поездки Риббентропа, стало свершившимся фактом: Чемберлен протянул свою джентльменскую суховатую руку быстрой и потной руке Гитлера.
Эта победа Риббентропа оказалась главным поражением Розенберга: у всех была на памяти его ирония по поводу «новой дипломатии национал-социализма», предложенной Риббентропом. Она, эта новая дипломатия, должна была, взяв как изначальную основу наступления «Мою борьбу» фюрера (а никак не «Миф XX века» Розенберга), действовать в духе этой «великой книги, открывшей германской расе путь в светозарное будущее» – то есть смело, напористо, убежденно, без обязательных для прежней дипломатии лавирований, недоговорок и компромиссов. И главное – смело, главное – не подстраиваясь под хорошо изученного партнера в переговорах, а, наоборот, заставляя партнера принять тебя таким, каков ты есть. Это дает огромный выигрыш в темпе и в качестве, ибо западноевропейский партнер, который исповедует, естественно, консервативный, веками рождавшийся традиционализм, столкнувшись с новой манерой вести переговоры, с новым качеством дипломатии, созданной идеями национал-социализма, будет озабочен уже не столько тем, чтобы победить, но тем, как бы не потерять, поскольку «дело приходится иметь с хамами, а им лучше отдать малость, пока они сами не отхватили по-хамски главное».
Розенберг старался везде и всюду подчеркивать «гуманизм» и «интеллигентность» учения Гитлера; Риббентроп – в противовес ему – об учении фюрера ничего не говорил, но действовал отнюдь не как интеллигент и гуманист; он сразу же заявлял в переговорах свой новый стиль, стиль открытого удара и угрозы: «Если сами добром не дадите – возьмем силой. Вы нас вынудите к этому, и вся ответственность за последствия этого вынужденного вами шага ляжет на вас, и история вам этого не простит». Западная дипломатия, «отягощенная, – как сказал Риббентроп, – чрезмерным знанием мировой истории», старалась подверстать новое движение, родившееся в Германии, под свои представления о политике, заставить Гитлера принять их манеру поведения; они считали, что путь этот, видимо, будет длительным и сложным, но идти на открытую конфронтацию с великим народом через шестнадцать лет после окончания мировой бойни – не гуманно и жестоко. В конце концов, считалось в западных кругах, Гитлер – европеец, с ним надо вести себя так, как это принято в Европе. Не замечать его так, как можно позволить себе не замечать Россию, – немыслимо, ибо Россия – отсталая азиатская держава, которая сама по себе изрыгнет большевизм, оставшись один на один со своими экономическими трудностями, окруженная на востоке алчными азиатскими государствами, а на западе – стеной холодного и надменного непризнания. Гитлер же представляет Германию, без которой европейская, да и мировая цивилизация – невозможна.
Ребенок, угадав, что взрослые, побеседовав с врачами-педиатрами, пришли к выводу, что наказание может лишь травмировать слабую душу и подвигнуть дитя на еще большие грубости и шалости, становится домашним сатрапом; ему все позволяется, все прощается, и всем его шалостям находят объяснение: «Повзрослеет – поймет и изменится».
Риббентроп исходил именно из этого простого житейского правила, забываемого умными дипломатами, когда они садятся за стол переговоров со взрослым контрагентом. И он одержал победу, он вернулся в Берлин победителем, и он, а не Розенберг стал рейхсминистром иностранных дел, когда фюрер приказал либо разогнать беспартийных аристократов, засевших в МИДе, либо принудить их служить не традициям, а новому – его, фюрера, идее.
В общении с подчиненными Риббентроп выработал такую же манеру, как и в переговорах с противником: краткость, сухость, четкость.
– Я рад, – сказал он Веезенмайеру, – что именно вам вменено в обязанность вписать еще одну страницу нашего дипломатического подвига в летопись истории национал-социализма. Я убежден, что вы победите в Югославии так же легко, как вы победили в Словакии. Я даю вам санкцию на контакты со всеми оппозиционными и сепаратистскими силами в Загребе и вне его. Я договорился с хорватским лидером Влатко Мачеком о том, что ваша миссия пройдет вне поля зрения Белграда. Вы должны подготовить правительство Хорватии, которое будет встречать наши войска по старому славянскому обычаю: хлебом и солью. Вы должны сделать так, чтобы это новое правительство было нашим карманным правительством и чтобы оно позаботилось о том, как объяснить миру необходимость ввода наших войск в Югославию, проведя точный водораздел между политическим качествомввода наших войск в Хорватию и в Сербию. В остальном я полагаюсь на ваш опыт. Это все. Хайль Гитлер!
Гейдрих, пригласив для беседы Веезенмайера, мучительно долго буравил красивое и сильное лицо штандартенфюрера своими маленькими раскосыми голубыми глазами, а потом неожиданно спросил:
– Скажите откровенно: ваша детская, самая первая мечта о будущем рисовалась вам в образе офицера, или все-таки вас с самого начала тянуло в дипломатию?
Зная, что РСХА не то место, где надо развешивать слюни по веткам, а Гейдрих не тот человек, который просто так задает отвлеченные вопросы, Веезенмайер ответил так, как, ему казалось, следовало ответить этому холодному и властному человеку.
– Будущее рисовалось мне, группенфюрер, – сказал он, – в солдатском служении идеям Адольфа Гитлера...
Гейдрих заметил:
– В дни вашего детства идей Адольфа Гитлера как таковых не было. В дни вашего детства Адольф Шикльгрубер учился рисованию в Вене и зарабатывал себе на хлеб, нанимаясь чернорабочим на строительство банковских зданий. Я ждал вашего конкретного ответа потому, что думал подсказать вам кое-какие детали, и касались бы они дипломатии и армии – нам все-таки известно то, что неизвестно ни МИДу, ни внешнеполитическому отделу партии. Нам вменено в обязанность подсматривать в замочные скважины спален – как это ни противно... Но поскольку вас интересует служение чистой идее, то я не вправе давать вам конкретные советы. Я ограничусь просьбой: думайте о кадрах, Веезенмайер, о славянских кадрах. Думайте о том, чтобы циклопы убивали циклопов. Думайте о том, чтобы славянское племя хорватских циклопов стало штурмовым отрядом, послушным нашей с вами воле в борьбе против всех иных славянских циклопов: сербов, поляков, украинцев, русских. Ищите людей, которые хоть как-то соответствуют по уровню своего интеллекта нам с вами, арийцам. Вот, собственно, и все. Нас интересуют люди – самые разные, в самых разных областях; без этих людей, которых мы с вами условились называть циклопами, нет будущего Европы. Я говорю не слишком грубо? Ваш ученый слух не коробит моя манера выражать мысль, не заворачивая ее в цветную бумажку, как на рождественских распродажах?
– Меня восхищает ваше умение честно говорить о главном, – ответил Веезенмайер, испытывая горькую брезгливость: мир, увы, устроен таким образом, что все в нем взаимосвязано, и вне этой взаимосвязанности он существовать не может – чистота и грязь, нежность и скотство, ум и сила, он и Гейдрих – одна монета, как ни крути, только разные символы отчеканены на двух сторонах, и которая важнее – не поймешь: реальная стоимость или всеохватная государственная эмблема.
В этот же день Гесс вызвал в партийную канцелярию Риббентропа и Розенберга. Он закончил работу над тремя документами. Первый документ должен быть опубликован МИДом в тот момент, когда это будет признано целесообразным армией – в случае непредвиденной задержки в передислокации частей к югославским границам; второй документ должен быть опубликован за день до появления документа мидовского, и, наконец, третий документ, перечеркивающий два предыдущих, – речь Гитлера – станет известен миру в тот час, когда начнется «Операция-25».
Первый документ – в редакции Гесса – звучал следующим образом:
«Германское министерство иностранных дел уполномочено заявить, что внутренние дела Югославии не могут явиться поводом ни для протестов со стороны Берлина, ни тем более для интервенции. Все слухи о подготовке войны против Югославии являются злостным вымыслом английской империалистической пропаганды. Германия всегда и всюду проводит политику мира и добрососедства и никогда первой не давала и не будет давать впредь каких-либо поводов для конфликта».
Риббентроп согласился с проектом заявления МИДа, предложенным Гессом, однако попросил заранее подготовить для опубликования в газетах текст интервью с шефом отдела печати МИДа Шмитом – на случай каких-либо непредвиденных акций Белграда.
– Что вы имеете в виду? – спросил Гесс. – Какие акции Белграда?
– Договор с Москвой, например.
– Это нереально, – заметил Розенберг. – Москва не решится на такой шаг.
– Пусть Шмит заготовит текст интервью, – задумчиво сказал Гесс, – которое должно звучать так, что Берлин возлагает всю ответственность за ухудшение отношений между нашими странами на Белград. Не больше. Теперь о документах по вашему ведомству, – обратился он к Розенбергу. – Я прочту проект корреспонденций, которые будет публиковать Геббельс, а вы внесите коррективы, если мои сотрудники ошиблись в мелочах: «Из Граца сообщают, что сюда прибывают поезда с немецкими беженцами из Югославии. При отправлении поездов сербы кричали: «Уезжайте, германские свиньи!»
– «Немецкие колбасники», – сразу же поправил Розенберг, – славяне называют нас «колбасниками».








