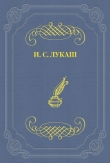Текст книги "Звездно-спекулятивный труп"
Автор книги: Юджин Такер
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Лучше не быть
Важно отметить, что, несмотря на свое недоверие по отношению к человечеству, пессимизм Шопенгауэра – это пессимизм особого типа. В целом пессимизм можно охарактеризовать одним из нижеследующих утверждений. Первый из вариантов гласит, что «этот мир – худший из всех возможных миров». Будучи по своей сути инверсией оптимистического подхода, этот подход исходит из того, что отрицательная сторона всегда перевешивает любые положительные аспекты этого мира; фактически само существование негативного (что мы смертны, что мы подвержены страданиям, что мы обречены на смерть) превосходит любую возможную позитивность.
Другая версия пессимизма содержится в положении «жизнь не стоит того, чтобы ее прожить». Являясь в определенном смысле следствием первого положения – о худшем из возможных миров, – эта версия превращает высказывание о мире в высказывание о субъекте, «заброшенном» в этот мир. Если этот мир – худший из возможных миров, то ценность того, что значит жить в этом мире, может быть уравновешена только эквивалентным пессимизмом [по отношению к] жизни, будь то низшая биологическая жизнь или высокоорганизованная жизнь обладающих самосознанием существ. Фактически, согласно этой точке зрения, пессимизм как мировоззрение существует лишь в связи с сознанием.
Еще одна версия пессимизма представляет гораздо более суровую позицию: «лучше вообще не быть». Первое положение – «наш мир есть худший из возможных миров» – утверждает нечто о мире как таковом. Второе положение – «жизнь не стоит того, чтобы ее прожить» – смещает фокус на субъекта, живущего в этом мире. Последнее положение – «лучше вообще не быть» – смещает фокус еще дальше, в метафизическую плоскость, захватывая вместе с тем и сам мир, и факт проживания в этом мире. Оно распространяет пессимистическую мизантропию за пределы человека на все сущее – живое и неживое, физическое и метафизическое. Согласно этой точке зрения, проблемой является само бытие, а не какое-то свойство мира или человеческого бытия.
Каждое из этих положений, хотя и влечет за собой сильные утверждения, страдает пробелами в логике, подрывающими эти утверждения. Например, пессимистическое положение «наш мир есть худший из всех возможных миров» смешивает состояние мира с суждением о состоянии мира. Исходя из этого, в самой философии пессимизм занимает довольно шаткую позицию – где-то между логической аксиомой и плохим настроем (bad attitude). Вдобавок, хотя пессимизм выступает против жизни, против человечества и против самого существования, он всегда вынужден делать такие утверждения с точки зрения живого и существующего человеческого субъекта. Следовательно, его выпады против жизни, человека и бытия являются также и провозвестием не-человеческого, небытия или ничтойности. И как таковые они остаются горизонтом для пессимиста. Они являются отрицаниями, которые не могут быть осмыслены сами по себе. Здесь мы оказываемся в центре прозрения, касающегося пессимизма: он «терпит неудачу» и в определенном смысле он должен потерпеть неудачу. Кульминация пессимистической логики, доведенной до своего предела – это подрыв всего пессимистического проекта.
Далее мы можем уточнить этот тезис, рассмотрев пессимизм не как «плохой настрой», а как философскую позицию – какой бы ненадежной она ни была. В истории философии пессимизм разделяется главным образом на два подхода: моральный пессимизм и метафизический пессимизм[222]222
Имеется множество исторических обзоров философского пессимизма, многие из которых были написаны в XIX веке на волне интереса к Шопенгауэру и которые по-прежнему представляют интерес для современных читателей. К ним относятся «Пессимизм: история и критика» Джеймса Селли (James Sully. Pessimism: A History and a Criticism, 1877), «Пессимизм в XIX века» Эльм Мари Каро (Elme-Marie Саго. Le pessimisme au XIXème siècle, 1878 [Рус. пер.: Пессимизм в XIX веке: Леопарди – Шопенгауэр – Гартман / пер. с фр. П. В. Мокиевского. Μ.: Издание П. К. Прянишникова и В. Н. Маракуева, 1883]), «К истории и обоснованию пессимизма» Эдуарда фон Гартмана (Eduard von Hartmann. Zur Geschichte und Begründung des Pessimismus, 1880), «Философия разочарования» Эдгара Сальтуса (Edgar Saltus. The Philosophy of Disenchantment, 1885), и «Аспекты пессимизма» Роберта Марка Венли (Robert Mark Wenley. Aspects of Pessimism, 1894). Из недавних исследований следует упомянуть книгу «Пессимизм: философия, этика, дух» Джошуа Фоа Дайнстег (Joshua Foa Deinstag, Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit, [Princeton: Princeton University Press, 2009]).
[Закрыть]. Настрой морального пессимиста, формирующийся по отношению к миру, определяется худшим из возможных взглядов на вещи. Последовательный моральный пессимист может взять любые явления – безотносительно к тому, что они явным образом связаны с радостью и счастьем и имеют благотворный характер, – и обратить их в наихудший из возможных сценариев (даже путем простого замечания, что любое положительное лишь мостит дорогу для отрицательного). Это типичное мировоззрение, утверждающее, что стакан наполовину пустой. Заметим, что моральный пессимист пессимистичен потому, что само его мировоззрение пессимистично, безотносительно к тому, что происходит в мире. Склонность видеть худшее в вещах или склонность всегда ожидать худшего относится к интерпретации мира, а не к самому миру.
Все меняется при переходе от морального пессимизма к пессимизму метафизическому. В первом случае мы выражаем свой настрой относительно мира, тогда как в последнем – мы делаем заявления о мире самом по себе. Это мировоззрение исходит из того, что объективной характеристикой каждого стакана самого по себе является то, что он частично пуст. Метафизический пессимизм – это больше чем плохой настрой, он утверждает определенный способ структурирования и упорядочивания мира. Согласно метафизическому пессимизму мир сам по себе упорядочен наихудшим из возможных способов и структурирован так, что это всегда ведет к наихудшему результату. Согласно метафизическому пессимизму говорить о том, что это худший из возможных миров, – это не столько свидетельство раздражительности, сколько утверждение о радикальном антагонизме между миром самим по себе и нашими потребностями и желаниями.
Хотя Шопенгауэр выказывает оба вида пессимизма, он неудовлетворен ими, поскольку они основываются на четком разделении между человеческим субъектом и не-человеческим миром, в который этот субъект помещен. Единственное их различие в том, что в случае морального пессимизма мы имеем субъективное отношение к худшему из возможных миров, а в случае метафизического пессимизма мы имеем объективное утверждение о худшем из возможных миров. Но оба эти взгляда, будучи связаны с «худшим» (pessimus), неявно полагаются на антропоцентрический взгляд; один с упором на плохой настрой, другой – на плохой мир. (Как однажды заметил Сид Вотерман, персонаж фильма Вуди Аллена «Сенсация», «я вижу стакан наполовину полным, но наполненным ядом»).
И хотя Шопенгауэр сам по себе был ворчуном и утверждал, что этот мир – худший из всех возможных миров, его философия в конечном итоге движется по направлению к третьему виду пессимизма, который он никогда не называл, но который мы осторожно обозначили как «космический пессимизм»[223]223
Космический пессимизм в дальнейшем разбирается в моей статье «Космический пессимизм» (“Cosmic Pessimism,” in Continent [issue 2.2.2012]) и в первом томе, «В пыли этой планеты» (Пермь: Гиле Пресс, 2017. С. 25 и далее), настоящего трехтомника.
[Закрыть]. Для Шопенгауэра логичное завершение пессимизма заключается в исследовании дихотомии «я-мир», благодаря которой и существует пессимизм. Но такой шаг влечет за собой отход от соотношения и различия между «я» и миром, человеческим и не-человеческим, субъективным настроем и объективным утверждением. Напротив, это влечет за собой движение в сторону безразличия, – безразличия мира по отношению к «я», и даже безразличия «я» по отношению к другому «я». Космический пессимизм, следовательно, ставит под вопрос даже мизантропию морального и метафизического пессимизма, поскольку она оставляет нам как человеческим существам остаточное утешение: по крайней мере, мир озабочен тем, чтобы быть «против» нас Космический пессимизм Шопенгауэра ставит под вопрос принцип достаточного основания в нравственной философии, – что существует внутренне присущий миру порядок, который является основой, позволяющей высказывать надежные суждения в отношении нравственных и этических действий. Он также ставит под вопрос основополагающее отношение между этикой и поступком, будь то в версии первоначал у Аристотеля, или в версии кантовской аксиоматики, или в современной когнитивноаффективной версии. Кажется, что космический пессимизм движется в сторону жуткой (uncanny) зоны пассивной «отрешенности», в сторону некоей разновидности лиминального квиетизма, в котором небытие является главной категорией. В космическом пессимизме такое «безразличие» является горизонтом для любой этики. В качестве этики все это выглядит, безусловно, абсурдно. Возможно, поэтому этика у Шопенгауэра в конечном счете и терпит неудачу.
Несмотря на различные цели, «Мир как волю и представление» и «Две основные проблемы этики» объединяет единый подход, заключающийся в инверсии метафизики и этики. Шопенгауэр, как правило, отталкивается от человеческого опыта, особенно если этот опыт ослабляет иллюзорное единство субъекта. Все тирады Шопенгауэра, касающиеся пессимизма и пределов человеческого знания, тесно увязаны с этим странным встречным опытом, свидетельствующим, что субъект не является субъектом, – опытом растворения principium individuationis [принципа индивидуации – лат.]. Часть стратегии Шопенгауэра состоит в том, чтобы отвязаться от представления, будто бы субъект существует отдельно от мира, опыт которого он приобретает, с которым он соотнесен и знание о котором он производит. Частью его стратегии также является продвижение унаследованного от Канта представления о том, что имеется недоступный, непознаваемый ноуменальный мир «в себе», к которому мы навсегда лишены доступа. Обе эти темы затрагивают проблематичную категорию человеческого – человеческого существа, живущего в человекоцентричном мире, который, доступен ли он или нет, всегда существует «для нас» как человеческих существ.
Вопрос об этике здесь становится особенно актуальным. Оба эссе отказываются рассматривать человеческого индивида или группу [индивидов] в качестве основания и избегают любого обсуждения человеческой природы, естественного состояния или чего-то подобного. Шопенгауэр также не полагается на интуицию (или любое другое внутренне присущее человеку моральное чувство) или закон (как в аксиоматике у Канта). Вместо этого он отдаляется от традиционного гуманистического этического дискурса в сторону более глобального вопроса об этике как связи «я» и мира, а фактически – этики как невозможности такой связи. Хотя Шопенгауэр и не ушел далеко в этом направлении, я испытываю соблазн предположить, что «Две основные проблемы этики», будучи прочитаны вместе с «Миром как волей и представлением», ставят вопрос об этике без человека. Учитывая нашу современную озабоченность изменением климата и глобальными катастрофами, пришел срок для изучения именно такой этики. Но нечеловеческой этике следует избегать как полюса «слишком человеческой» этики (где этика выступает исключительно и единственно внутри сферы закона и политики), так и полюса романтической этики (где этика животных или окружающей среды допускает наивное понятие природы).
«Две основные проблемы этики» выделяют несколько ключевых философских моментов, которые глубоко созвучны нашей так называемой постгуманистической эпохе. Первый момент – Шопенгауэр замещает этический дискурс о свободе воле, овнешняя человеческую волю как нечеловеческую Волю. Он осуществляет это путем постановки под вопрос основания человеческой воли и введения своей негативной концепции свободы. И хотя он не упоминает анонимную абстрактную Волю как таковую, его критика человека как этического субъекта движется именно в этом направлении. А это ведет к другому моменту, который состоит в том, что Шопенгауэр постоянно смещает масштаб дискуссии об этике за пределы человеческих установлений (религии, права и политики). Здесь возникает спорный момент, поскольку, как хорошо было известно Шопенгауэру, этот не-человеческий аспект мира никогда не может быть доказан (ни одно такое доказательство ничего не доказывает). Но в критике Шопенгауэром традиционных понятий этической философии чувствуется его онтологическая приверженность скорее к метафизическим началам, нежели к человеку. Именно здесь «Две основные проблемы этики» оказываются в центре внимания. Шопенгауэр не отделяет нечеловеческую Волю от человеческой, слишком человеческой воли, но постоянно настаивает на их имманентности друг другу, одна Воля в другой воле (или Воля-в-воле), так сказать. Индивидуальное человеческое бытие есть то, что человек волит, но эта воля есть также и Воля, человеческое есть также и нечеловеческое.
Логики наихудшего
Пессимизм основан на отрицании, которое концентрированно содержится в его главном термине – «наихудшее». Говоря, что этот мир – наихудший из всех возможных миров, или что жизнь не стоит того, чтобы жить, или что лучше вообще не быть, пессимизм берет нечто действительно существующее и заведомо обладающее ценностью – мир, жизнь, бытие – и подвергает эту ценность отрицанию. Пессимизм подразумевает, что то, что по всеобщему мнению имеет некое субстанциональное существование (и, следовательно, ценность), в действительности не обладает никаким субстанциальным существованием (и это относится даже к самому существованию). Мир, жизнь и даже бытие сами по себе лишены ценности, и их существование столь же случайно, как и любое другое.
Пессимистическая логика часто оказывается зажата между отрицанием, которое постулирует, что нечто имеет негативную ценность, и отрицанием, которое постулирует, что нечто не имеет ценности вообще. Первое – это оппозиционное отрицание, минус на каждый плюс в балансовом листе жизни, мира и самого существования. Второе – это аннулирующее отрицание, отменяющее саму систему ценностей, которое бесконечно выдвигает и опровергает доводы о наличии или отсутствии ценности у мира, жизни и бытия. Первое говорит, что мир не наполнен смыслом, а бессмыслен, не радостен, а печален, не хорош, а плох и т. д. Второе говорит, что мир ни наполнен смыслом, ни бессмыслен, ни хорош, ни плох, ни радостен, ни печален, ни такой и ни сякой.
Так называемые философы-пессимисты часто колеблются между этими двумя отрицаниями. Шопенгауэр, например, однажды сардонически заметил, что если бы мы спросили мертвых в их могилах, хотели бы они снова стать живыми, то мертвые наверняка покачали ли бы в ответ головой. Их пессимизм основан на собственном опыте, балансовый лист жизни склоняется к отрицанию. Но в других ситуациях мысль Шопенгауэра движется в сторону обнуления всех терминов, в сторону Безволия, квиетизма нейтрализованного бытия, молчания самоотрицающей мысли.
Сделаем дальнейшие уточнения. Логика пессимизма структурирована вокруг двух положений. Первое – положение о метафизике, которая утверждает нечто о мире, жизни и даже самом бытии. Существует брешь между «я» и миром, в котором это «я» находится, разрыв между миром, как он существует для нас и в связи с нами (мир-для-нас), и миром, как он существует сам по себе, независимо от нашего отношения к нему (мир-в-себе). Можно ли заделать эту брешь? Философы, следующие за Кантом, отвечают на эти вопросы отрицательно, поскольку мы как человеческие существа встроены в этот мир, чувствуя, предугадывая и постигая его только лишь как чувствующие и познающие субъекты. Философы немецкого идеализма, напротив, дают положительные ответ: эта брешь может быть преодолена благодаря тому, что мы как человеческие существа являемся частью этого мира и что мир-в-себе также находится и «в» нас. Для немецкого идеализма для-нас есть в-себе. Понятие Абсолюта используется для обозначения этого равенства.
Что касается Шопенгауэра, то он находится на стороне Канта, но его аргументы несколько иные. Правда, что существует неустранимый разрыв между «я» и миром, и, хотя мы как человеческие существа являемся частью мира, мы забываем, что это мир не является человеческим. Таким образом, допустить, что мир познаваем, – значит допустить, что порядок, скрытый «там» в мире, доложен быть открыт. Но для Шопенгауэра все это – тщета, поскольку в буквальном смысле нет никакого основания для того, чтобы мир был упорядочен тем или иным способом или упорядочен вообще. Кант и немецкий идеализм допускают, что, пользуясь терминами Аристотеля, существует принцип достаточного основания, который управляет и миром-для-нас и миром-в-себе. Шопенгауэр, хотя он во многих отношениях выступает как крайний кантианец, не разделяет этой иллюзии.
С вышеприведенным положением о метафизике тесно связано другое положение – о гуманизме. Оно вытекает из положения о метафизике. Можно ли преодолеть брешь между «я» и миром? Если да, то может ли человек это сделать? Являются ли человеческие существа единственными, кто может преодолеть разрыв между «я» и миром? Кант отвечает утвердительно. Хотя мы никогда не можем познать мир-в-себе, мы можем познать мир, как он является нам как человеческим существам, посредством нашего чувственного аппарата, категорий рассудка и структуры разума. Исходя из этого, может быть построено системное философское знание. Подобным образом немецкий идеализм также утверждает способность человека проникнуть в отношение «я-мир», потому что Абсолют пронизывает собой все сущее, включая и человеческих существ. Субъективность – это не нечто противоположное миру, а то, что пронизывает мир, манифестируя себя в своей высшей форме – человеке. Действительное разумно, всеобщая история завершается в истории человечества и Абсолют в его различных формах (Дух, Я, Природа) пронизывает всю действительность постоянным квазивиталистским потоком изменений.
Шопенгауэр и здесь дает отрицательный ответ. Не только брешь между «я» и миром не может быть преодолена, но и человеческие существа не занимают в этом отношении никакого уникального положения. Здесь нет примирительного жеста, который мы видим у Канта, когда человеческое знание становится возможным, хотя и в очень ограниченных масштабах; нет и героического жеста, который мы встречаем у мыслителей типа Гегеля и Фихте, когда человек торжествует над миром, распознавая себя как его часть. Согласно Шопенгауэру, лучшее, что мы как человеческие существа можем сделать, – это зафиксировать сам предел, что мир может быть признан, но не познан, что мир может привнести различие в наши человеческие жизни, но сам по себе он остается безразличным к нашим надеждам, желаниям и разочарованиям. Поскольку мир – не-человеческий, мы, будучи его частью, также есть не-человеческое. Поскольку мир не имеет никакого основания для своего бытия, мы как человеческие существа не имеем «достаточного основания» для существования.
Посмотрим, что дают в итоге эти различные позиции. Можно ли преодолеть разрыв между «я» и миром? Кант – нет; немецкий идеализм – да; Шопенгауэр – нет. Занимает ли человек с учетом вышесказанного привилегированную позицию в связке «я-мир»? Кант – да; немецкий идеализм – да; Шопенгауэр – нет. Как мы видим, если Кант придерживается половинчатого решения (нет/да), идеализм настаивает на утвердительной (мы могли бы сказать – оптимистичной) позиции (да/да), то Шопенгауэр парадоксальным образом утверждает двойное отрицание (нет/нет).
Призрак элиминативизма
Такое логическое крючкотворство проявляется и в современной спекулятивной философии. На недавно состоявшейся конференции в «Новой школе» в Нью-Йорке, Стивен Шавиро говорил о поляризованности современной спекулятивной философии. Полюсами для нее выступают «панпсихизм» и «элиминативизм». Такая поляризация опирается на несколько предпосылок. Если принять, что философия в самом широком смысле обусловлена корреляцией между «я» и миром (а также субъектом и объектом или мыслью и интенциональным объектом мысли), и если принять, что этот «корреляционизм» является главной проблемой философии (насколько философия по определению неспособна мыслить вне корреляционизма), тогда для философии, согласно Шавиро, остается открытой одна из двух крайностей. Либо необходимо выбрать некую разновидность «распыленной» имманентности, в которой везде уже присутствует некая квазимонистическая сущность (мышление, аффект, объект, жизнь и т. д.) – это взгляд панпсихизма. Либо необходимо выбрать такой же «распыленный» редукционизм, все утверждения которого о существующих вещах сами по себе безосновательны и призваны скрыть потенциальную пустоту, находящуюся внутри всех вещей, – это взгляд элиминативизма. В представлении Шавиро современная спекулятивная философия поляризована между взглядом, что все-уже-везде, с одной стороны, и взглядом, что «ничто в конечном счете нигде» – с другой.
Насколько я понял, комментарии Шавиро являются скорее провокацией, нежели доказательством. В своем выступлении он также упоминает альтернативы, которые избегают движения к какому-либо из полюсов: «Я должен отметить... существует также альтернатива, исключающая одновременно и элиминативизм, и панпсихизм»[224]224
«Панпсихизм и/или элиминативизм» – доклад С. Шавиро, представленный на 3-й конференции по объектно-ориентированной онтологии, состоявшейся 9 сентября 2011 года в «Новой школе» в Нью-Йорке. Видеозапись выступления доступна по адресу: http://www.ustream.tv/recorded/17269234. Некоторые материалы выступления взяты из незавершенного экспериментального научно-фантастического романа Шавиро, озаглавленного «Ноосфера».
[Закрыть]. Шавиро цитирует сочинения Резы Негарестани, Бена Вударда и мои в качестве примеров того, что «эти мыслители придерживаются крайне негативного взгляда на действенность мышления, и в этом смысле они – элиминативисты. И все же они не находили бы нашу Вселенную столь (на лавкрафтианский манер) ужасающей, не будь они в другом смысле вывернутыми наизнанку панпсихистами...»[225]225
Шавиро делает упор на цитаты из «Циклонопедии» Резы Негарестани (Reza Negarestani, Cyclonopedia [Melbourne: Re-Press, 2008]), мои книги «После жизни» (Eugene Thacker, After Life, [Chicago: University of Chicago Press, 2010]) и «В пыли этой планеты», а также на проект «темного витализма» Бена Вударда, к чему мы также можем добавить «Освобожденное ничто» Рэя Брассье (Ray Brassier, Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction [London: Palgrave, 2007]) и «Заговор против человечества» Томаса Лиготти (Thomas Ligotti, The Conspiracy Against the Human [New York: Hippocampus Press, 2010]).
[Закрыть]. Однако остается открытым вопрос, каким образом работы Негарестани, Вударда и мои оказываются посередине между элиминативизмом и панпсихизмом – будь то в форме синтеза, имплозии, двойного отрицания или чего-либо еще. Стоит отметить, что обозначенная Шавиро альтернатива, которая избегает и полноты панпсихизма, и редукции элиминативизма, оказывается в результате парадоксальной полнотой ничто или, лучше сказать, понятием имманентности, которое неотделимо от ничтойности. Короче говоря, это имплозия становления и не-становления в шопенгауэровскую «волю-к-ничто», или в Безволие.
Элиминативизм в общепринятом смысле понимается как ответвление аналитической философии, которое называется «элиминативным материализмом»[226]226
Оригинальная критика и развитие идеи элиминативизма содержится в первой части книги Рэя Брассье «Освобожденное ничто».
[Закрыть]. Часто ассоциируемый с такими мыслителями, как Пол Чёрчланд и Дэниэл Деннет, элиминативный материализм ставит под вопрос существование «квалиа», таких как ментальные состояние, психологические поступки и субъективные аффекты. В своем крайнем виде он бросает вызов любым притязаниям на независимо существующее мышление за пределами неврологического или биологического базиса. По мере развития когнитивных наук выяснилось, что многие общепринятые понятия, как, например, «верование» или «желание», не имеют научного основания и могут быть низведены до кучки пыли (dust), в которую оказалась стерта фолк-психология. Элиминативизм также имеет более широкое значение, особенно в философии науки, где он ставит под вопрос существование любых сущностей за границами их материальной основы (будь то виталистская «душа» или «светоносный эфир»).
Замечания Шавиро, разумеется, нацелены на то, чтобы обозначить другой тип элиминативизма, который мог бы бросить свой главный вызов философскому закону достаточного основания, а также отказался бы от приверженности элиминативного материализма понятию «базовой линии» («baseline») в биологии, неврологии и физике. Таким образом, традиционный элиминативный материализм не идет достаточно далеко или, иными словами, с учетом критического отношения элиминативного материализма к базовым философским предпосылкам его склонность всецело полагаться на позитивистскую науку может показаться вынужденной остановкой. Почему после утверждения, что такие субъективные состояние или психологические категории как «вера», «радость», «уныние» или «пренебрежение» могут быть оценены только в той мере, в какой они сводятся к биологическому или неврологическому уровню, не продолжить затем таким же образом «элиминировать» эту биологическую и неврологическую основу? Представляется, что в элиминативном материализме философия вновь возвращает свои кантианские права на регулирование границ и восстанавливает основания в тот самый момент, когда под вопросом оказывается само понятие основания. Короче говоря, этот более амбициозный и «темный» элиминативизм предполагает, что любой элиминативный материализм должен в конечном итоге элиминировать и саму материю[227]227
Поскольку современная философия, как представляется, особенно увлечена брендингом, можно предложить несколько новых терминов для этого типа элиминативизма: «темный элиминативизм», «черный элиминативизм», «элиминативный элиминативизм», «а-человеческий элиминативизм наблюдающей мглы» и т. д.
[Закрыть].
Испытания (преимущественно трагические) и невзгоды «жизни» как философского понятия легко подпадают под элиминативистский подход. Конечно, ни одно другое понятие не подвергалось такому громогласному утверждению и столь сокрушающему сомнению – от исторических споров относительно витализма в философии науки до современных эвокаций «вибрирующей материи» и «жизни вещей». Элиминативизм преследует онтологию жизни, постоянно ставя под сомнение ее теологические претензии и в то же время утверждая минимальную «базовую линию», или основание, которое позволяет нейронаукам производить наукообразные утверждения о том, что является, а что не является живым. В конечном итоге поиск материального базиса жизни (будь то молекула или даже, по иронии вещей, биологическая «информация») приводит к тому, что жизнь редуцируется к ее материальным составляющим; здесь уже нет никакой жизни... или нет ничего, кроме жизни. Любопытно, что элиминативистские подходы к онтологии жизни приводят к ее расколу по линии, которую описывает Шавиро: либо все является живым, либо ничего; либо все пульсирует в потоке изменения, аутоаффектации и самоизменения, либо все оказывается молчанием, покоем и загадочным пустотным гулом ничтойности.
И для Аристотеля, и для Канта щедрые, множащиеся, избыточные проявления жизни всегда сопровождались тенью понятия «жизнь-в-себе», которое с необходимостью должно было попасть в бездну элиминативизма. Нигде сознание этой двойственности не проявляется более явственно, как в посткантианском идеализме. В натурфилософии Шеллинга и его понятии Мировой души, в гегелевских размышлениях об органицистских излияниях Духа и в фихтевских лекциях об Абсолютной Жизни можно увидеть, как идеализм пытается облагородить этот смутный аспект жизни самой по себе, в то же самое время отказываясь от решений, предлагаемых механистической наукой или прежней схоластической теологией.
В оппозиции к этой традиции находятся мыслители подобные Шопенгауэру, мизантропу из Данцига, который вновь и вновь бранит своих современников за то, что они не смогли ухватить ничтойность, находящуюся в сердцевине самой жизни. Но если в сердцевине жизни находится ничтойность, как тогда объяснить ее невероятный избыток и щедрость? Как мыслить отрицание в сердцевине жизни, когда жизнь общепризнанно понимается как понятие утверждения par excellence? Этот вопрос касается и идеалистов, и Шопенгауэра, невзирая на взаимную враждебность. А сама проблема была впервые полностью артикулирована Кантом.
Посткантианский идеализм не заканчивается на Фихте, Шеллинге и Гегеле. В некотором роде его концептуальные черты возрождаются в последующих поколениях. Связующая нить тянется от понятия жизни-как-порождения к философскому витализму и биофилософии, вдохновителями которых стали Делёз и Бергсон. Другая нить идет от понятия жизни-как-данности к феноменологии жизни, жизненному миру или плоти, как они встречаются у Гуссерля, Мерло-Понти и Мишеля Анри. Возможно, сегодня мы являемся свидетелями современного посткантианского идеализма: неофихтеанства в корреляционизме, неошеллингианства в трансцендентальной геологии и неогегельянства в метаморфической пластичности?[228]228
Это не означает отвержения, а всего лишь провокацию. Это следует рассматривать как исследование конкретной ситуации (case studies): роль Фихте в «После конечности» Квентина Мейясу (Екб.: Кабинетный ученый, 2015), роль Шеллинга в «Философии природы после Шеллинга» Иэна Гамильтона Гранта (Iain Hamilton Grant, Philosophies of Nature After Schelling, [London; New York: Continuum, 2006]) и в изданном томе «Новый Шеллинг» под редакцией Джудит Норман и Алистера Уэлчмана (The New Schelling, ed. Judith Norman and Alistair Welchman, [New York: Continuum, 2004]), равно как и роль величайшего из этих восставших трупов, Гегеля, в сочинениях Жана-Люка Нанси «Гегель: Неустанность негативного» (Jean-Luc Nancy. Hegel: The Restlessness of the Negative, [Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002]) и Кэтрин Малабу «Фигура Гегеля: Пластичность, время и диалектика» (Catherine Malabou, The Future of Hegel: Plasticity, Time, and the Dialectic, [London: Routlage, 2004]).
[Закрыть]
Одно из наиболее спорных утверждений Шопенгауэра гласит, что любая жизнь есть тёмная жизнь. И тем самым даже современные научные области, как, например, те, которые изучают экстремофилов, воспроизводят, пользуясь методами эмпирической науки, этот сдвиг от жизни-в-себе как региональной проблемы эпистемологии к фундаментальной трещине в самой отологии. Пределом онтологии выступает то, что Шопенгауэр называет жизнью-как-ничто, жизнью, мыслимой в терминах отрицания, ведущей Шопенгауэра в конечном итоге от негативной онтологии к тому, что мы можем условно обозначить как аффирмативную меонтологию жизни.