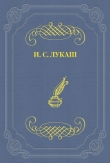Текст книги "Звездно-спекулятивный труп"
Автор книги: Юджин Такер
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Жизнь, отрицающая жизнь
С этой точки зрения проблема выглядит так, что Шопенгауэр лишь возвысил понятие жизни, выведя его за пределы онтологии в область немыслимых ноуменов. Часть загадки по-прежнему остается без ответа: как то, что является ближайшим, в то же самое время есть и самое дальнее? Поэтому особую важность приобретает роль отрицания в Воле-к-Жизни.
Шопенгауэр отмечает, что Воля, не будучи просто статичной, трансцендентной категорией бытия, является динамическим, непрерывным началом, во многом соответствующим идеалистическому понятию Абсолюта. Однако, как мы видели, Шопенгауэр дистанцируется от идеализма, выступая против выдвигаемой им онтологии щедрости[199]199
Негативный подход Шопенгауэра является столь же позицией ворчуна, сколько и критика. По сути, стилистическое новшество в сочинениях Шопенгауэра состояло в том, чтобы слить воедино ворчание и критику, которые достигают своей высшей точки в философском пессимизме.
[Закрыть]. Шопенгауэр уточняет, что «мы повсюду видим в природе соперничество, борьбу, непостоянство победы, и... в этом заключается свойственное воле раздвоение в себе самой»[200]200
Мир как воля и представление: Том первый. С. 136.
[Закрыть]. Шопенгауэр приводит множество научных примеров, которые выглядят как сцены из фильмов о монстрах: насекомые, откладывающие яйца в тела других насекомых, для которых рождение означает смерть; интернализируемое отношение хищник-добыча у полипа; муравей, чья голова и туловище сражаются друг с другом, если он рассечен надвое; инвазионные виды, такие как дикий виноград, который так сильно оплетает стволы и ветви гигантских дубов, что в итоге дерево задыхается[201]201
Ср.: «И ту же борьбу, то же порабощение мы встречаем и на низших ступенях объектности воли. Многие насекомые (особенно ихневмоны) кладут свои яйца на кожу и даже в тело личинок других насекомых, медленное уничтожение которых – первое дело выползающего потомства. Молодой полип, вырастающий в форме ветви из старого полипа и впоследствии отделяющийся от него, еще сидя на нем, уже борется с ним из-за добычи, так что один вырывает ее изо рта у другого... Но самый яркий пример в этом отношении представляет австралийский муравей-бульдог (bulldog-ant): если его разрезать, начинается борьба между отдельными частями – головой и хвостом; первая нападает своими челюстями, а последний храбро отражает ее своими уколами; борьба обыкновенно продолжается около получаса, пока части не замрут или пока их не оттащат другие муравьи. <...> На берегах Миссури встречаются иногда могучие дубы, которые до такой степени обвиты и скованы по стволу и всем сучьям колоссальной лозой дикого винограда, что как бы задыхаются под нею и обречены на увядание» (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление: Том первый / пер. с нем. Ю. Айхенвальда // Собрание сочинений: В 6 т. М.: Терра: Республика, 1999-2001. Т. 1. С. 137).
[Закрыть]. Его примеры жизни, определяемой отрицанием жизни, продолжаются, восходя к космическому отрицанию в черных дырах и нисходя до полного химического распада материи при разложении трупов.
И все же Шопенгауэр – это не Гоббс и не Дарвин; он делает акцент не на универсальном характере борьбы, а на ее значении для онтологии жизни. Если Воля есть поток или непрерывность, то, согласно Шопенгауэру, она приводится в движение отрицанием, то есть негативным потоком, негативной непрерывностью. Воля утверждает себя через противоречия, противопоставления, вычитания, и ее предел – это самоотрицание жизни, посредством самой жизни. Таким образом, «воля к жизни всюду пожирает самое себя и в разных видах служит своей собственной пищей, и, наконец, род человеческий в своей победе над всеми другими видит в природе фабрикат для своего потребления»[202]202
Там же. С. 137.
[Закрыть].
Согласно Шопенгауэру, внутри Воли имеется «внутренний антагонизм», который обнаруживается и на уровне отдельного живого существа, и в царстве неорганической природы, и далее вплоть до космической жизни. Воля-к-жизни приводится в движение процессом «жизни, отрицающей жизнь», от неорганической [природы] к органической и дальше за ее пределы.
Космический пессимизм
Возможно, самым важным прозрением Шопенгауэра при рассмотрении внутреннего антагонизма Воли-к-Жизни было обнаружение ее предельно нечеловеческого характера. Шопенгауэр отбрасывает кантовское разделение на феномены и ноумены, предположив, что все утверждения относительно ноуменов неизбежно скомпрометированы понятиями, которые извлечены тем или иным способом из области феноменов. Именно здесь Шопенгауэр наносит прямой ответный удар скрытому антропоцентризму в посткантианском идеализме. Точно так же как область ноуменов не существует для феноменов, воля-к-жизни совершенно безразлична к любому понятию жизни, будь она «для нас» или «в себе». В воле-к-жизни «на этой низшей ступени мы видим, что воля проявляется как слепое влечение, как тёмный, глухой порыв, далекий от всякой непосредственной познаваемости»[203]203
Там же. С. 139.
[Закрыть].
Заявляя подобное, Шопенгауэр фактически выдвигает два отдельных тезиса. Первый связан с законом достаточного основания и его критическим разбором, предпринятым Шопенгауэром. Поскольку Воля-к-Жизни является столь же ноуменальной, сколь и феноменальной, все утверждения, касающиеся ее причинности, ее телеологии, ее связи с пространством и временем, ее логической связности или умопостигаемости, могут применяться только в пределах области феноменов. В этом смысле «воля как вещь в себе лежит вне сферы закона основания во всех его видах, и она поэтому совершенно безосновна, хотя каждое из ее проявлений непременно подчинено закону основания»[204]204
Там же. С. 109.
[Закрыть]. Шопенгауэр допускает, что всегда есть возможность воссоздать любое утверждение о Воле (как и все утверждения о ней сразу) в рамках феноменальной сферы, и это воссоздание даст возможность выразить то, что является невыразимым, помыслить то, что является немыслимым. Но в случае такого парадоксального режима [рассмотрения] всегда подразумевается нечто, что в самом себе не имеет достаточного основания или, если и имеет, то лишь как отрицание достаточного основания. Мы можем даже сказать, что по своей сути шопенгауэровское понятие Воли-к-Жизни в конечном итоге указывает на закон недостаточного основания.
Поскольку Воля-к-Жизни, взятая сама по себе, не подчиняется закону достаточного основания и находится вне области феноменов, она совершенно не нуждается в антропоцентрическом тщеславии, по крайней мере в утверждениях, что жизнь существует «для нас» как человеческих существ или что она достигает своей вершины в человеческой жизни. Подобно своим современникам в Германии, Шопенгауэр постулирует принцип непрерывности, который способен устранить кантовское разделение на феномены и ноумены, но в отличие от них, он отказывается признать за человеком или за человеческой точкой зрения какой-либо приоритет в отношении этого принципа. Разумеется, Шопенгауэр с готовностью признает существование градаций и дифференциаций в природном мире. Однако все они пронизываются безразличной и неустранимой Волей-к-Жизни. «Ибо во всем мире объективируется одна и та же воля: она не знает времени, так как эта форма закона основания относится не к ней и не к ее изначальной объектности – идеям, а лишь к тому способу, каким они познаются преходящими индивидами...»[205]205
Там же. С. 147.
[Закрыть]
Даже несмотря на то, что она рассматривается Шопенгауэром иерархически, воля-к-жизни повсеместно в мире утверждает космическое безразличие. Шопенгауэр зашел даже так далеко, что заявил, что это придает человеческой жизни особый трагикомический характер: «Жизнь каждого отдельного лица, взятая в общем и целом, в ее самых существенных очертаниях, всегда представляет собой трагедию; но в своих деталях она имеет характер комедии»[206]206
Там же. С. 275.
[Закрыть].
Для Шопенгауэра единственным жизнеспособным философским ответом на такие предельно нечеловеческие условия является пессимизм. Именно благодаря своему пессимизму Шопенгауэр широко известен (и часто отвергаем). Проблема в том, что пессимизм Шопенгауэра нередко понимается применительно к человеческой жизни, поскольку только человек чувствует бессмысленность мира и его страдания. Верно, что пессимизм Шопенгауэра связан с взглядом на жизнь как на «неизлечимую болезнь и бесконечные страдания», нескончаемый круг страданий и скуки. Но это верно только из перспективы отдельного живого субъекта, по отношению к которому, согласно Шопенгауэру, мир-в-себе безразличен. Как выразительно замечает Шопенгауэр, каждое проявление Воли-к-Жизни дублируется Безволием (Willenlosigkeit), каждое восприятие мира-для-нас дублируется миром-без-нас. Пессимизм у Шопенгауэра – это не индивидуальная, личная позиция (attitude). Пессимизм носит у него космический характер; это безличная позиция.
Безразличие Воли-к-Жизни простирается от микроуровня до макроуровня:
Таким образом, каждый в этом двойном смысле сам представляет собою весь мир, микрокосм, и полностью и всецело находит в себе самом обе стороны мира. И то, что он познает как свою сущность, исчерпывает и сущность всего мира, макрокосма; мир так же, как и он сам, есть всецело воля и всецело представление, и больше нет ничего[207]207
Там же. С. 149.
[Закрыть].
Отрицание таинственным образом пронизывает шопенгауэровское понятие Воли-к-Жизни. Обращение к Воли-к-Жизни как к «ничто» или «ничтойности» повсеместно присутствует в сочинениях Шопенгауэра. Разумеется, Шопенгауэр испытал влияние классических текстов буддийской мысли, с которыми был знаком[208]208
О сложном отношении Шопенгауэра к восточной философии см.: Peter Abelsen, “Schopenhauer and Buddhism,” Philosophy East and West 43:2 (1993), pp. 255-278 и Moira Nicholls, “The Influences of Eastern Thought on Schopenhauer's Doctrine of the Thing-in-Itself,” in The Cambridge Companion to Schopenhauer, ed. Christopher Janaway (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), pp. 171-212.
[Закрыть]. Как мы уже отметили, этот вид космического пессимизма находится в оппозиции к онтологии щедрости в посткантианском идеализме с ее акцентом на сверхприсутствии, текучести и становлении Абсолюта. В ответ на кантовское разделение на жизнь и живое – и в отличие от посткантианской онтологии щедрости – Шопенгауэр выбирает негативную онтологию жизни.
Однако формулировка «жизнь есть „ничто“» может иметь несколько значений. Загадочный последний раздел первого тома «Мира как воли и представления» раскрывает некоторые из них. Здесь Шопенгауэр использует кантовское различение между двумя видами ничто: nihil privativum, или привативное ничто, и nihil negativum, или негативное ничто. Первое определяется отсутствием чего-либо (например, тень как отсутствие света, смерть как отсутствие жизни). Для Шопенгауэра мир как ничто в привативном смысле – как взаимодействие между Представлением и Волей, мир с его субъектно-объектными отношениями, равно как и нескончаемыми страданиями и скукой – является преходящим и эфемерным. В отличие от этого, безразличная Воля-к-Жизни пронизывает собой все [в мире], оставаясь недоступной и «ничем».
Проблема заключается в том, что в лучшем случае, мы имеем ограниченный и непрямой доступ к миру как nihil privativum и «пока мы сами представляем собой волю к жизни, это последнее может познаваться и обозначаться нами только отрицательно...»[209]209
Мир как воля и представление: Том первый. С. 348.
[Закрыть]. Для Шопенгауэра сам факт, что нет никакого выхода за пределы мира nihil privativum, подсказывает дальнейшее отрицание, которое носит характер не относительной, а абсолютной ничтойности. Как он пишет, «в противоположность этому nihilo privativo установили nihil negativum, которое будто бы есть во всех отношениях ничто». Но это не простая противоположность, поскольку «абсолютное ничто, действительное nihil negativum, просто немыслимо» и, в конце концов, «всегда оказывается опять-таки лишь nihil privativum»[210]210
Там же. С. 347.
[Закрыть].
Кажется, что к этому больше нечего добавить. Это как если бы философия в итоге пришла к собственному самоотрицанию, к требованию Витгенштейна молчать о том, о чем невозможно говорить. То, что «Мир как воля и представление» завершается загадочным утверждением жизни как ничтойности, обозначает границы негативной онтологии Шопенгауэра. С одной стороны, Воля-к-Жизни есть ничтойность, потому что, будучи взята как взаимодействие между Жизнью и живым, Воля-к-Жизни сама по себе никогда не является чем-то в утвердительном или позитивном смысле. Но Шопенгауэр считает, что Воля-к-Жизни есть ничтойность еще по одной причине: сама по себе Воля-к-Жизни указывает на то, что никогда себя не проявляет, что никогда не является объективацией Воли, что никогда не есть Воля для Представления. Наряду с относительной ничтойностью nihil privativum имеется абсолютная ничтойность (absolutes Nichts) nihil negativum. Хотя Шопенгауэр и находится в оппозиции к посткантианским идеалистам, он един с ними в принятии понятия Абсолюта, пусть и парадоксальным образом укорененного в ничтойности. Его вклад состоит в том, что он помыслил Абсолют, не прибегая к помощи онтологии щедрости и к ее чрезмерному обращению к романтическим понятиям Жизни, Природы и человека. Именно по этой причине Шопенгауэр мог завершить «Мир как воля и представление» утверждением, что «наш столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями – ничто»[211]211
Там же. С. 349.
[Закрыть].
Философский думкор [212]212
Англ. doomcore – музыкальное направление, разновидность хардкор-техно. Музыка в стиле думкор характеризуется медленным темпом (130-160 ударов в минуту в отличие от 300 ударов в минуту и выше, характерных для хардкор-техно), относительной минималистичностью и мрачной атмосферой.
[Закрыть]
Все это приводит к обманчиво простому вопросу: есть ли у пессимистов этика? Если да, то ожидают ли они всегда худшего исхода, даже в случае благонамеренных действий? Можно ли считать последовательных пессимистов лишенными этики в том смысле, что они неспособны на какие-либо результативные действия? Проблема в том, что пессимисты по-прежнему совершают поступки, даже если все они сводятся к сетованиям. Это double bind[213]213
Даблбайнд – «двойной приказ», «двойное послание», «двойной сигнал», «двойная связь», «двойной капкан» и т. д. Термин англо-американского ученого Г. Бейтсона, обозначающий ситуацию, в рамках которой субъект получает взаимно противоположные указания разного логического или коммуникативного типа.
[Закрыть] пессимистической этики – решение без действенности, действие без убежденности, постоянное чувство, что в конечном итоге все обернется к худшему, все окажется напрасным.
В качестве примера подобного взгляда часто цитируют написанную в XVIII веке сатирическую повесть Вольтера «Кандид, или Оптимизм». Кандид, впечатлительный молодой человек, который ведет беззаботный образ жизни, воспитан своим учителем Панглоссом в соответствии с просвещенческими ценностями разумной самодостаточности. Кандид твердо придерживается панглоссовского девиза, что все, что случается, случается к лучшему, поскольку мы живем в лучшем из возможных миров. Но когда Кандид вступает во взрослую жизнь, он раз за разом сталкивается с ситуациями, которые противоречат этому взгляду, пока не осознает, что придерживаться и дальше утверждения, что все происходит к лучшему, просто абсурдно. Повесть заканчивается на том, что утративший иллюзии и растерянный Кандид приходит к солипсистскому выводу, что каждый должен «возделывать свой сад», а вопрос о том, действительно ли наш мир является лучшим из возможных миров, остается открытым[214]214
Кое-какие уроки мы можем извлечь из не столь высокой культуры мультфильмов. Возьмем Глама (Glum), одного из персонажей «Приключений Гулливера», мультфильма выпущенного продюсерами Уильямом Ханна и Джозефом Барбера в 1968 году. В мультфильме Глам известен своим пессимистическим взглядом на жизнь, который выражается в однообразном комическом повторении фраз типа «нам никогда не удастся сделать это...» или просто «мы обречены...». Глам не только выделяется среди своих более оптимистичных, идеалистически и рыцарски настроенных товарищей (из которых почти целиком состоит команда Гулливера), помимо этого ему удается произносить свои пессимистические прокламации именно тогда, когда они меньше всего могут помочь (когда их берут в плен, когда они тонут в море и даже когда прыгают со скалы), то есть, когда незавидная судьба искателей приключений проявляет себя со всей очевидностью. Неважно, что команда Гулливера чудесным образом оказывается спасенной в конце каждого эпизода; даже само чудо не способно убедить Глама, который никогда не перестает указывать на тщетность любых действий. Глам – это тёмное пятно на полированной поверхности этики, сведенной к самопомощи. И все же он, как и Кандид, продолжает настаивать на своем.
[Закрыть].
Но Кандид не только пессимист, он также принадлежит к бродячей банде благодетелей европейского Просвещения. Другими словами, несмотря на то, что он становится все более и более разочарованным, он все равно следует выбранному курсу. Он не бросает культуру, частью которой является, не запирается в пустынной пещере и не наслаждается своим одиночеством, занимаясь написанием экзистенциалистских рассуждений о достоинствах самоубийства. Разумеется, для этого есть сугубо практическое соображение: кому пожаловаться, если он один? К тому же никто не хочет слушать эти жалобы. В определенном смысле растущее смятение Кандида, наряду с абсурдным оптимизмом Панглосса, являются вызовами, брошенными этическому взгляду на мир, в рамках которого разворачивается повествование Вольтера. Суть этого взгляда в том, что существует добро и зло, что между ними можно провести различие, что поступки должны быть моральными и иметь моральные последствия, что здравое отношение к любой жизненной перипетии должно быть позитивным и требовать от тебя полной отдачи, что жизнь, которую проживаешь, – «там, снаружи».
На первый взгляд Шопенгауэр – этот архипессимист среди философов – представляет собой аналогичный случай. Если судить по его довольно неприветливому мировоззрению, то может показаться, что этика столь же необходима для философии, как и самосознание для камня. Действительно, Шопенгауэр часто цитировал, позаимствованную у Спинозы аналогию: если бы камень, брошенный в воздух, имел сознание, он бы вообразил, что движется по воздуху самостоятельно и по своей собственной воле.
До недавнего времени читателям главного сочинения Шопенгауэра – «Мира как воли и представления» – приходилось именно в нем выискивать что-нибудь связанное с этикой пессимизма. То тут, то там в этом сочинении можно было найти утверждения о страданиях мира, о том, что лучше и вовсе не рождаться и т. д. Но этого явно недостаточно для полноценного критического исследования темы[215]215
Кембриджское издание сочинений Шопенгауэра, выпущенное Кристофером Джанавеем дает возможность познакомиться с современным научным переводом его трудов. На протяжении долгого времени англоязычным читателям Шопенгауэра приходилось иметь дело с изданием Довера, которое, какую бы ценность оно ни имело, для студентов и научных работников оставляет желать лучшего. Вдобавок приход недорогих технологий «печать по требованию» (print-on-demand) вызвал поток репринтов сочинений Шопенгауэра различного качества – многие искажены плохой редактурой, неточными переводами и даже неправильной последовательностью страниц. Учитывая это, кембриджская серия является долгожданным прорывом.
[Закрыть]. Поэтому следует обратиться к другому произведению Шопенгауэра – к «Двум основным проблемам этики». Оно состоит из двух эссе, написанных Шопенгауэром несколько лет спустя после «Мира как воли и представления». Эссе не только были выстроены на основе этого позднего сочинения, они обнаружили потрясающую лакуну в тёмном космическом пессимизме Шопенгауэра: как действовать, как вести себя в мире, лишенном основания или смысла, в мире, созданном безразличной, бесчеловечной «волей»? Если мир безразличен, как следует поступать?
Шопенгауэр издал «Две основные проблемы этики» книгой в 1841 году. Тем не менее оба вошедших в нее текста изначально были написаны для конкурсов. Первый конкурс был объявлен Норвежским королевским научным обществом, куда Шопенгауэр представил эссе «О свободе человеческой воли». Второй конкурс был объявлен Датским королевским научным обществом, для которого Шопенгауэр написал эссе «Об основе морали». К своему удовольствию за первое эссе Шопенагуэр был награжден главной премией.
Однако радость вскоре уступила место разочарованию, связанному со вторым эссе. Шопенгауэр был единственным, кто представил свою работу [на конкурс] и все же Датское королевское общество отказалось присуждать ему приз – или, если на то пошло, вообще обращать на него внимание. Они сделали вид, что его не существует. Подливая масла в огонь, в своем комментарии на сочинение Шопенгауэра, члены Королевского датского общества сослались на «выдающихся философов», таких как Гегель. Можно только представить всю абсурдность этой ситуации для пессимиста из Данцига. Когда Шопенгауэр опубликовал оба эссе в 1841 году, он не преминул отметить, что второе эссе «не получило приза» и добавил пространные возражения против оценки его эссе, данной Датским королевским обществом. Он также отпустил язвительные замечания в адрес «соединившихся в заговор для прославления ничтожеств журнальных писак», «наемных профессоров гегельянщины» и самой гегелевской философии как «колоссальной мистификации, которая и у наших потомков будет служить неисчерпаемым материалом для насмешек над нашим временем», а также в адрес немецкого идеализма в целом как «псевдофилософии, расслабляющей все умственные способности».
Если оставить в стороне эти словопрения, то важно отметить, что Шопенгауэр в действительности был заинтересован в написании сочинения по этике, к которому его подтолкнули и объявленный конкурс, и содержание вопросов, на которые надо было дать ответ. Вопросы, заданные обоими организаторами, вызвали у Шопенгауэра возражения, и, я бы сказал, что именно это философское сопротивление делает книгу «Две основные проблемы этики» актуальной сегодня.
В первом эссе вопрос (сформулированный на латыни) звучит следующим образом: «Можно ли свободу человеческой воли доказать из самосознания?» Во втором эссе вопрос был более пространным и запутанным: «Надлежит ли искать источник и основу морали в идее моральности, данной непосредственно в сознании (или совести), и в анализе остальных возникающих из нее основных моральных понятий или же в каком-то ином познавательном принципе?» На оба вопроса Шопенгауэр дает отрицательный ответ. Нет, – отвечает он, – человеческая воля свободна только в той мере, в какой свободно основание человеческой воли, то есть в той мере, в какой свободна основополагающая, абстрактная и не-человеческая Воля. На второй вопрос Шопенгауэр также отвечает «нет». Доходит даже до того, что он ставит под сомнение допущение, что человеческая моральность имеет что-то общее с разумом вообще, предпочитая вместо этого искать основание для моральности в понятии сострадания (Mitleid) и в тёмном восточном понятии человеколюбия (Menschenliebe).
В «Мире как воли и представлении» Шопенгауэр сделал попытку радикализировать Канта, представив двоякий взгляд на мир. С одной стороны феноменальный мир явлений, тел, предметов и природы – мир Представления; с другой стороны то, что выступает основанием для этого феноменального мира, но что само по себе не есть Представление, а вместо этого – анонимный, безразличный, наполненный слепым порывом мир Воли. Шопенгауэр все еще убежден, что, хотя мир как Воля остается недоступным для нас как для человеческих существ в мире Представления, между ними существует связь, в частности в живом теле. Согласно Шопенгауэру, тело и жизнь были тем самым центром схождения Воли в Представлении, недифференцированной Воли в индивидуальной человеческой воле, не-человеческого в человеке.
Казалось бы, это неизбежно должно вести к этической философии, тем не менее в «Мире как воли и представлении» происходит нечто иное. Конечно, это произведение посвящено человеческому миру и человеческой способности осмыслять мир, но в мрачной и заупокойной четвертой книге «Мира как воли и представления» этика отметается ради мистицизма, восточной философии и загадочной идеи неволения, или Безволия. Если говорить более точно, «Две основные проблемы этики» подчеркивают зазор, существующий в «Мире как воли и представлении»: как соединить безразличный и бесчеловечный мир Воли со «слишком человеческим» миром Представления?
В первом эссе – «О свободе воли» – Шопенгауэр кладет конец давней дискуссии моральной философии о свободе и необходимости. Он выделяет различные виды свободы (физическую, интеллектуальную и нравственную), утверждая, что свобода есть принципиально негативное понятие, отсутствие или ликвидация препятствия для действия. Главная мишень Шопенгауэра – это иллюзия о чистых актах самосознания, допущение, что свобода проистекает напрямую из воления (представление, согласно которому, по словам Шопенгауэра, «я свободен, если могу делать то, что я хочу»). Но что является основанием для изоморфизма свободы и воли? Как отмечает Шопенгауэр, придется исследовать не только действие, основанное на волении, но и воление воления действовать и т. д. Либо мы задаем себе эти вопросы до бесконечности, либо допускаем парадоксальное безусловное основание, Волю для всех волений, которая сама не является волей к чему-то.
Сходным образом Шопенгауэр различает три типа необходимости (логическая, математическая и физическая). Утверждая пару свобода/необходимость, он также пытается показать, что они могут быть по-настоящему связаны только вне сферы человеческого субъекта. Если, как утверждает Шопенгауэр, свобода есть негативное понятие, тогда она также есть и отсутствие необходимости. Но отсутствие необходимости, взятое в своем логическом завершении, включает в себя понятие «абсолютной случайности» («absolute contingency»). «Но если так, свобода, отличительным признаком которой является отсутствие необходимости, должна была бы быть безусловной независимостью от всякой причины, а потому определяться как абсолютно случайное: в высшей степени проблематичное понятие, за мыслимость которого я не ручаюсь, которое, однако, странным образом совпадает с понятием свободы»[216]216
Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики / пер. с нем. Ю. Айхенвальда // Собрание сочинений: В 6 томах. М: Терра: Республика, 1999-2001. Т. 3. С. 307.
[Закрыть]. Подобные фрагменты весьма интересным способом выдают неоднозначное отношение к этике, постоянно присутствующее у Шопенгауэра, особенно применительно к добросовестности (good faith), в которой нуждается человек для того, чтобы вообще мыслить об этике. Позже Шопенгауэр проводит аналогию, утверждая, что чрезвычайно раздутая зависимость человека от свободы воли и свободы выбора столь же абсурдна, как и самосознание воды, рассуждающей следующим образом: «Это совершенно все равно, как если бы вода сказала: „Я могу вздыматься высокими волнами (да – в море при буре), могу быстро катиться вниз (да – по ложу реки), могу низвергаться с пеной и кипением (да – в водопаде), могу свободной стрелой подниматься в воздух (да – в фонтане), могу, наконец, даже выкипать и исчезать (да – при 80° тепла), но я не делаю теперь ничего такого, а добровольно остаюсь спокойной и ясной в зеркальном пруду“»[217]217
Там же. С. 330.
[Закрыть].
Если первое эссе в основном связано с критикой индивидуалистического и гуманистического понятия морального поступка (свобода против необходимости), то второе эссе – «Об основе морали» – касается более широкого вопроса об основании этики самой по себе. Неудивительно, что Шопенгауэр не получил приз за это эссе: с самого начала он сварливо намекает на глупость самого вопроса, в то же время отмечая «бесконечную сложность» проблемы основания. Здесь мишенью Шопенгауэра выступает Кант, но развернутая критика Канта перемежается с восхищением перед ним. Как отмечает Шопенгауэр, величайший вклад Канта в нравственную философию состоял в отрыве ее от эвдемонии (счастья, благополучия). Тогда как для древних [греков] добродетель и счастье были тождественны друг другу, для людей модерна добродетель и счастье соотносятся как основание и результат. Аксиоматический подход Канта сфокусирован не столько на эвдемонии, сколько на практических аспектах нравственного поступка. Но здесь Шопенгауэр крайне критичен, поскольку кантовский категорический императив с его акцентом на «долженствование» может привести только к абсурдной идее всеобщего «долженствования». «В практической философии, где мы не ставим себе задачей выяснять основания того, что происходит, а рассматриваем законы того, что должно происходить, хотя бы никогда и не происходило... Кто сказал вам, что должно происходить то, чего никогда не происходит?»[218]218
Там же. С. 385.
[Закрыть]
Короче, Шопенгауэр видит в кантовском категорическом императиве церковь замаскированную под суд: «Понимание этики в императивной форме как учения об обязанностях и представление о моральной ценности или неценности человеческих поступков как об искажении или нарушении обязанностей, бесспорно, имеет свой источник вместе с долженствованием только в теологической морали и, прежде всего, в декалоге»[219]219
Там же. С. 388.
[Закрыть]. Шопенгауэр позднее рассуждает о кантовской этике как имеющей мистическое «гиперфизическое» ядро: «...в кантовской школе практический разум со своим категорическим императивом все более и более получает характер гиперфизического факта, дельфийского храма в человеческой душе – храма, где из мрака святилища доносятся оракулы, непреложно возвещающие хотя, к сожалению, и не то, что случится, но по крайней мере то, что должно бы случиться»[220]220
Там же. С. 404. Несмотря на эту критику, Шопенгауэр сохраняет определенные элементы моральной философии Канта. В особенности это касается того, как Шопенгауэр трактует пару свобода/необходимость, которую он уже разбирал в первом эссе. Необходимость как достаточное основание является расширением феноменального мира явлений, царством индивидуальной человеческой воли, которую Шопенгауэр называет «эмпирическим характером» человека. Ей противостоит свобода, которую Шопенгауэр уже определил в терминах абсолютной контингентности и которую он связывает с ноуменальным миром у Канта, – Воля в себе, тем не менее проявляющаяся в человеке, которую Шопенгауэр называет «интеллигибельным характером».
[Закрыть].
И здесь мы видим, как Шопенгауэр напрямую пытается связать онтологию «Мира как воли и представления» и этику «Двух основных проблем этики». Итог всего этого, как с осторожностью констатирует Шопенгауэр, в том, что «человек не составляет исключения из остальной природы»[221]221
Там же. С. 426.
[Закрыть]. То есть, поскольку свобода безлична и нечеловечна, человек есть лишь часть более обширной сферы, которая одновременно является и метафизической, и этической. Парадоксальным образом мысль Шопенгауэра движется в направлении того, что мы можем называть не иначе как нечеловеческой этикой.
Разумеется, главный вопрос состоит в том, как переосмыслить этику в условиях нечеловеческой метафизики. Во втором эссе Шопенгауэр делает намеки на подобную этику, устанавливая две пары этических понятий: полюсы поступков, ориентированных на себя, и поступков, ориентированных на других, и полюсы благополучия и горя. Из этого он извлекает два своих ключевых «положительных» понятия, которые завершают эссе: понятие сострадания (Mitlied) и понятие человеколюбия (Menschenliebe). Обсуждать [в этом контексте] человеческий разум и закон он отказывается.
В то же время его рассуждения о сострадании остаются незавершенными; возникает ощущение, что у Шопенгауэра сострадание не ограничено чувством, которое один человек испытывает по отношению к другому, а может быть развернуто в сторону странного нечеловеческого сострадания – по отношению к животному, растению, камню, океану, облаку, рою, числу, понятию – к чему угодно. Подобное сострадание может иметь диапазон от чувства страха и ужаса до чувства близости и потери себя. Схожим образом, как и при всегда эксцентричном освоении Шопенгауэром восточного мышления, его понятие человеколюбия является не просто любовью человека к человеку, а совершенно противоположным: любовь к человеку выступает исходным пунктом для любви к нечеловеческому.