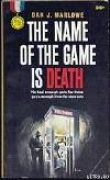Текст книги "Исповедь убийцы"
Автор книги: Йозеф Рот
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
Лихорадочными пальцами я открыл портфель. Вообще-то мне и так следовало знать, что в нем. Ведь я был с дьяволом накоротке и догадывался о его отношении ко мне, и разве я мог этого не понять? Но, как это часто бывает, друзья мои, и как это было со мной, мы не полагаемся на знания, которые исходят от наших чувств или разума, мы прикрываемся ленью, малодушием и привычкой. Именно так случилось и со мной. Я не доверился своему опыту. А точнее я приложил определенные старания, чтобы ему не довериться.
Кто-то из вас, мои дорогие, может быть, уже догадался, что за бумаги находились в портфеле Лакатоса. Что до меня, то, в силу своей профессии, я частенько имел с ними дело. Это были проштампованные, подписанные формуляры паспортов, которые наши люди обычно вручали бедным эмигрантам, чтобы те могли вернуться в Россию. Вот таким образом властям выдавалось множество людей. Они были уверены, что их документы настоящие, на родину они ехали с радостными чувствами, ничего не подозревая, но на границе их задерживали, а затем, после мучительных недель и даже месяцев, судили и отправляли на каторгу в Сибирь. Эти несчастные доверяли таким, как я. Как они могли сомневаться? Печати, подписи, фотографии – все было настоящим. Даже официальным властям не было известно о наших мерзких методах. Лишь по мельчайшим признакам наши сотрудники на границе могли понять, что это паспорта подозреваемых. От обычного человеческого взгляда эти признаки, конечно, ускользали. К тому же мы их часто меняли. То это был крошечный след на фотографии в паспорте от укола иголки, то в круглой печати не хватало половины какой-нибудь буквы, а то фамилия владельца была напечатана немного измененным шрифтом. Обо всем этом официальные власти знали не больше, чем сами жертвы. В этих коварных знаках разбирались только наши люди на границе. В портфеле господина Лакатоса лежали безукоризненно сделанные печати, красные, синие, черные и фиолетовые штемпельные подушечки… Я вернулся и сел за свой столик.
Через несколько минут появился Лакатос. Он сел, с некоторой торжественностью вынул из кармана пиджака конверт и без единого слова протянул его мне. Только я собрался открыть конверт, на котором стоял штамп нашего посольства, как он достал из своего красного портфеля формуляр для паспорта и заказал чернила и перо. Он написал письмо, в котором имперское посольство якобы сообщало князю Кропоткину, что особой царской милостью братья Ривкины освобождаются от каторги и что для их сестры Ханны Леи Ривкиной, в случае ее возвращения в Россию, нет никакой угрозы ареста. Я, друзья мои, пришел в ужас. Но даже не подумал встать, вернуть Лакатасу бумагу и уйти. Я только смотрел, как он, не обращая на меня никакого внимания, своим красивым, каллиграфическим, канцелярским почерком спокойно заполняет паспорт на имя Ханны Леи Ривкиной.
Дорогие мои, сейчас, рассказывая это, я весь дрожу от ненависти и презрения к себе! Но тогда я был нем, как рыба, и безучастен, как палач после в сотый раз совершенной им казни. Я думаю, что какой-нибудь добродетельный человек точно так же не может объяснить свой благородный поступок, как подлец, вроде меня, – свою низость. Я ведь понимал, все идет к тому, что самая лучшая девушка, которую я когда-либо знал, будет уничтожена. В своем воображении я уже видел этот тайный, этот сатанинский укол иглы над ее фамилией. Но я не дрогнул, даже не шевельнулся. Я, окаянный, думал о бездушной Лютеции. Я был настолько ничтожен, я боялся только того, что сам должен буду явиться к Ривкиным, дабы принести им эту «радостную» весть. Я боялся этого до такой степени, что, когда Лакатос, тщательно промокнув написанное, встал и сказал, что отнесет паспорт сам, я самым ужасным, самым бесстыдным образом почувствовал себя свободным от какой-либо вины.
– Только напишите два предложения: «Человек, передавший вам паспорт, – наш друг. Доброго пути, до встречи в России. Кропоткин».
Сказав это, Лакатос тут же подсунул мне чернильницу и бумагу, вставил в мою руку перо, и, друзья мои, – позволите ли вы мне еще так вас называть? – я написал. Моя рука написала, никогда она еще не писала так быстро.
Даже не дожидаясь, пока эти слова высохнут, Лакатос взял бумагу. Когда он выходил, она, как знамя, развевалась в его руке. В другой руке покачивался красный портфель.
Все произошло значительно быстрее, чем я об этом рассказываю. Уже через пять минут я вскочил, поспешно расплатился и помчался на поиски экипажа. Экипажа не было. Вместо него я увидел прямо на меня бегущего лакея, который служил при посольстве. Меня звал к себе Соловейчик.
Разумеется, я сразу понял, что это Лакатос сообщил, где меня можно найти. Вместо того чтобы использовать какую-нибудь отговорку и найти экипаж, я последовал за лакеем.
Хотя в приемной для посвященных я был один, он заставил меня долго ждать. Прошло десять минут, которые показались мне вечностью. И тут он меня вызвал.
– Мне надо бежать! Речь идет о жизни дорогих мне людей, мне надо бежать! – сразу выпалил я.
– О ком это вы? – не спеша спросил он.
– О Ривкиных!
– Не знаю, ничего о них не знаю, – сказал Соловейчик. – Сидите! Вам нужны были деньги. Вот, пожалуйста! За особые заслуги!
И он дал мне мое вознаграждение! Друзья мои, кто никогда не получал деньги за предательство, для того «тридцать сребреников» – лишь расхожая фраза. Но для меня – нет! Нет, нет!
Я выбежал оттуда, даже не взяв шляпу, и немедленно схватил экипаж. Я то и дело барабанил по спине извозчика, а он все сильнее щелкал кнутом. Мы подъехали к дому швейцарца. Я соскочил. Этот добрый человек встретил меня со счастливым лицом.
– Наконец-то они свободны, наконец, спасены! – закричал он. – Спасибо вам! Они уже на железной дороге. Ваш секретарь сразу же их отвез. О, вы благороднейший человек!
В его глазах стояли слезы. Он наклонился, чтобы поцеловать мою руку. Где-то заливалась канарейка.
Одернув руку и не попрощавшись, я снова сел в экипаж и поехал в гостиницу.
По дороге я достал из кармана чек и судорожно сжал его в руке. Это были мои греховные деньги, теперь они должны были искупить мой грех. Это была невероятно большая сумма. И хотя я и так уже рассказал о себе много позорного, мне и сегодня стыдно назвать эту цифру. Больше – никакой Лютеции, никакого портного, никакого Кропоткина! В Россию! С такими деньгами можно перехватить их еще на границе. Телеграфировать коллегам. Меня знают. С деньгами можно вернуть их назад. Больше – никаких идиотских амбиций! Все исправить! Исправить! Сложить чемодан и – в Россию! Спастись! Спасти свою душу!
Я оплатил гостиницу, велел упаковать чемоданы и заказал себе выпить. Я пил и пил. Меня одолело какое-то дикое веселье. Я уже был спасен. Я телеграфировал шефу нашей пограничной тайной полиции Канюку, чтобы он придержал Ривкиных. Вместе с прислугой я стал рьяно укладывать вещи.
Около полуночи я был готов. Мой поезд отправлялся только в семь утра. В кармане я нащупал ключ. По форме его бородки я узнал ключ от квартиры Лютеции. Ах, стало быть – указание свыше. Надо еще успеть к ней. Благословенная ночь! Во всем признаться и все рассказать. Попрощаться, дать свободу ей и себе.
Я поехал к Лютеции. На улице я почувствовал, что слишком много выпил. Повсюду я видел поющих, возбужденных людей со знаменами, взволнованных ораторов, плачущих женщин. Как вы знаете, тогда в Париже застрелили Жореса. Все, что я видел, конечно, означало войну. Но я был настолько погружен в свои мысли, что ничего не понимал, такой себе подвыпивший дуралей.
Я был готов сказать, что обманывал ее. Раз уж я решил быть порядочным, ничто не могло меня удержать. Я упивался своей порядочностью, как раньше – злодейством. И лишь намного позже я понял, что подобный дурман не держится долго, это невозможно. Добродетель – вещь трезвая.
Да, я хотел во всем исповедаться, хотел – и это представлялось мне таким трагичным – унизить себя перед любимой женщиной, чтобы потом навсегда с ней проститься. Достойное, смиренное отречение казалось мне в тот момент куда возвышенней напускного аристократизма, и даже выше страсти. Если все это время я был героем, достойным сожаления, то с этого момента я хотел стать страдающим, униженным, безымянным, но настоящим героем.
В этом состоянии, если можно так выразиться, торжественной угрюмости я шел к Лютеции. Это было время, когда она меня ждала. Я открыл дверь и удивился, что в прихожей, вопреки обыкновению, навстречу мне не вышла горничная. Все двери были открыты. Мимо противного попугая и остального зверья надо было пройти в освещенный салон, а потом через туалетную комнату в нежно-голубую спальню, которую Лютеция, как правило, называла будуаром.
Не знаю почему, но я медлил, шел осторожнее, чем обычно. Дверь, ведущая в спальню, была прикрыта. Я нерешительно отворил ее.
Лютеция лежала рядом с мужчиной, ее голова покоилась на его руке. И, как вы могли уже догадаться, это был молодой Кропоткин. Казалось, они оба так крепко спали, что не слышали, как я вошел. На цыпочках я приблизился к кровати. О, в мои планы совсем не входило устраивать сцену. Представшее передо мной зрелище в тот момент причинило мне сильную боль, но это не было ревностью. Эта боль, учитывая то героическое настроение, в котором я пребывал, была чуть ли не желанной. Она в какой-то мере подтверждала мой героизм и укрепляла принятые мною решения. Собственно говоря, я намеревался потихоньку их разбудить, и, пожелав обоим счастья, обо всем рассказать. Но получилось так, что Лютеция проснулась, истошно закричала и, конечно, разбудила Кропоткина. Он сел прежде, чем я успел что-то сказать. На нем была ярко-синяя шелковая пижама, открывавшая голую грудь. Это была бледная, слабая, безволосая юношеская грудь. Грудь мальчика. И я не знаю, почему, но в тот момент меня это сильно разозлило.
– А, Голубчик, – потирая глаза, сказал он, – вы еще до сих пор не уехали? Разве мой секретарь не рассчитался с вами окончательно? Подайте мне пиджак и, сделайте одолжение, возьмите мой бумажник.
Лютеция молча глядела на меня. Наверняка она уже обо всем знала.
Поскольку я не шевелился и продолжал с грустью смотреть на князя, он, по своей дурости, принял этот взгляд за наглый вызов с моей стороны и внезапно зарычал:
– Вон отсюда! Наемный стукач, негодяй! Вон!
А так как в этот же самый момент я увидел, что совершенно обнаженная Лютеция, приободрившись, выпрямилась, то, вопреки всем намерениям, хотя я не ощутил никакого плотского вожделения при виде обнаженной женщины (по тупому мужскому разумению вообще-то принадлежавшей мне), во мне проснулась страшная ярость.
Голая Лютеция совершенно сбила меня с толку, а в мой мозг, мою кровь, возбуждая ненависть, врезалось только одно слово: «Голубчик!». И громче князя я завопил ему прямо в лицо:
– Голубчиком зовут не меня, а тебя! Кто знает, с каким голубчиком спала твоя мать! Никто этого не знает. А с моей мамой спал старый Кропоткин. И я – его сын!
Тут этот хлюпик вскочил и схватил меня за горло. Без одежды он казался еще слабее. Его нежные руки не могли обхватить мою шею. Я толкнул его, и он повалился на кровать.
Отныне я не соображал, что творил. Я и сейчас еще слышу пронзительный крик Лютеции. Я вижу, как она, абсолютно голая, соскочила с кровати, чтобы защитить этого типа. Больше я не владел собой. В моем кармане лежала тяжелая связка ключей, к которой был прикреплен железный замок. Этот замок в целях безопасности я иногда вешал на свой чемодан, когда в нем лежали особо важные документы. Теперь у меня не было никаких важных документов. Я больше не был сыщиком. Я был порядочным человеком. Меня спровоцировали, меня вынудили совершить убийство. Не сознавая, что делаю, я полез в карман. Я ударил по голове Кропоткина и Лютецию. До того часа я еще никогда никого, будучи разъяренным, не бил. Я не знаю, что бывает с другими, когда их охватывает ярость. Со мной, друзья мои, было так, что каждый новый удар приносил мне до тех пор неведомую радость. В то же время мне казалось, что эти удары приносят радость и моим жертвам. Я бил, бил – и мне, друзья мои, не стыдно об этом говорить.
Тут Голубчик встал со стула, и все, кто его слушал, посмотрели вверх, на его лицо. Оно становилось то бледным как полотно, то фиолетовым. Несколько раз он обрушил свои кулаки на стол с такой силой, что, жалобно опрокинувшись, на пол покатились до половины наполненные шнапсом стаканы, и хозяин поспешил от этой участи спасти графин. Он тоже взволнованно наблюдал за Голубчиком, тем не менее, в силу своего положения, сохранял присутствие духа. Сначала Голубчик закрыл глаза, потом открыл. Видно было, как дрожали его веки, а тонкий след слюны образовал вокруг посиневших губ подобие белого рубца. Да, так, должно быть, он выглядел тогда, в момент убийства. Теперь все мы знали – он был убийцей…
Он снова сел. К нему вернулся обычный цвет лица. Вытерев тыльной стороной ладони губы, а затем носовым платком – руку, он продолжил:
– Вначале я увидел на лбу у Лютеции, повыше левого глаза, глубокий порез, из которого на лицо и подушку хлестала кровь. Хотя Кропоткин, моя вторая жертва, лежал рядом, мне все же казалось, что его там нет, – это удивительная способность с открытыми глазами не замечать того, чего не хочешь. Я видел только струящуюся кровь Лютеции. Мое злодейство не напугало меня. Нет! Мне только было страшно от этого не прекращающегося потока, этого изобилия крови, содержащегося в человеческом черепе. Словно скоро, если подождать, я утону в крови, которую сам пролил.
Вдруг я совершенно успокоился. Теперь я был уверен, что они оба будут молчать. Что они замолчали на целую вечность. Было совсем тихо, только незаметно подкравшиеся кошки прыгнули на кровать. Наверное, почуяли кровь. В соседней комнате попугай прохрипел мою фамилию, мою украденную фамилию Кропоткин!
Я подошел к зеркалу. Я был спокоен. Рассматривая себя, я сказал вслух своему отражению: «Ты – убийца!». И тут же подумал о том, что полицейский должен хорошо выполнять свою работу!
Затем в сопровождении бесшумных кошек я пошел в туалет, вымыл руки, связку ключей и замок.
Сев за неудобный изящный письменный стол Лютеции, я искаженным почерком латинскими буквами написал несколько бессмысленных фраз: «Мы и без того хотели умереть. Теперь мы мертвы от третьих рук. Наш убийца – друг моего возлюбленного князя!»
Точное копирование почерка Лютеции доставило мне тогда особое удовольствие. Впрочем, с ее чернилами и пером, это было несложно. У нее был почерк, как у всех мелких и вдруг вознесшихся мещанок. И все же я потратил необычайно много времени на убедительную подделку этого почерка. Вокруг меня увивались кошки, и время от времени попугай выкрикивал «Кропоткин»!
Закончив писать, я вышел из комнаты, запер на два оборота спальню и входную дверь. Спокойно и бездумно спустился по лестнице, как всегда, вежливо поздоровался с привратницей, несмотря на поздний час сидевшей с вязанием в конторке. Она даже встала. Ведь я был князем, и она часто получала от меня княжеские чаевые.
В ожидании экипажа я еще постоял перед воротами дома. Увидев свободную коляску, я подозвал ее жестом, сел и поехал к дому, где жили Ривкины. Разбудив швейцарца, я сказал, что должен у него спрятаться.
– Заходите, – сказал он, повел меня в комнату, которую раньше я никогда не видел, и добавил: – Оставайтесь, здесь безопасно.
Он принес мне хлеба и молока.
– Я должен вам кое-что рассказать. Я совершил убийство не по политическим мотивам, а по личным, – сказал я.
– Это меня не касается, – ответил он.
– Я должен сообщить вам намного больше.
– Что же?
Было темно. Набравшись мужества, я сказал, чем занимаюсь уже много лет, и повторил, что сегодняшнее убийство носит личный характер.
– В этом доме вы останетесь до рассвета, и ни секундой больше! – сказал швейцарец.
А потом, словно в нем пробудился ангел, добавил:
– Спокойной ночи. Да простит вас Господь!
Нет нужды говорить вам, друзья мои, что я не спал. До рассвета было еще далеко. Я лежал без сна, не раздеваясь.
Я должен был покинуть этот дом, и я его покинул. Я бесцельно блуждал по просыпавшимся улицам. Когда на всех башнях пробило восемь, я направился в посольство. Я все верно рассчитал. Без всякого предупреждения я вошел в кабинет Соловейчика и все ему рассказал. И вот что я от него услышал:
– В вашей жизни много бед, но кое в чем вам все же повезло. Вы не знаете, что сейчас происходит. Во всем мире идет война. Она разразилась в эти дни, может быть, даже в те часы, когда вы совершали преступление или, скажем лучше, – ваше убийство. Вы должны быть призваны! Подождите полчасика, и это произойдет!
Что ж, друзья мои, я был призван на фронт, и с радостью туда отправился. Напрасно на границе я пытался что-либо узнать о Ривкиных. Канюка там уже не было. О моей телеграмме никто ничего не знал. Всем вам, кто побывал на войне, не надо рассказывать, какой она была, эта Мировая война. Смерть всегда ходила рядом. И мы все с ней сроднились, как с родным братом. Многие ее боялись, я же искал ее. Искал изо всех сил. В окопах, в дозоре, перед колючей проволокой, в перекрестном огне, в газовой атаке – везде, где только можно, я искал смерти. Я получал награды, но так и не был ранен. Смерть избегала и презирала меня. Вокруг гибли мои товарищи. Но я не оплакивал их. Я сожалел лишь о том, что погиб не я. Убивая других, сам я оставался жив. Я приносил жертвы на алтарь смерти, а она наказывала меня тем, что меня, меня одного, не желала знать.
Я жаждал ее, потому что верил, смерть – это мучение, которым можно искупить свою вину. Лишь позже я начал понимать, что она – не мучение, она – спасение. А я его не заслужил.
Нет смысла, друзья мои, сообщать вам обо всех несчастьях, которые затем обрушились на Россию, вы и так все это знаете. И это не относится к моей истории. Меня же касается только то, что, уцелев против собственной воли на войне, я сбежал от революции. Сначала я попал в Австрию, потом в Швейцарию. Оставим, пожалуй, подробности всех этапов моего пути.
Меня тянуло во Францию, в Париж. После того как смерть пренебрегла мною, меня, как и любого убийцу, тянуло на место моего отвратительного преступления. И вот я прибыл в Париж. Хотя стояла поздняя осень, день был очень приветливый. Ведь в Париже зима выглядит так, как у нас, в России, – осень. Город праздновал победу, радовался миру. Но что мне было до победы, до мира? Я побрел на Елисейские Поля, к дому, в котором когда-то совершил убийство.
Перед дверью стояла та самая привратница. Она меня не узнала. Как она меня, поседевшего, могла узнать? Я был таким, как сейчас. С колотящимся сердцем я спросил ее о Лютеции.
– Третий этаж, слева, – сказала она.
Я поднялся, позвонил. Дверь открыла сама Лютеция. Я сразу ее узнал. Она меня – нет. Она не собиралась меня впускать.
– Ах, – сказала она через мгновение, отступила назад, закрыла дверь и снова открыла.
– Ах, – раскрыв объятья, повторила она.
Друзья мои, я не знаю, почему я упал в эти руки. Мы долго-долго стояли, обнявшись. У меня было отчетливое ощущение, что все это жутко банально, смешно и даже гротескно: обнимать женщину, которую, как я думал, я убил собственными руками.
Теперь, друзья мои, я пережил самую большую, самую глубокую из всех возможных трагедий – трагедию пошлости!
Поначалу я остался у Лютеции. Кстати, ее давно уже так не звали, и о нашем портном к тому времени она и думать забыла. Я остался у нее из любви, раскаянья, слабости… Кто знает, из-за чего, друзья мои?
Я никого не убил. Возможно, Ривкиных. Не далее как позавчера в Люксембургском саду я повстречал молодого князя Кропоткина. Его сопровождал все тот же секретарь с серебристо-черными бакенбардами. Он был жив, только выглядел более жалким и бедным, чем когда-то. Князь шел, прихрамывая, опираясь на две трости – наверное, то было следствие нанесенного мною удара.
– Ах, Голубчик! – увидев меня, крикнул он. И это прозвучало почти что приветливо.
– Да, это я. Простите меня!
– Ни слова, ни слова о прошлом! – выпрямившись с помощью своих тросточек, сказал он. – Важно только настоящее и будущее!
Я сразу понял, что он не в своем уме, и сказал:
– Да-да.
В его глазах неожиданно зажглись едва заметные искорки, и он спросил:
– Лютеция? Она жива?
– Жива, – сказал я и поспешил проститься.
– В сущности, на этом моя история заканчивается, – сказал Голубчик, – хотя я мог бы рассказать вам и о другом…
На улице светлело. Это ощущалось через опущенные дверные жалюзи, сквозь редкие щели которых робко и в то же время победоносно пробивалось золотистое летнее утро. Уже был слышен шум просыпающихся парижских улиц и особенно – ликующий гомон птиц.
Мы все молчали. Наши стаканы давно уже были пустыми. Неожиданно раздался резкий стук.
– Это она! – вырвалось у Голубчика. И в следующую секунду он исчез, спрятавшись под столом.
Хозяин заведения неторопливо подошел к двери, открыл ее и, вставив в замок большой ключ, начал медленно и шумно подымать вверх железные жалюзи. Это длилось бесконечно долго, и, наконец, нашу бессонную ночь сменил стремительно ворвавшийся день. Еще стремительнее в ресторан вошла худая, уже немолодая женщина, напоминающая большую, сухопарую птицу. Над ее левым глазом виднелся глубокий, уродливый шрам, который она тщетно пыталась прикрыть слишком тонкой и короткой черной вуалькой, свисающей со смешной шляпки. Ее пронзительный голос, которым она спросила: «Где мой Голубчик? Он здесь?» – напугал нас настолько, что даже если бы мы захотели сказать ей правду, то не смогли бы. Бросив еще пару неприятных нечеловечески быстрых, птичьих взглядов, она удалилась.
Только спустя некоторое время из своего укрытия вылез Голубчик.
– Она ушла! – сказал он с облегчением. – Это была Лютеция. – И тут же добавил: – До свидания, друзья мои! До вечера!
С ним вместе ушли водители. На улице уже ждал первый пассажир, нетерпеливо нажимавший на клаксон.
Мы с хозяином остались одни.
– Каких только историй не наслушаешься у вас, – сказал я.
– Они самые обыкновенные, самые обыкновенные, – ответил хозяин. – Чем жизнь может еще удивить? Она делится с нами самыми обычными историями. Вам ничего не помешает снова прийти, а?
– Ну, конечно, нет! – сказал я.
Произнося это, я был убежден, что и хозяина, и убийцу Голубчика, и всех остальных завсегдатаев этого ресторана увижу еще не раз. Я направился к выходу.
Хозяин счел необходимым проводить меня до самого порога. Было видно, что он сомневался в том, что я и правда собираюсь впредь посещать это место.
– Вы точно придете? – еще раз спросил он.
– Само собой разумеется! Вы ведь знаете, я живу напротив, в гостинице «Fleurs Vertes».
– Знаю, знаю, – сказал он, – но мне вдруг показалось, что вы уже где-то очень далеко.
Эти неожиданные слова не испугали меня, но сильно смутили. Я почувствовал в них какую-то важную, пока еще скрытую от меня правду. То, что хозяин «Тары-бары» после ночного застолья проводил до двери своего постоянного гостя, – было не чем иным, как общепринятой вежливостью. И все-таки в этом было что-то странное, торжественное. Я бы сказал, неоправданно церемонное. Из гаражей уже вернулись первые экипажи. Они бодро подкатывали к ресторану, хотя уставшие после ночной работы извозчики, сидя на козлах, еще спали. И поводья в их сонных руках тоже казались спящими. К большим войлочным туфлям хозяина близко скакнул доверчивый дрозд. Он так спокойно стоял рядом с нами, будто о чем-то задумался или же его заинтересовал наш разговор. Пробуждались всевозможные утренние звуки: со скрипом отворялись ворота, тихо позвякивали окна, скребя мостовую, шаркала метла, где-то хныкал внезапно вырванный из сна ребенок. Про себя я подумал, что это утро такое же, как все. Обычное парижское летнее утро! И вслух сказал:
– Но я ведь никуда не уезжаю. У меня и мысли такой нет!
При этих словах вместо громкого и уверенного из меня вырвался слабый, робкий смех – не смех, а какой-то выродок.
– Ну, значит, до свидания! – сказал хозяин. И я пожал его мягкую, пухлую, желтоватую руку.
Я шел, не оборачиваясь, но чувствовал, что он уже вернулся в ресторан. Я намеревался перейти дорогу, чтобы попасть в свою гостиницу, однако не сделал этого. Мне показалось, что это утро манит меня совершить небольшую прогулку и что есть что-то неуместное и даже неприятное в том, чтобы в такое время, когда не можешь сказать, слишком рано сейчас или слишком поздно, возвращаться в убогий гостиничный номер. Я решил пару раз обойти этот жилой квартал.
Не знаю, как долго я бродил, и не помню ничего, кроме доносившегося с разных башен звона бесчисленных колоколов, когда я, наконец, подошел к гостинице. Солнце уже основательно, по-свойски заполнило весь вестибюль. Хозяин гостиницы в своей розовой рубашке успел уже так вспотеть, как в другие дни это с ним бывало только после полудня. Во всяком случае, у него был очень озабоченный вид, хотя в данный момент он ничего не делал. И я сразу понял почему.
– Наконец-то гость! – сказал хозяин, показывая на стоящие возле его письменного стола три чемодана. – Вы только взгляните на эти чемоданы, и тогда вы сразу поймете, какой это гость!
Я посмотрел и увидел три грандиозных желтых чемодана из свиной кожи с медными замками, блестевшими, как таинственные закрытые золотые рты. На каждом стояли кроваво-красные инициалы Й.Л.
– Он занял двенадцатый номер. Рядом с вами. Знатных гостей я всегда селю рядом.
Сказав это, он дал мне ключ. Подержав ключ какое-то мгновение, я вернул его.
– Мне бы хотелось внизу выпить кофе. Слишком устал, чтобы идти наверх, – сказал я.
Я пил кофе в маленьком кабинете. На столе стояли чернильница с давно высохшими чернилами и керамическая ваза с искусственными фиалками, напоминающими о дне поминовения усопших.
Открылась стеклянная дверь, и, пританцовывая, вошел элегантный господин. От него исходил поразительно сильный запах фиалок, так что на мгновение я подумал, что ожили эти искусственные фиалки в керамической вазе. При каждом шаге – я это видел отчетливо – левая нога этого господина очерчивала полный круг, но не без изящества. Он был одет во все светло-серое, словно его уже окутало лето. Казалось, что его разделенные на прямой пробор блестящие иссиня-черные волосы были приглажены не расческой, а языком.
Он приветливо и в то же время сдержанно мне кивнул.
– Мне тоже кофе, – крикнул он хозяину через оставленные им открытыми двери.
Это «тоже» – возмутило меня. Получив свой кофе, он долго, слишком долго размешивал его ложечкой. Я хотел было подняться, но тут он голосом, звучавшим бархатисто, как флейта, как флейта из бархата, сказал:
– Вы здесь тоже чужой, не так ли?
Эти слова в моих ушах прозвучали как эхо той фразы, которую я сегодня (или это было вчера?) уже слышал. Да-да! От Голубчика! Может, не дословно. В тот же миг меня озарило: Йено Лакатос, и я вспомнил о кроваво-красных инициалах, которые увидел на желтых замках: Й.Л.
– Как долго вы здесь пробудете? – вместо ответа спросил я.
– О, у меня много времени! Оно все в моем распоряжении! – сказал он.
С незаполненным бланком к нам подошел хозяин. Он попросил нового гостя вписать свое имя.
– Записывайте, – сказал я, хотя меня никто не спрашивал, и я до сих пор не знаю, как решился на эту дерзость, – в графе фамилия – Лакатос, в графе имя – Йено.
Я встал, поклонился и вышел. В этот же день я покинул рю Де-Катр-Ван и никогда больше не видел ни Голубчика, ни тех, кто слышал его историю.