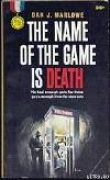Текст книги "Исповедь убийцы"
Автор книги: Йозеф Рот
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Йозеф Рот
Исповедь убийцы
Год назад я жил на рю Де-Катр-Ван. Окна моей квартиры смотрели на русский ресторан «Тары-бары», в который я частенько захаживал. Там в любое время суток можно было съесть тарелку борща, запеченную рыбу или отварную говядину. Бывало, я вставал поздно, к концу дня. Во французских ресторанах, строго соблюдавших традиционное обеденное время, уже велась подготовка к ужину, а в русском – время не имело никакого значения. На стене висели жестяные часы, которые то останавливались, а то показывали неверное время. Казалось, они там лишь для того, чтобы посмеиваться над людьми. И на них никто не смотрел. Большинство посетителей этого ресторана были русскими эмигрантами. И даже те из них, кто на родине отличался пунктуальностью, точностью, здесь, на чужбине, либо все это теряли, либо стеснялись показывать. Это было похоже на демонстративный протест эмигрантов против расчетливости, против рационального образа мыслей западных европейцев. Словно они старались не только оставаться настоящими русскими, но еще и играть в «настоящих русских» в соответствии со сложившимся о них у западных европейцев представлением. Таким образом, эти неверно показывающие или вовсе стоящие часы в ресторане «Тары-бары» были больше, чем просто случайным реквизитом, они были неким символом, отменяющим законы времени. Случалось, я наблюдал, как русские таксисты, обязанные придерживаться определенного рабочего графика, ходом времени были озабочены не более, чем безработные эмигранты, живущие на подаяния зажиточных соотечественников. Среди посетителей «Тары-бары» бывало очень много таких не имеющих работы русских. Их можно было увидеть там в любое время дня, поздним вечером и даже ночью, когда хозяин с официантом начинали подводить итоги, когда была уже закрыта входная дверь и над кассой горела одна-единственная лампа. И покидали они помещение вместе с хозяином и официантом. Иным из них, бездомным или подвыпившим, хозяин разрешал переночевать в ресторане. Разбудить их было нелегко. А проснувшись, они были вынуждены искать приют у своих знакомых. Несмотря на то что в большинстве случаев, как уже говорилось, я вставал очень поздно, все же иногда по утрам, случайно оказавшись у окна, я видел, что «Тары-бары» уже открыт и работа в нем идет полным ходом. То и дело входили люди, очевидно, для того чтобы съесть там свой первый завтрак, а иногда просто выпить. Я видел, как некоторые заходили уверенной походкой, а выходили, уже пошатываясь. Отдельные лица и фигуры я запоминал. Среди них был и один привлекший мое внимание человек, который, казалось, находился в «Тары-бары» постоянно. Всякий раз утром, подходя к окну, я видел, как он возле двери ресторана провожал или приветствовал гостей. И всегда, когда ближе к вечеру я заходил поесть, он, сидя за каким-нибудь столиком, болтал с гостями. Если же совсем поздно, перед самым закрытием, я попадал в «Тары-бары», чтобы выпить еще немного шнапса, этот странный господин сидел возле кассы и помогал хозяину с официантом подсчитывать выручку. Похоже, с течением времени он привык к моим взглядам и принимал меня за своего рода коллегу. Он удостоил меня звания завсегдатая ресторана, каким являлся сам, и уже через пару недель приветствовал как своего многозначительной улыбкой, какой обмениваются старые знакомые. По правде сказать, поначалу эта улыбка мне мешала, потому что обычно правдивое, симпатичное лицо этого человека с улыбкой приобретало не то чтобы противное, но какое-то подозрительное выражение. Она не была светлой, не освещала лица и вопреки своей приветливости выглядела угрюмой. Да, как промелькнувшая на лице тень, хотя и приветливая. Так что мне было приятнее, когда этот человек не улыбался.
Само собой разумеется, что из вежливости я улыбался ему в ответ и надеялся, что эти взаимные улыбки какое-то время будут оставаться единственным свидетельством нашего знакомства. В душе я даже намеревался, если этот незнакомец однажды заговорит со мной, больше не посещать это место. Однако со временем подобные мысли покинули меня. Я привык к этой призрачной улыбке и начал немного интересоваться ее обладателем. Вскоре во мне даже пробудилось желание узнать его поближе.
Пришло время описать этого человека более подробно. Он был высоким, широкоплечим, волосы у него были пепельного цвета. На своих собеседников он смотрел ясными, иногда мигающими и всегда трезвыми голубыми глазами. Большие, ухоженные пепельные усы отделяли верхнюю часть его широкого лица от нижней, и обе эти части были одинаково крупными. Из-за этого лицо казалось немного скучным, незначительным, в нем не было никакой загадки. Сотни таких мужчин я видел в России, десятки – в Германии и других странах. В этом сильном, большом мужчине поражали деликатные, длинные кисти рук, мягкая, тихая, почти неслышная походка. И вообще, все его движения были медленными, робкими, осторожными. Поэтому порой мне казалось, что в его лице все же таилась какая-то загадка и что эту сияющую открытость, эту искренность он только изображал, чтобы у людей, с которыми он разговаривал, не было оснований не доверять ему. И тем не менее при каждом его взгляде я неизменно говорил себе, что если он может так безукоризненно, так простодушно притворяться искренним, то он и в самом деле должен быть таковым. И, может быть, улыбка, которой он меня приветствовал, казалась несколько сумрачной лишь от его смущения, потому что в действительности, когда он улыбался, блеск крупных зубов и отливающие золотом усы делали его облик светлее, улыбаясь, он как будто терял свой сложный пепельный цвет волос и становился белокурым. Я заметил, что этот человек становится мне все приятнее. И вскоре, входя в ресторан, еще у дверей я даже начинал немного радоваться ему, как радовался привычным для меня шнапсу и приветствию милого, толстого хозяина.
Ни разу, находясь в «Тары-бары», я не дал понять, что знаю русский язык. Однажды, когда я сидел за столом с двумя таксистами, они напрямик спросили меня, какой я национальности. Я ответил, что немец. Если они собираются при мне обсуждать какие-то свои тайны, причем на любом языке, то пускай делают это после моего ухода, поскольку я понимаю почти все европейские языки. Но так как именно в этот момент освободился другой столик, я пересел и оставил этих двоих вместе с их секретами. Таким образом, им не пришлось спрашивать меня, понимаю ли я по-русски, что, очевидно, входило в их планы. И снова никто ни о чем не догадывался.
Но в один прекрасный день, скорее вечер или, если быть совсем точным, – уже в ночное время, это стало известно. Все произошло благодаря этому завсегдатаю, который, вопреки своему обыкновению, сидел молчаливо и угрюмо, если эта характеристика все же к нему применима, прямо напротив стойки.
Я зашел туда около полуночи, намереваясь выпить всего одну рюмку шнапса и сразу уйти. Поэтому я не искал места за столом, а остановился у стойки рядом с двумя другими припозднившимися гостями, которые, вероятно, тоже зашли сюда лишь ради рюмки шнапса, но, вопреки своим первоначальным намерениям, задержались надолго. Перед ними стояло несколько пустых и полупустых рюмок, а между тем им могло казаться, что выпили они всего по одной. Если не сесть за стол, а остаться у стойки, – время бежит особенно быстро. Сидя за столом, каждую секунду видишь, сколько выпито, и соотносишь число опустошенных рюмок с ходом стрелок. А вот зайдя в ресторан, как говорится, «на минутку», не отходя от стойки, пьешь, пьешь и при этом думаешь, что все еще длится та самая минутка. В тот вечер это случилось и со мной. Как и те двое, я выпил одну, вторую, третью рюмку, и все еще стоял там. Я напоминал тех, кто, зайдя в дом, вечно торопится и вечно медлит, кто, не снимая пальто, держится за дверную ручку, каждое мгновение хочет попрощаться, но, словно оккупировав это место, еще долго не уходит. Оба посетителя достаточно тихо общались с хозяином по-русски. То, что говорилось у стойки, наш завсегдатай мог слышать только частично. Он сидел в отдалении от нас (я видел его в зеркале, висевшем позади буфета) и, кажется, не был настроен слушать или участвовать в разговорах. По привычке я вел себя так, будто ничего не понимаю. Но вдруг одна фраза настолько задела мой слух, что я не смог удержаться.
Прозвучала она так: «И что это наш убийца сегодня такой мрачный?» Сказав это, один из гостей указал пальцем на отражение седовласого господина в зеркале. Я непроизвольно повернулся в его сторону и тем самым, стало быть, дал понять, что понял вопрос. Это тут же вызвало ко мне некоторое недоверие, но еще больше – удивление. Русские не без основания боялись шпиков, и в любом случае мне не хотелось, чтобы они приняли меня за одного из них. Но в то же время эти странные слова «наш убийца» так сильно меня заинтересовали, что сначала я решил спросить, почему этого человека так называют. Но дело в том, что когда я столь неосторожно повернулся, то заметил, что так необычно названный господин тоже услышал этот вопрос. Он улыбнулся и кивнул. И, может, сам бы сразу на него и ответил, если бы в этот же момент я сдержал свой порыв и не возбудил подозрений.
– Так значит, вы русский? – спросил меня хозяин.
– Нет, – хотел сказать я, но, к моему удивлению, это за моей спиной произнес все тот же господин и добавил: – наш постоянный гость – немец, но он понимает русский, а молчал всегда только из скромности.
– Это так, – подтвердил я и, повернувшись к нему, сказал: – Благодарю вас!
– Не за что, – встав и подойдя ко мне, сказал он, – меня зовут Голубчик. Семен Семенович Голубчик.
Мы обменялись рукопожатием. Хозяин и оба гостя рассмеялись.
– Откуда вам обо мне известно? – спросил я.
– Знакомство с русской тайной полицией не прошло напрасно, – ответил Голубчик.
В моей голове тут же сложился захватывающий сюжет: этот человек был старым сотрудником охранки и прикончил в Париже одного шпиона-коммуниста. Вот почему эти белорусские эмигранты, без всякой опаски и задних мыслей, чуть ли не трогательно называют его «нашим убийцей». Да, верно, все четверо – заодно.
– А откуда вы знаете наш язык? – спросил один из гостей.
И снова за меня ответил Голубчик:
– Он во время войны служил на Восточном фронте и шесть месяцев пробыл в так называемых «оккупационных войсках»!
– И это правда, – подтвердил я.
– Позже, – продолжал Голубчик, – он еще раз был в России, я хотел сказать, в Советском Союзе. По поручению одной крупной газеты. Он писатель!
Меня не слишком поразила эта точность сведений о моей личности, потому что я уже прилично выпил, а в этом состоянии я едва отличаю странное от само собой разумеющегося. Очень вежливо и несколько напыщенно я сказал, что благодарен за проявленный ко мне интерес и за то, что таким образом меня выделили среди прочих. Все засмеялись, а хозяин сказал, что я говорю, как старый петербургский советник. После этого все сомнения по поводу моей личности были развеяны, я даже почувствовал к себе благосклонное отношение, и все мы еще четырежды выпили за наше здоровье.
Заперев двери и убрав часть освещения, хозяин предложил нам присесть. Стрелки стенных часов показывали половину девятого. У меня не было никаких часов, а спрашивать о времени кого-то из гостей мне показалось неприличным. Склонен думать, что провел там полночи, а то и всю ночь. Перед нами стоял большой графин со шнапсом. По моей оценке, мы выпили в ту ночь, по меньшей мере, половину содержимого. Я спросил:
– Господин Голубчик, почему вас так странно назвали?
– Это мое прозвище, но не только. Много лет назад я убил одного мужчину и, как я тогда думал, также одну женщину, – сказал он.
– Это было политическое убийство? – спросил хозяин, и мне стало ясно, что и другие ничего, кроме прозвища, об этом не знают.
– Ничего подобного, – сказал Семен, – у меня не было никаких контактов с политиками, и я вообще не занимался общественной деятельностью. Мне ближе жизнь частная, и интересует меня только она. Я – настоящий русский, хотя родился на периферии, на Волыни. Но я никогда не мог понять моих сверстников с их безумной жаждой посвятить свою жизнь какой-нибудь сумасшедшей или даже здравой идее. Нет! Поверьте мне, нет! Приватная жизнь, простая человечность – намного больше, важнее, трагичнее, чем все общественное. Возможно, сегодня это звучит абсурдно, но я так думаю и до самого конца моей жизни буду так думать. Никогда политические страсти не смогли бы довести меня до убийства. И я не верю, что политический преступник лучше или благороднее любого другого, если, разумеется, вообще преступника можно считать благородным человеком. Например, сделавшись убийцей, я все равно остался вполне приличным человеком. Уважаемые господа, до убийства довела меня одна стерва, выражаясь мягче, – одна женщина.
– Очень интересно! – воскликнул хозяин.
– Вовсе нет! Очень буднично, банально, – скромно сказал Семен Семенович, а потом добавил: – И все же не совсем банально. Я могу вкратце рассказать вам мою историю, и вы увидите, что она, в общем-то, совсем простая.
И он начал рассказывать. Его рассказ оказался ни коротким, ни банальным. Поэтому я решил его здесь записать.
– Я пообещал вам небольшую историю, – сказал Голубчик, – но вижу, что начинать надо издалека, и поэтому прошу вас о терпении. Еще раньше я говорил, что меня интересует только частная жизнь. Сейчас я хочу вернуться к этой мысли. Хорошо присмотревшись, непременно приходишь к тому, что все так называемые большие исторические события на самом деле объясняются каким-то обстоятельством из личной жизни человека, иногда этих обстоятельств несколько. Полководцем, анархистом, социалистом или реакционером становятся не случайно, а только если на то есть личные причины. И все великие, благородные или постыдные деяния, меняющие в какой-то степени мир, являются следствием ничтожных происшествий, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Как уже говорилось, я был шпионом. И я часто ломал голову над тем, почему именно мне выпало такое недостойное занятие, ибо Господь, безусловно, к нему не благосклонен. Несомненно, меня оседлал демон, и это продолжается до сегодняшнего дня. Вы же видите, я больше не живу этим, но я не могу, не могу совсем оставить это дело. Наверняка существует какой-то демон шпионажа или сыска. Если меня кто-нибудь заинтересует, как, например, этот господин писатель, – и Голубчик головой указал на меня, – то я не успокоюсь, точнее что-то во мне не успокоится, пока я не узнаю, кто он, чем занимается, откуда родом. Разумеется, я знаю о вас больше, чем вы предполагаете. Ваша квартира через дорогу, и временами, утром, еще в неглиже, вы смотрите из окна. Но речь ведь не о вас, а обо мне. Итак, пойдем дальше.
Богу это ремесло явно не нравится, и все же окольными путями он дал мне понять, что выбрал его для меня.
Господа, или, по доброй, старой традиции моей родины, скажу лучше, друзья мои, как вам известно, моя фамилия – Голубчик. Справедливо ли это, спрашиваю я вас. Я всегда был большим и сильным. Еще мальчиком физически я был намного сильнее моих товарищей. И именно мне досталась фамилия Голубчик. Правда, тут вот еще что: по закону, по так называемому «закону природы», это не моя фамилия. Это фамилия моего официального отца. Между тем фамилия моего настоящего, биологического отца была Кропоткин. И я даже замечаю, что произношу это имя не без какого-то порочного высокомерия. В общем, вы поняли, я был незаконнорожденным. Князю Кропоткину принадлежало множество имений в разных областях России. И в один прекрасный день его охватило желание купить имение на Волыни. Ведь у таких людей случаются подобные прихоти. И тут он познакомился с моим отцом и моей мамой. Отец мой был старшим лесничим. Кропоткин решил уволить всех работников прежнего хозяина, но, увидев мою маму, уволил всех, за исключением отца. С этого-то все и пошло. Представьте себе обычного, светловолосого лесника в обыкновенной, соответствующей этой профессии одежде, и перед вами предстанет мой законный отец. Его отец, сиречь мой дед, был еще крепостным. Вам, думаю, ясно, что лесничий Голубчик не возражал против того, чтобы князь Кропоткин, его новый хозяин, частенько навещал мою маму в те часы, когда замужние женщины в нашей стране обычно спят со своими законными мужьями. Нет никакой надобности продолжать. Через девять месяцев на свет появился я, а мой настоящий отец к тому времени уже три месяца пребывал в Петербурге. Он присылал деньги. Он был князем и вел себя, как подобает князю, и моя мама до конца жизни помнила его. Заключил я это из того факта, что кроме меня у нее детей не было, а значит, после этой истории с Кропоткиным она уклонялась от исполнения своих, прописанных законом, супружеских обязанностей. Я точно помню, что лесничий Голубчик и моя мама никогда не спали в одной постели. В то время как в комнате он один занимал просторную супружескую кровать, у нее было импровизированное ложе в кухне на довольно широкой деревянной скамье, прямо под иконой. У лесника был достаточно хороший доход, и он мог позволить себе комнату и кухню. Мы жили примерно в двух-трех верстах от ближайшей деревни Вороняки, на краю темного леса. Ближе к деревне была более светлая березовая роща, а в нашем лесу росли одни ели. Мой законный отец, лесничий Голубчик, в сущности, был мягким человеком. Я ни разу не слышал, чтобы он ссорился с мамой. Но они оба знали, что́ между ними стоит, хотя никогда об этом не говорили. Однажды, мне тогда было лет восемь, в нашем доме появился один мужик из Вороняков. Он спросил лесника, но отец в это время как раз обходил лес. Когда мама сказала ему, что ее муж не появится до позднего вечера, мужик сел, сообщив, что может ждать до вечера и даже дольше, – до самого своего ареста, а это, по меньшей мере, – еще целый день! На вопрос мамы, почему его должны арестовать, он, улыбнувшись, ответил, что своими собственными руками задушил Арину, свою родную дочь Арину. Сидя около печки, я в мельчайших подробностях видел и маму, и этого мужика. Я хорошо запомнил эту сцену, и никогда ее не забуду! Я никогда не забуду, как, произнося те страшные слова, мужик с улыбкой смотрел на свои вытянутые вперед руки. Моя мама, которая в это время замешивала тесто, бросила муку, воду, наполовину вытекшее яйцо и, перекрестившись, а потом сложив руки на своем голубом фартуке, подошла к мужику и спросила:
– Вы задушили свою Арину?
– Да, – подтвердил мужик.
– Но почему, Господи, твоя воля, почему?
– Потому что она развратничала с вашим мужем, лесничим Семеном Голубчиком. Так ведь зовут вашего лесничего?
Все это мужик говорил, тоже улыбаясь какой-то незаметно выглядывающей из-за слов, точно луна из-за темных туч, улыбкой.
– В этом повинна я, – сказала мама.
До сих пор я слышу эти слова, как если б это было вчера. Тогда я их не понял, но хорошо запомнил. Она еще раз перекрестилась, потом взяла меня за руку и, оставив мужика в доме, пошла со мной через лес, то и дело выкрикивая имя Голубчика. Никто не откликался. Вернувшись домой, мы увидели, что мужик сидит, как сидел.
– Хотите каши? – спросила его мама, когда мы начали есть.
– Нет, – улыбаясь, вежливо ответил наш гость. – Но если у вас есть самогонка, то я не прочь.
Мама налила ему самогона, он выпил, и я хорошо помню, как он запрокинул голову и через его обросшее щетиной горло, словно это можно было увидеть снаружи, полилась водка. Он пил, пил и продолжал сидеть. Должно быть, стояла осень, и, когда солнце село, наконец пришел мой отец.
– Ах, Пантелеймон! – приветствовал он мужика.
– Давай, пожалуй, выйдем, – встав, совсем спокойно сказал тот.
– Зачем? – спросил лесник.
– Я только что убил Арину, – все так же спокойно ответил мужик.
Лесник сразу же вышел. О чем они говорили, мне неизвестно, но их очень долго, может быть, целый час, не было ни видно, ни слышно. Моя мама на кухне стояла на коленях перед иконой. Было тихо. Наступила ночь. Мама не зажигала света, и темно-красные лампадки под иконой были единственными светлыми пятнами в доме. Никогда до этого часа мне не было так страшно. Я примостился возле печки. Мама все время стояла на коленях и молилась, а отец все не приходил. Возможно, прошло еще три часа или даже больше, и вот, наконец, перед домом послышались шаги и чьи-то голоса. Отца, который весил немало, принесли четверо мужиков. Он был весь в крови. Наверняка его так отделал отец его любовницы.
Теперь я буду краток. Лесничий Голубчик от этих побоев так и не пришел в себя, заниматься своим делом он больше не мог и спустя пару недель умер. Хоронили его в очень холодный, уже зимний день, и я ясно помню, как могильщики в толстых шерстяных рукавицах похлопывали себя, чтобы немного согреться. Отца моего повезли на санях. Мы с мамой тоже сидели в санях, и во время езды мороз жалил мне лицо тысячью тоненьких, кристаллических иголок. Похороны отца принадлежат скорее к светлым воспоминаниям моего детства.
Passons![1]1
Не будем об этом! (франц.) (Здесь и далее – прим. перев.)
[Закрыть] – как сказал бы француз. Прошло немного времени, и я пошел в школу. Будучи мальчиком смекалистым, по поведению учителей я скоро понял, что я сын Кропоткина. А в один знаменательный день он и сам пожаловал в поместье. Это было весной, к его приезду деревня Вороняки была прибрана и украшена гирляндами, которые тянулись из конца в конец улицы. Князя встречал духовой оркестр. Целую неделю под руководством нашего учителя проводились репетиции. Но мама на этой неделе в школу меня не пустила, я тайком выведал, что все готовятся к приезду князя. И вот он приехал.
Деревню с ее гирляндами, музыкантов с их музыкой он предоставил самим себе, а сам – прямиком к нам. У него была красивая, темная с легкой проседью клинообразная бородка, от которой шел запах сигар. Кисти рук у него были очень длинными, худощавыми и сухими, даже тощими. Он гладил меня, расспрашивал. Поворачивая во все стороны, рассматривал мои руки, уши, глаза, волосы. Потом сказал, что у меня грязные уши и ногти. Достав из кармана жилетки маленький ножик из слоновой кости, он через две-три минуты из обычной доски вырезал для меня фигурку человека с бородой и длинными руками (позже я узнал, что он был искусным резчиком). Потом, тихо поговорив с моей мамой, он нас покинул.
С той поры, друзья мои, я уже совершенно точно знал, что я сын не Голубчика, а Кропоткина. Конечно, мне было обидно, что князь пренебрег и украшенной улицей, и музыкантами. В моем представлении было бы лучше, если бы, сидя рядом со мной в роскошной, запряженной четверкой белых лошадей коляске, он заехал в деревню. И тогда бы все – учителя, крестьяне, батраки и даже начальство – признали бы во мне законного, так сказать, угодного Богу наследника князя. А музыка и гирлянды предназначались бы скорее мне, а не моему отцу. Да, друзья мои, вот таким дерзким, тщеславным, эгоистичным, с безудержной фантазией был я тогда. О моей маме в этой ситуации я нисколько не думал. Правда, я все-таки понимал, что родить ребенка не от законного мужа для женщины – своего рода позор. Но ни позор моей мамы, ни мой собственный меня не трогали. Ровно наоборот, все это меня радовало, я воображал себе, что не только от рождения отмечен каким-то особым знаком, но к тому же являюсь любимым сыном князя. И даже после того, как все стало ясно, как божий день, фамилия Голубчик меня раздражала еще больше. Особенно потому, что после смерти лесника и приезда князя к моей маме, все произносили ее так язвительно, с таким особым оттенком, словно это была не нормальная, узаконенная, фамилия, а какая-то кличка. Это тем более злило меня, поскольку я сам эту смешную, совсем не подходящую мне фамилию воспринимал как насмешку, как прозвище. В моем тогда еще юном сердце с внезапной быстротой чередовались разные чувства. Я ощущал себя подавленным, даже униженным, а потом вдруг или даже одновременно с этим – снова важным и заносчивым. А иногда эти чувства, смешиваясь, сражались во мне. Все было так, друзья мои, как будто в моей маленькой мальчишеской груди поселилось жуткое чудовище.
Я отчетливо чувствовал милость и покровительство князя Кропоткина. В отличие от остальных мальчиков нашей деревни в одиннадцать лет я отправился в город В. учиться в гимназии. Вскоре по многим признакам я понял и немало этому обрадовался, что и здесь всем учителям известна тайна моего рождения. Но я не перестал злиться из-за несуразности моей фамилии. Я быстро рос вверх и почти так же вширь, а меня все еще звали Голубчик.
И чем взрослее я становился, тем больше это меня обижало. Я был Кропоткиным и имел, черт возьми, право так называться. Я решил еще немного подождать. Ну, еще год. Быть может, за это время князь все обдумает и в один прекрасный день явится – желательно, на глазах у всех, кто меня знал, – и пожалует мне свое имя, титул и все свое баснословное имущество. Я не хотел его опозорить, я хорошо и упорно учился. Мною были довольны. Но все это, друзья мои, было не чем иным, как дьявольским, сводящим меня с ума тщеславием. Оно мучило меня все больше, и вскоре я начал действовать. Правда, ничего гнусного вначале я не делал. Вы сию минуту непременно об этом услышите.
Итак, решив ждать целый год, я сразу же начал упрекать себя за это решение. Я полагал, что год – это слишком долго. Меня мучило нетерпение, и я пытался у самого себя выторговать пару месяцев. Я говорил себе, что решительный человек может далеко пойти, а в ту пору, друзья мои, я считал себя решительным человеком, которому негоже терять достоинство, терпение, отказываться от своих намерений. Вскоре я стал думать, что князь каким-то таинственным, прямо-таки магическим образом уже давно чувствует, чего я от него жду, и эти суеверные мысли помогали мне сохранять уверенность. Порой я воображал, что наделен какой-то сверхъестественной силой и что, вдобавок, невзирая на тысячи разделяющих нас верст, я самой природой связан с моим любимым отцом. Эти фантазии успокаивали меня и временно усмиряли мое нетерпение. Но по истечении года я подумал, что буду дважды прав, если напомню князю о его обязанностях по отношению ко мне, ибо то, что мне удалось преодолеть трудности этого года, я рассматривал как свою собственную большую заслугу. И тут произошло нечто, что ясно показало: само провидение одобряет мои намерения. Это было вскоре после Пасхи, в самый разгар весны. В это время года и душой, и телом я всегда чувствовал и чувствую по сей день прилив свежих сил и твердую, безрассудную, ни на чем не основанную уверенность, что мне подвластно все невозможное. Как-то, когда я жил в пансионе, я стал свидетелем одного странного случая. Это был разговор между хозяином пансиона и одним посторонним человеком, видеть которого я не мог, так как находился в соседней комнате. Я бы тогда многое отдал за то, чтобы увидеть этого человека и самому с ним поговорить, но мне нельзя было обнаружить свое присутствие. Очевидно, никто не думал, что я в это время нахожусь в доме, вернее, в соседней комнате. Я действительно оказался там случайно. Мой хозяин, почтовый служащий, разговаривал с этим человеком достаточно громко. После первых донесшихся до меня слов я сразу понял, что это тот самый представитель князя, который каждый месяц оплачивает мое питание, жилье и одежду. Вероятно, хозяин повысил цены, а представитель князя не соглашался с этим.
– Но я же вам сказал, – слышал я голос незнакомца, – что не могу в течение месяца с ним связаться. Он в Одессе. И пробудет там еще шесть-восемь недель. Он не хочет, чтобы его беспокоили, он не читает писем, живет замкнуто, целыми днями любуется морем и ни о чем не думает. Я повторяю вам, что не могу с ним связаться.
– Уважаемый, сколько же я должен еще ждать? – спросил мой хозяин. – С тех пор как он здесь, я заплатил дополнительных тридцать шесть рублей. Однажды он заболел, шесть раз сюда приходил врач, но мне никто ничего не возместил.
К слову сказать, я знал, что мой хозяин лжет, я не болел ни разу. Но тогда взбудоражило меня не это, а тот незначительный факт, что Кропоткин живет в Одессе, живет обособленно, у моря. В моей душе разыгралась страшная буря. Море, уединенный дом, желание князя шесть или даже восемь недель быть полностью оторванным от мира – все это тяжело ранило меня. Как будто князь удалился только для того, чтобы больше ничего обо мне не слышать, и будто он боялся меня, боялся, как никого другого на свете.
Это значит, сказал я себе, что год назад каким-то магическим путем до князя дошла весть о моем решении, но ввиду вполне объяснимой слабости он так ничего и не предпринял. А теперь, когда год на исходе, он испугался меня и спрятался. И все-таки, чтобы вы, друзья, лучше меня узнали, я хочу добавить, что тогда по отношению к князю я был способен и на легкий порыв великодушия. Мне стало его жаль, я был склонен истолковать его побег как простительную нерешительность. Вот так дерзко о ту пору я переоценивал свою значимость. Мой безумный план покорить князя был вызывающей смех заносчивостью, а мое детское великодушие, с которым я хотел простить ему мнимую слабость, – психотическим, как сказали бы врачи, состоянием.
Через час, после того как я случайно подслушал вышеупомянутый разговор, я взял остаток денег, заработанных мною уроками, и отправился к маме. Последний раз я был у нее на Рождество. Когда, всполошив ее своим внезапным появлением, я ее увидел, то сразу понял, что она больна. За те несколько месяцев, что мы не встречались, она очень постарела, стала совсем седой, и это сильно напугало меня. Впервые в жизни я отчетливо понял на примере самого близкого мне человека, что такое неумолимое приближение старости. А поскольку сам я был еще молод, для меня старость не означала ничего иного, кроме смерти. Да, смерть своими ужасными руками вцепилась в темя моей матери, чьи волосы увяли и поседели. Значит, она скоро умрет, думал я, искренне потрясенный. И повинен в этом, продолжал я думать, все тот же князь Кропоткин. Из-за чего князь, а он и без того в моих глазах был виноват, заслуживал еще большего укора. Чем тяжелее становилась его вина, тем правомочнее казалось мне дело, которое я замышлял.
Короче говоря, я сказал маме, что приехал лишь на пару часов по крайне необычному и секретному вопросу. Завтра я должен уехать в Одессу. Нет, ничего не случилось, – просто позвал князь. Вчера к хозяину приехал его представитель и передал это сообщение. А мама – единственный человек, которому я об этом говорю. Подчеркнув с важным и глупым видом, что она должна хранить молчание, я предположил, что князь, возможно, при смерти.