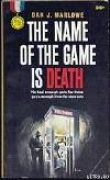Текст книги "Исповедь убийцы"
Автор книги: Йозеф Рот
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Итак, прежде всего – следить! Дитя смерти, ты дорожишь своей жизнью?
– Так точно, ваше превосходительство! – отвечали мы.
И после этого нас отпускали.
Однажды меня вызвал его секретарь и сообщил, что меня и некоторых моих товарищей ожидает особое задание. В Петербург из Парижа приглашен знаменитый мастер дамского платья господин Шаррон (это имя я услышал впервые). Шаррон намеревается в петербургском театре продемонстрировать свои новые модели. Некоторых дам из высшего общества интересуют наряды, а некоторые великие князья интересуются демонстрирующими эти наряды девушками. Но дело в том, сказал секретарь, что за ними надо смотреть самым тщательным образом. Кто знает, что это за девушки, которых господин Шаррон хочет с собой привести? Не прячут ли они под своими платьями оружие, бомбы? Им же это ничего не стоит! Они все время переодеваются, спускаются со сцены в ложи, возвращаются обратно, и вот уже происходит несчастье. Господин Шаррон уведомил нас, что с ним приедет пятнадцать девушек. Стало быть, нужны пятнадцать мужчин. Наверное, при этом придется даже нарушить общепринятые нормы стыдливости. И секретарь спросил, не хочу ли я заняться организацией этого процесса.
Вы согласитесь, друзья мои, что это задание было и правда необычным, и оно очень обрадовало меня. Вижу, что у меня не очень-то получается говорить с вами об интимных вещах. В общем, должен вам признаться, что до того времени я ни разу, как это обычно случается с мужчинами, не был по-настоящему влюблен. Если не считать той цыганки, которой меня наградил мой друг Лакатос, мои отношения с женщинами ограничивались тем, что пару раз у меня была связь с платными девушками из публичного дома. И хотя в силу моей профессии мне следовало разбираться в людях, я тогда был еще слишком молод, чтобы просто следить за моделями из Парижа. Я вообразил себя избранным. Я мог тайно наблюдать за роскошной наготой изысканных парижанок, а может, и обладать ими.
Сразу же приняв это предложение, я отправился на поиски остальных четырнадцати сотрудников. Это были самые молодые и элегантные парни нашего отдела.
Вечер, когда парижский маэстро с его девушками и бесчисленными чемоданами прибыл в Петербург, принес нам немало мучений.
Итак, все пятнадцать человек были на вокзале. Хотя каждому из нас казалось, что нас только пятеро или даже двое. Всемогущественный начальник приказал нам быть особенно внимательными, и все исключительно из-за этого портного. Мы смешались с толпой, встречавшей своих близких. В тот момент я был убежден, что выполняю миссию огромной важности – кто знает, возможно, не менее важную, чем спасение жизни самого царя.
Когда поезд прибыл и мировая знаменитость вышла из него, я тут же увидел, что наш главнокомандующий ошибся. Этот человек не вызывал подозрений. Он не был способен на убийство. Выглядел он сытым, тщеславным и безобидным. Казалось, он озабочен лишь производимым его приездом фурором. Короче говоря, он никак не походил на подрывателя. Это был достаточно крупный господин, но благодаря своему необычному платью выглядел скорее низкорослым. Его одежда не шла ему. Конечно, он ее придумал сам, но из-за того, что она не просто сидела на его теле, а болталась на нем, казалось, что она досталась ему с чужого плеча. На нас, во всяком случае на меня, это произвело такое впечатление, будто на нем какие-то двойные одежды. Меня удивило, что царские придворные пригласили из Парижа портного, который сам так странно одет. И тогда я впервые усомнился в благонадежности тех высокопоставленных господ, к обществу которых я так хотел принадлежать. Раньше я полагал, что власть не способна на ошибку, поэтому эти господа никогда не пригласят в Петербург комедианта, чтобы он диктовал моду, которой будут следовать в России их дамы. Но тут я это увидел собственными глазами. Портной прибыл с большой свитой, а не только, как ожидалось, с женщинами. Нет, с ним приехали еще несколько молодых мужчин, несколько блестящих мужчин из Парижа! Элегантные, в шелковых галстуках, легко и свободно двигающиеся! Они так радостно, так беззаботно спрыгивали с подножки вагона, точно разодетые воробьи или чижи, которые вот-вот зачирикают. Из-за их шумливой, веселой манеры, с которой они сразу по прибытии принялись друг с другом говорить, их разговор походил на пустую болтовню между человекообразными птицами или, наоборот, оперившимися людьми. Немного подождав у подножки, они протянули руки вверх, чтобы помочь сойти пятнадцати девушкам. Девушки спускались медленно и грациозно, в выражениях их лиц, в том, как они двигались, было столько робости и страха, будто они ступали не на перрон, а бросались в страшную пропасть.
Среди сошедших с поезда манекенщиц мне особенно понравилась одна. На ней, как и на всех остальных, был номер. Номера эти девушки носили на шелковых голубых квадратиках, прикрепленных слева на груди, сами цифры были красными. Создавалось впечатление, что цифры выжжены, как это бывает у лошадей или коров. И хотя девушки были вполне бодры, мне их было бесконечно жаль, я им сочувствовал, а особенно той, что мне сразу, с первого взгляда, понравилась. На ней был номер 9, звали ее, как я вскоре узнал, Лютеция. Но в паспорте, который я тут же просмотрел в паспортном отделении полицейского участка на вокзале, указывалось, что ее зовут Аннетт Леклер, и, не знаю почему, это имя меня особенно тронуло.
Здесь, наверное, стоит еще раз вас заверить, что до этого я по-настоящему не любил ни одной женщины, а стало быть, совсем их не знал. Я был молод, силен физически, и они все меня волновали. Но сердце мое пока еще молчало. Я желал обладать ими всеми и был убежден, что не смогу принадлежать только одной из них. Тем не менее, как и положено молодому мужчине, я стремился к единственной женщине, к той, что смогла бы утолить и мою страсть, и мою тоску по дому. При этом я смутно сознавал, что подобной женщины, вероятно, и быть-то не может, и, опять же как это свойственно только молодому мужчине, я ждал так называемого чуда. И в тот момент, когда я увидел Лютецию, номер 9, мне показалось, что чудо свершилось. Тем более что молодой человек, каким я тогда был, исполненный ожиданием чуда, слишком быстро предается вере в то, что чудо это уже произошло.
Короче говоря, я влюбился в Лютецию, как принято говорить, с первого взгляда. Очень скоро мне показалось, что она несет свой номер, как позорное клеймо, и меня охватила ненависть к этому изысканному закройщику, приглашенному высшим начальством демонстрировать здесь своих несчастных рабынь. Разумеется, мне казалось, что самой несчастной из всех рабынь была Лютеция, девушка под номером 9, а недостойный законодатель мод фактически был рабовладельцем, хотя и преступником его не назовешь. Я стал размышлять, каким образом можно было бы спасти от него девушку под номером 9. Да, в том, что меня послали в Петербург следить за этим портным, я видел теперь какой-то особый знак судьбы. И я решил спасти Лютецию.
Видимо, я забыл рассказать о том, почему ради этого необычного, но все-таки не вызывающего подозрение портного полицейским управлением были предписаны такого рода меры предосторожности. А дело в том, что примерно за две недели до этих событий была совершена попытка покушения на жизнь губернатора Петербурга. Как вам известно, в России неудавшееся покушение производит больший эффект, чем удавшееся. Если же покушение удавалось, то оно в некотором роде воспринималось как неотвратимый божий суд, ибо в те времена, друзья мои, люди еще верили в Бога и были уверены, что без Его воли ничего не происходит. Но чтобы, так сказать, опередить Вседержителя, прежде чем ему представится случай погубить кого-нибудь из властей предержащих, были приняты эти самые меры предосторожности. Они были глупые и даже бессмысленные. Нам поручили с особой тщательностью следить за этими бедными красивыми девушками, и когда они переодевались в перерывах между выходами, и во все остальное время. Мы должны были присматривать и за мужчинами, с которыми, по всей видимости, девушки состояли в каких-то отношениях. В сущности, в те дни мы скорее были не полицейскими, а своего рода гувернерами. Впрочем, меня это задание нисколько не смущало, скорее даже радовало. И разве было хоть что-то в эти первые счастливые часы моей любви, что бы меня не радовало? Я почувствовал, что до сих пор изменял своему сердцу. И только когда в него проникла любовь, я узнал, что оно у меня все еще есть, а раньше я постоянно его отвергал, поносил и насиловал. Да, друзья мои, это было невыразимым наслаждением – чувствовать, что у меня есть сердце, и лишь мои злодеяния изуродовали его. Но тогда я не понимал этого еще так ясно, как излагаю сейчас. Хотя и чувствовал, что с любовью в каком-то смысле началось мое освобождение. Любовь одарила меня большим счастьем – с болью, радостью и даже упоением я становился свободным. Именно любовь, друзья мои, делает нас не слепыми, как это утверждает бессмысленная поговорка, а наоборот – зрячими. Благодаря безумной любви к одной обыкновенной девушке я вдруг понял, что до этого часа был плохим, я осознал всю глубину моего падения. С тех пор я знаю, что предмет, пробуждающий в человеческом сердце любовь, не имеет никакого значения в сравнении с тем опытом, которым любовь обогащает нас. Любя, человек прозревает, а вовсе не слепнет. Вероятно, именно потому, что до этого я никого не любил, я стал преступником, стукачом, предателем. Я еще не знал, любит ли меня эта девушка, но уже тот счастливый факт, что я мог вот так с первого взгляда влюбиться, придавал мне уверенности и одновременно заставлял ощущать угрызения совести из-за моих позорных поступков. Я пытался быть достойным этой внезапно обрушившейся на меня благодати влюбленности. Сразу же я увидел всю гнусность моей профессии, и она вызвала во мне отвращение. С этого и началось мое раскаянье. Но тогда я еще не знал, какое огромное раскаянье ждет меня в будущем.
Я наблюдал за девушкой по имени Лютеция. Наблюдал за ней не как полицейский, а как ревнивый любовник, не по долгу службы, а по зову сердца. К тому же я постоянно ощущал свою власть над ней, и это возбуждало во мне какое-то совершенно особенное сладострастие. Вот так бесчеловечна, друзья мои, человеческая натура. Мы остаемся плохими, даже понимая, что мы плохи. Мы все равно остаемся людьми! Плохими и хорошими! Хорошими и плохими! Но все-таки людьми.
Я испытывал адские муки, пока наблюдал за этой девушкой. Я был ревнив. Ежеминутно я дрожал при мысли, что следить за Лютецией поручат кому-нибудь из моих коллег. Я был молод, друзья мои. А кто молод, тому может показаться, что ревность – это начало любви. Да, ревнуя, и даже благодаря ревности, можно быть счастливым. Страдания делают нас счастливыми так же, как радость. Счастье почти неотличимо от горя. Способность увидеть разницу между счастьем и горем приходит лишь с возрастом, когда мы уже слишком слабы, чтобы избегнуть печали и наслаждаться счастьем.
В действительности – я уже говорил об этом? – мою возлюбленную звали, конечно же, не Лютеция. Для вас эта оговорка, быть может, несущественна, но для меня существование двух имен, настоящего и поддельного, имело большое значение. Ее паспорт долгое время лежал в моей сумке. Я принес его в полицейский участок, сам переписал все сведения, еще раз, как у нас это было принято, сфотографировал, сделал две копии и спрятал фотографии в специальный конверт. Оба имени, каждое на свой лад, очаровали меня, и оба я слышал впервые в жизни. Настоящее согревало теплотой и сердечностью, а от имени Лютеция исходило что-то роскошное, царственное. Я едва ли не влюбился сразу в двух женщин, а не в одну-единственную. А так как обе они соединялись в одной, я чувствовал, что эту одну я должен любить с удвоенной силой.
В те вечера, когда девушки должны были демонстрировать наряды, созданные экстравагантным парижанином (в газетах их называли «творениями» или даже «гениальными творениями»), нам надлежало находиться в женской раздевалке. Портной страшно протестовал против этого. Он отправился к вдове генерала Порчакова, которая в те времена играла большую роль в петербургском обществе, именно она уговорила его приехать в Россию. Генеральша, несмотря на свою значительную тучность, была чрезвычайно подвижна. Она обладала удивительной способностью до полудня успеть нанести визиты двум великим князьям, генерал-губернатору, трем адвокатам и управляющему царской оперой, чтобы пожаловаться на распоряжения полиции. Но, друзья мои, разве можно было, при определенных обстоятельствах, в нашей старой, доброй России добиться чего-то жалобой на некие распоряжения? Самому царю бы это не удалось. Ему, думается, в наименьшей степени.
Естественно, я знал обо всем, что предпринималось усердной генеральской вдовой. Я даже из своего жалованья оплатил сани, чтобы повсюду следовать за ней, и опять же из своего кармана давал на чай слугам и лакеям, передававшим мне содержание всех разговоров, которые она вела с разными людьми. Эти сведения я тут же сообщал моему шефу. Меня хвалили, но я стыдился этих похвал, потому что, друзья мои, я больше не работал на полицию. У меня теперь была другая, более высокая, должность: я состоял на службе у моей страсти.
Пожалуй, в те дни я был самым искусным из всех сотрудников, ибо мне не только удавалось действовать быстрее проворной генеральши, но еще и появляться чуть ли не во всех местах одновременно. У меня получалось следить не только за Лютецией, но и за генеральшей и знаменитым портным. Только одного я не видел, друзья мои, только одного, и вы скоро узнаете, о ком это я. Итак, однажды я увидел, как наш портной, закутанный в просторную меховую шубу, купленную им еще в Париже (это был не русский мех, а тот, который в Париже принимают за русский), так вот, я увидел, как в этой шубе, напоминающей женскую накидку из каракуля, с капюшоном из голубого песца, на котором висела серебристая кисть, он взобрался на сани и поехал к генеральше. Я – за ним. Опередив его, в коридоре снимаю с него эту удивительную шубу, так как портье несколько дней назад стал моим приятелем, и жду в приемной. Бодрая генеральская вдова дает ему обескураживающий отчет – весь разговор мне удалось подслушать. Все ее ухищрения были напрасны. Я слушал жадно. Против охранки, то есть в какой-то мере и против меня, ни великий князь, ни еврейский адвокат ничего сделать не могут. Но в старой России, как вы знаете, было три безошибочных средства: деньги, деньги, деньги. Вдова этот секрет ему и выдала.
Портной готов был платить. Он попрощался, надел свою диковинную шубу и уселся в сани.
В первый вечер, когда должен был состояться показ его «творений», он явился такой приветливый, пухленький и вместе с тем какой-то неуклюжий. На нем был фрак с белой жилеткой, на которой выделялись причудливые красные пуговицы, напоминающие божьих коровок. Он прошел за кулисы, где располагалась костюмерная комната его девушек. Ах, он не смог подкупить даже самого жалкого из нас! Он бренчал серебряными монетами в кармане своих просторных фрачных брюк, как собирающий пожертвования монах – кошельком с колокольчиком. Но, несмотря на все свое великолепие, он больше походил не на того, кто хочет дать взятку, а на того, кто сам просит милостыню. Даже самый недостойный из нас не смог бы принять от него денег. Было ясно: с великими князьями ему найти язык проще, чем с сыщиками.
Портной удалился. Мы пошли в костюмерную.
Я весь дрожал. Вы мне поверите, когда я скажу, что впервые в жизни я ощущал настоящий, леденящий душу страх. Я боялся Лютецию: боялся своего желания увидеть ее в белье, боялся своей похоти, боялся непостижимого, наготы, безволия, боялся превосходства моего положения. Я оглянулся и, увидев, что она переодевается, повернулся к ней спиной. Она посмеялась надо мной. Когда я, преисполненный страха, встал к ней спиной, она смогла своим проворным женским инстинктом сразу же почуять страх и бессилие влюбленного мужчины, смогла понять, что перед ней самый безопасный сыщик этой большой империи. Но что я говорю об инстинкте! Она ведь хорошо знала, что мне приказано неуклонно и тщательно следить за нею. А, отвернувшись, я давал ей полную волю! Теперь я был в ее власти, теперь она разглядывала меня! Ах, друзья мои, лучше сдаться заклятому врагу, чем дать понять женщине, что ты ее любишь. Враг быстро уничтожит тебя, но женщина… Вскоре вы увидите, как медленно, как ужасающе медленно…
Ладно! Итак, я стоял лицом к двери и разглядывал белую дверную ручку, разглядывал так, будто получил задание караулить этот бесхитростный предмет. Мне хорошо запомнился обыкновенный фарфоровый набалдашник. На нем не было ни единой царапинки. Так продолжалось долго. Тем временем за моей спиной – как я догадывался, перед зеркалом – напевала, насвистывала, щебетала моя возлюбленная, беспечное, безалаберное существо. И в этом пении, свисте, щебетании звучало звонкое презрение!
Внезапно в дверь постучали. Я сразу повернулся и, конечно, увидел Лютецию. Она сидела перед овальным зеркалом в позолоченной раме уже одетая. На ней было черное платье с треугольным, отороченным алым бархатом, вырезом на спине, она пыталась правой рукой достать огромной кисточкой спину, чтобы ее припудрить. В тот миг меня ослепило какое-то дьявольское – я не нахожу другого слова – именно дьявольское сочетание этих красок. Возможно, на меня это сочетание подействовало сильнее, чем могла бы смутить ее нагота. С того момента я думаю, что знаю цвета ада, в который когда-нибудь непременно попаду: черный, белый и красный. И в некоторых местах, например, на стенах ада, то тут то там виднеются треугольные вырезы на женской спине и кисточка для пудры.
Мой рассказ получился очень долгим, а длилось-то это всего мгновение. Лютеция еще не успела сказать «войдите!», как дверь открылась, и, прежде чем увидеть, я уже почувствовал, кем был вошедший. Отгадайте, друзья мои, кто это был? Это был мой старый друг, мой старый друг Лакатос!
– Добрый вечер, – сказал он по-русски.
Затем с какой-то длинной французской фразой он обратился к Лютеции. Я мало что из нее понял. Было впечатление, что меня он не узнал или не захотел узнать. Лютеция обернулась, улыбнулась и сказала ему несколько слов. Она наполовину утопала в кресле, в руке у нее была большая кисточка, я видел Лютецию в двойном изображении: вживе и в зеркале. Лакатос направился к ней, он по-прежнему заметно хромал. На нем были фрак, в петлице которого пламенел неизвестный мне красный цветок, и лаковые сапоги.
Что касается меня, то я сильно сник. У меня было явное ощущение, что и для Лютеции, и для Лакатоса я – неживой человек. Я бы и сам засомневался в моем существовании в этой комнате, если бы своими глазами не увидел, как Лакатос, подтянув вверх рукава фрака (я слышал тихое шуршание его манжет), взял из рук Лютеции кончиками двух пальцев ее кисточку для пудры. И тут он принялся не просто пудрить женскую спину, а как бы создавать совсем новую спину. Его руки начали чертить в воздухе какие-то непонятные круги, он то нагибался, то, становясь на цыпочки, вытягивался всем телом, и все это для того, чтобы в конце концов коснуться кисточкой спины Лютеции. Он покрывал ее спину пудрой с таким усердием, как можно, к примеру, белить стену. Все это тянулось, тянулось, Лютеция улыбалась, и я видел в овальном зеркале ее улыбку.
Наконец Лакатос так непринужденно повернулся ко мне, словно еще раньше узнал меня и поздоровался. Засунув руки в карманы брюк, он сказал:
– Ну, старина, вы тоже здесь?
В его карманах перекатывались и звенели серебряные и золотые монеты. Мне был знаком этот звук.
– Вот мы и встретились, – снова начал он.
Я молчал.
– Как долго вы еще будете надоедать этой даме? – после продолжительного молчания спросил он.
– Я надоедаю ей не по своей воле. Это моя служба! – сказал я.
– Служба! У него служба! – воздев руки к потолку, заорал он, а затем, подойдя к Лютеции, что-то сказал по-французски.
Подозвав меня к зеркалу, поближе к Лютеции, он сказал:
– Все ваши коллеги ушли, оставив дам в покое. Понятно?
– У меня служба, – возразил я.
– Я их всех подкупил! Сколько вы желаете?
– Нисколько!
– Двадцать, сорок, шестьдесят?
– Нет!
– Сто?
– Нет!
– Больше предлагать я не имею права.
– А и не надо, вы лучше сами уходите, – сказал я.
В этот момент раздался звонок, и Лютеция покинула костюмерную.
– Вы пожалеете об этом! – сказал Лакатос и вышел за ней.
Я остался сконфуженный и подавленный. До одури пахло гримом, духами, пудрой, пахло женщиной. Раньше для меня все эти запахи не существовали, или я их не замечал. Что я вообще знал? И вдруг этот смешанный запах захватил меня, как дурман, как бесовское зелье. Казалось, он исходил не от Лютеции, а от моего друга Лакатоса. Как будто до его появления ни духи, ни грим, ни женщина не имели никакого запаха, но вот он пришел и пробудил все эти запахи к жизни.
Я вышел из костюмерной, осмотрел коридор, проверил все раздевалки. Моих коллег нигде не было. Они исчезли, будто их смыло или они провалились сквозь землю. Они получили по двадцать, сорок, шестьдесят или по сто рублей.
Я стоял за кулисами между двумя несущими службу пожарными и видел в стороне от себя часть избранной, знатной публики, собравшейся здесь, чтобы приветствовать смехотворного портного из Парижа и одновременно трястись от страха перед его несчастными девушками, называемыми моделями. Я думал о том, как же странно все-таки устроен высший свет – портным восхищаются и в то же время его боятся. А Лакатос? Откуда он взялся, каким ветром его сюда занесло? Он нагонял на меня страх. Я ясно чувствовал, что он имеет надо мной власть. Я давно забыл о нем, и поэтому испытывал теперь еще больший страх. Это значило, что, по сути дела, я ничего не забыл, я только отодвинул, вытеснил его из своей памяти, из своего сознания. О, это был не привычный страх, друзья мои, который мы испытываем перед людьми, – страх перед Лакатосом был не в пример более сильным. Только теперь, ощущая этот особый вид страха, я понял, кто такой Лакатос. Но, поняв это, я почувствовал страх еще и от моего собственного вывода, который любой ценой следовало спрятать от самого себя. Во мне поселилось чувство обреченности, будто я должен побороть и остерегаться не его, а самого себя. Вот так, друзья мои, человек погибает от наваждения, если этого хочет великий совратитель. И хотя испытываешь перед ним сильный страх, все равно доверяешь ему больше, чем самому себе.
Во время первого антракта я снова стоял в костюмерной Лютеции. Я уговаривал себя, что это всего лишь моя обязанность. На самом же деле я испытывал странное чувство, в котором перемешались ревность, упрямство, влюбленность, любопытство – не знаю, что еще. Пока Лютеция переодевалась, а я, снова повернувшись к ней спиной, разглядывал дверь, еще раз появился Лакатос. И хотя я преградил ему путь, он так же мало обратил на меня внимание, как если бы я был сундуком для одежды, а не человеком, он увернулся от меня одним-единственным элегантным движением плеч и бедер. Он стоял позади Лютеции таким образом, что она видела его в зеркале, перед которым сидела. Его приход разозлил меня до такой степени, что я, поборов стыд и забыв о своей любви, мгновенно повернулся. И тут я увидел, как Лакатос, поднеся к вытянутым губам три пальца, послал отраженной в зеркале женщине воздушный поцелуй. При этом он непрерывно повторял одни и те же французские слова: «Oh, mon amour, mon amour, mon amour!». Отражение Лютеции улыбалось. В следующий миг – я не понял и не понимаю до сих пор, как это произошло – Лакатос положил на стоящий перед зеркалом стол большой букет темно-красных роз. Я же видел, как он вошел с пустыми руками! Отражение Лютеции слегка поклонилось. Лакатос послал ей еще один воздушный поцелуй, повернулся и, снова уклонившись от меня, вышел из комнаты.
После того как я увидел, точно по мановению волшебной палочки появившийся букет цветов, которого раньше не было, – помимо моего личного страха пробудился, скажем так, страх профессиональный. В моей груди, как неразлучные близнецы, поселились они оба. Если кому-то удалось на моих глазах из ничего сотворить букет цветов, то почему бы им с Лютецией не сделать то же с бомбой, которую так боится мое начальство и тот, кто стоит над ним? Поймите, меня не беспокоила жизнь царя, великого князя или губернатора. Какое дело в те дни мне было до сильных мира сего! Нет, я дрожал перед катастрофой, катастрофой самой по себе. И хотя еще не знал, что может случиться, катастрофа казалась мне неотвратимой, а ее виновником мне виделся только Лакатос. От природы я не был верующим человеком и не ломал себе голову по поводу Господа и всех небесных дел. Но сейчас, в этом предчувствии ада, я, как человек, вызывающий при виде огня пожарную команду, начал бестолково, несвязно, но искренне и горячо молиться. Это мало помогало. Очевидно, потому что я прошел пока слишком мало испытаний. Меня ожидало совсем другое.
Я стал еще внимательнее. Этот портной из Парижа должен был пробыть у нас десять дней. Но уже через три дня, ввиду того, что его туалеты, или, как их называли, «творения», очень понравились нашим дамам, его пребывание в Петербурге было продлено на десять дней. Какими довольными и в то же время сбитыми с толку были те покупатели, которых я тогда допрашивал! Мною было получено задание следить за известным в свое время домом госпожи Лукачевской, в котором после полуночи обычно собирались офицеры одного гарнизона. В силу своей профессии я хорошо знал этот дом, но только извне. Внутри я никогда не был. Мне была даже выдана сумма в триста рублей и так называемый служебный фрак, который по очереди носили три наших сотрудника из гражданского отдела. Фрак сидел на мне очень хорошо. На красной шелковой ленте у меня на шее висел обрамленный золотом греческий орден. Два лакея госпожи Лукачевской прислуживали нам. В положенный день в двенадцать часов я стоял перед домом. Дождавшись наконец того часа, когда никого больше на улице не было, я, в цилиндре, с тростью, театральной накидкой и орденом на шее, вошел внутрь. Обладая точной информацией обо всех присутствующих господах, и штатских, и военных, я приветствовал их, как старых знакомых. Они улыбались в ответ пустыми неприятными улыбками, которыми в большом свете встречают и врагов, и друзей, и тех, к кому совершенно равнодушны. Чуть позже один наш лакей подал мне знак, и, последовав за ним, я попал в потайную комнату на первом этаже, из разряда тех, о которых никогда не знаешь, для каких целей они предназначены. А на самом деле они не для каких-то любовных встреч, или как там еще об этом говорят, а для подсматривания, подслушивания, одним словом, для шпионажа. Через достаточно широкую щель в тонкой, покрытой обоями дощатой перегородке можно было видеть и слышать все, что происходит в соседней комнате.
И я увидел, друзья мои! Я увидел дорогую моему сердцу Лютецию в объятиях молодого Кропоткина. Ах, я тут же узнал его, не могло быть никаких сомнений! Разве мог я его не узнать? Тогда я был настолько порочен, что скорее узнал бы ненавистного мне человека, чем приятного. Можно сказать, что я специально развивал в себе эти свойства, пытаясь достичь совершенства. Стало быть, я вижу мою любимую Лютецию в руках человека, которого когда-то вообразил своим врагом, которого в последние постыдные годы почти уже забыл; в руках моего ненавистного, фальшивого брата – князя Кропоткина.
Друзья мои, представьте себе, что во мне тогда происходило: внезапно я вспомнил о моей мерзкой фамилии, о которой давно уже перестал думать, о фамилии Голубчик; я вспомнил и о том, что за свое скверное ремесло должен быть благодарен исключительно семейству Кропоткиных, и тут же подумал, что в свое время в Одессе старый князь запросто признал бы меня своим сыном, не ворвись с таким оскорбительным весельем в комнату этот юноша. Внезапно проснувшееся старое глупое тщеславие моей молодости пробудило во мне озлобленность! Да, и озлобленность тоже. Он-то ведь не был сыном Кропоткина! А я был. Ему досталась эта фамилия и все, что к ней прилагалось: слава, авторитет, деньги! Да, слава, деньги, высший свет и первая женщина, которую я полюбил.
Вы понимаете, друзья мои, что это такое – первая любимая женщина. Она может все! Я был бедолага, из которого тогда, возможно, мог выйти хороший человек. Но таким человеком, друзья мои, я не стал! В тот час, когда я смотрел на Кропоткина и Лютецию, во мне заполыхала злость. Та злость, которую, по-видимому, я был обречен ощущать с рождения. До сих пор она лишь тихо тлела во мне, чтобы теперь разгореться ярким пламенем. Мое падение было неминуемо.
Уже тогда я знал, что мне предстоит падение, и именно поэтому смог подробно рассмотреть оба предмета моей страсти – мою ненависть и мою любовь. Никогда человек не видит так ясно и так хладнокровно, как в те минуты, когда ощущает под собой черную пропасть. Любовь и ненависть в моем сердце сплелись так же тесно, как эти двое в соседней комнате: Лютеция и Кропоткин. И боролись эти два чувства так же мало, как два человека, за которыми я наблюдал. Соединившись, любовь и ненависть давали то наслаждение, которое было определенно больше, сильнее и чувственнее, чем союз этих двух тел.
Я отнюдь не чувствовал физического желания, не чувствовал даже ревности, по меньшей мере в том ее обычном виде, с каким, вероятно, знаком каждый из нас, если ему приходилось наблюдать, как любимый им человек отдается другому, тем более, если отдается он с упоением. Во мне даже не было ожесточения, жажды мести. Скорее я походил тогда на холодного, объективного судью, самолично наблюдающего в момент злодеяния за преступником, которому позже он вынесет приговор. Я свой приговор уже вынес. Он звучал так: смерть Кропоткину! Я удивлялся только тому, что так долго ждал, ведь этот смертный приговор во мне был вынесен и скреплен печатью уже давно. Повторяю, это не было местью. По моему мнению, это был естественный приговор объективного суда, согласующегося с законами морали и нравственности. Не только я был жертвой Кропоткина. Нет! Его жертвой был нравственный закон. Мой приговор был провозглашен от имени закона. И он гласил: смерть.
В те годы в Петербурге жил некий доносчик по имени Лейбуш. Это был крошечный человек, ростом меньше ста двадцати сантиметров. Даже не карлик, а тень карлика. Среди моих коллег он считался очень ценным сотрудником. Я пару раз лишь мельком видел его. По правде говоря, хоть я и сам был тертым калачом, а его побаивался. Среди нас было множество бессовестных фальсификаторов и мошенников, но более бессовестного, более ловкого, чем он, не было никого. Он, например, в два счета мог предоставить доказательства, что какой-нибудь преступник на самом деле агнец божий, а ни в чем не повинный человек покушался на жизнь царя. И хотя, друзья мои, я и сам уже глубоко погряз в этих делах, мне все же хотелось верить, что мое бесчестие исходит не от моей собственной низости. Я во всем обвинял судьбу, которая обрекла меня на такую жизнь. Каким-то непостижимым образом я все еще считал себя приличным человеком. По крайней мере я сознавал, что творю зло и что поэтому прощения должен просить у самого себя. Меня до этого довела несправедливость. Мое имя – Голубчик. Все права, на которые я с рождения претендовал, были у меня отняты. Мой печальный жребий казался мне совершенно не заслуженным мною несчастьем. В некотором смысле я имел законные права на то, чтобы чинить зло. У других же, творящих зло вместе со мной, таких прав не было.