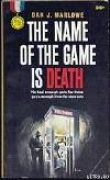Текст книги "Исповедь убийцы"
Автор книги: Йозеф Рот
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Я возвращался по ровной, освещенной солнцем, песчаной дороге, по которой часа два назад шел сюда. Я низко опустил голову, и у меня было ощущение, что я уже никогда не смогу ее поднять. Она была тяжелой и казалась опухшей, будто ее, мою бедную голову, кто-то сильно отдубасил. Двое полицейских так и стояли на том же самом месте. И сейчас они тоже долго смотрели мне вслед. Спустя мгновение, после того как я прошел мимо них, до меня донесся пронзительный свист. Он шел слева, с берега моря. Этот свист испугал меня, но и в какой-то мере отвлек. Я поднял голову и увидел моего приятеля Лакатоса. Бодрый, в своем светло-желтом сюртучке, он стоял на берегу и помахивал мне тростью. Рядом на гальке лежала его изящная шляпа от солнца. Подняв ее, он двинулся мне навстречу и без видимых усилий взобрался на довольно крутой пригорок, отделявший в этом месте море от дороги. Через пару минут он был уже рядом и протягивал мне свою гладкую руку.
Только в этот момент я заметил, что все еще держу в правой руке подаренную князем табакерку. Я постарался как можно ловчее спрятать ее в сумку. Но при всей быстроте моих движений это не ускользнуло от моего друга Лакатоса. Я понял это по его взгляду и улыбке, хотя поначалу он, ничего не говоря, только весело пританцовывал возле меня. Когда же перед нами появились первые городские здания, он спросил:
– Ну, я надеюсь, все удалось?
– Ничего не удалось, – негодуя от ярости, ответил я, – если бы вы, как обещали вчера, сопровождали меня, все могло бы получиться совсем по-другому. Вы обманули меня! Зачем вы мне написали, что должны уехать? И почему вы до сих пор здесь?
– Что? – закричал он. – Вы что думаете, мне больше нечем заниматься, как беспокоиться из-за ваших делишек? Ночью я получил телеграмму о том, что должен уехать, а потом оказалось, что пока могу остаться. Ну вот, я как настоящий друг и пришел сюда, чтобы узнать, что с вами, как вы.
– Я – никак. Или еще хуже, чем было.
– Он что, не признал вас? Не испугался? Не пригласил?
– Нет!
– Он подал вам руку?
– Да, – солгал я.
– А что еще?
Я вытащил из сумки табакерку и, держа ее на вытянутой руке, остановился, чтобы дать Лакатосу возможность ее рассмотреть. Не притронувшись, он внимательно обвел табакерку глазами и, прищелкнув языком и вытянув губы, тихонько свистнул. Потом он на шаг отпрыгнул, затем вернулся назад и, наконец, произнес:
– Потрясающая штука! Целое состояние! Можно потрогать? – спросил он, уже ощупывая табакерку кончиками пальцев.
Постепенно мы приблизились к городским строениям. Увидев, что навстречу нам движется несколько человек, Лакатос поспешно прошептал:
– Уберите ее!
И я спрятал табакерку.
– Ну, а этот старый лис, он был один? – спросил Лакатос.
– Нет! – сказал я. – В комнату зашел его сын.
– Его сын? У него нет сына. Я хочу вам кое-что сказать. Вчера я позабыл обратить на это ваше внимание! Это не его сын, это сын одного француза, графа П. С момента рождения этого юноши княгиня живет во Франции, в своего рода ссылке. Сына она должна была отдать. Вот такие дела. Должен же быть наследник. Иначе кто удержит все это имущество? Может, вы? Или я?
– Вам это доподлинно известно? – спросил я, и мое сердце, наполнившись чувством мести, зашлось от радости и злорадства. Я вдруг ощутил жгучую ненависть к этому юноше, а старый князь стал мне совершенно безразличен. В один миг все мои чувства, страсти и желания приобрели смысл, я приготовился к новому позору, позабыв о только что пережитом старом. Или еще больше: я полагал, что знаю, кто именно виновен в моем позоре. Если бы – думал я в тот час – этот юноша не вошел в комнату, я наверняка завоевал бы князя. Но он, должно быть, каким-то образом узнал, кто я такой, и поэтому так неожиданно появился. Князь постарел, поглупел, а этот фальшивый сын падшей женщины, этот француз коварно опутал его своими сетями. И когда я об этом думал, огонь ненависти согревал мою душу, и мне становилось все лучше, все легче. Наконец-то жизнь приобрела смысл и цель. Трагизм моей жизни заключался в том, что я оказался несчастной жертвой негодяя. И с этого часа поставил себе цель – уничтожить его. Меня охватило большое, теплое чувство благодарности по отношению к Лакатосу. Ни слова не говоря, я крепко пожал его руку. Мою он больше не отпускал. Так – рука в руке – подобные двум детям, мы шли по направлению к ближайшему ресторану, в котором обильно, с большим аппетитом поели. Говорили мы немного. Лакатос, точно волшебник, достал из кармана жилетки газету, которую до сей минуты я не замечал, и погрузился в нее. Когда с едой было покончено, он попросил счет и, продолжая читать, придвинул его ко мне.
– Пожалуйста, заплатите пока. Мы потом рассчитаемся, – мимоходом произнес он.
Я полез в сумку за своим кошельком, открыл его и увидел, что вместо серебра он наполнен одними медяками. Я поискал, хорошо помня о двух десятирублевых монетах, которые там лежали, порылся еще какое-то время… Меня охватил ужас, на лбу выступил пот. Не было никаких сомнений – прошлой ночью меня обокрали. Тем временем Лакатос, складывая газету, сказал:
– Ну что, пошли?
Потом, посмотрев на меня, испуганно спросил:
– Что случилось?
– У меня больше нет денег, – прошептал я.
Он взял из моих рук кошелек, заглянул в него и сказал:
– Да, бабы!
Затем он достал из бумажника деньги, расплатился, взял меня за руку и начал:
– Ничего страшного, молодой человек, поверьте мне, ничего страшного. В беду мы не попадем ни в коем случае, у нас ведь в сумке имеется такое сокровище, за глаза стоящее не менее трехсот рублей. Мы сейчас кое к кому сходим, но потом, мой друг, вы сразу же отправитесь домой. На сей раз приключений достаточно!
Держась за руки, мы направились туда, куда обещал меня свести Лакатос.
Это был портовый квартал, где в маленьких ветхих домишках жили бедные евреи. Я думаю, это были самые бедные и, к слову сказать, также самые крепкие евреи на свете. Днем они работали в порту: как грузоподъемные краны, они нагружали и разгружали суда. А те, кто послабее, торговали фруктами, семечками, карманными часами, одеждой, ремонтировали сапоги и латали старые брюки – в общем, делали все, что полагается делать бедным евреям. Свою субботу они начинали праздновать в пятницу, с заходом солнца, и поэтому Лакатос сказал:
– Пошли быстрее. Сегодня пятница, и евреи скоро закончат со всеми делами.
Пока я шел туда рядом с Лакатосом, меня охватил сильный страх, мне показалось, будто табакерка, которую я собирался заложить, мне больше не принадлежит, и не Кропоткин мне ее подарил, а я ее украл. Однако я подавил в себе эти чувства и даже повеселел, словно уже забыл об украденных деньгах. Я смеялся над каждым рассказанным Лакатосом анекдотом, хотя совсем их не слушал. Каждый раз я ждал, когда он захихикает, соображал, что история подошла к концу, и после этого разражался смущенным и громким смехом. Я лишь догадывался, что анекдоты были то о женщинах, то о евреях, то об украинцах.
В конце концов, мы остановились перед покосившимся домишком одного часовщика. На доме не было никакой вывески, только по лежащим за окном колесикам, стрелкам и циферблатам можно было понять, что здесь живет часовщик. Им оказался маленький, тощий еврей с дрожащей соломенного цвета козлиной бородкой. Когда он поднялся, чтобы подойти к нам, я заметил, что он хромает. Это была почти такая же приплясывающая хромота, как у моего друга Лакатоса, только не такая аристократическая. Этот еврей походил на грустного, немного замученного ребенка, в глазах которого тлел красноватый огонь. Он взял в свои худые руки табакерку и, как бы взвесив ее, сказал:
– А, Кропоткин!
После чего окинул меня оценивающим взглядом, будто оценивал мой вес своими маленькими глазками, как только что взвешивал в руках табакерку. Внезапно мне показалось, что часовщик и Лакатос – братья, хотя обращались они друг к другу на «вы».
– Итак, сколько? – спросил Лакатос.
– Как обычно, – ответил еврей.
– Триста?
– Двести!
– Двести восемьдесят?
– Двести!
– Пошли, – сказал Лакатос и взял из рук часовщика табакерку.
Пройдя мимо пары домиков, мы подошли к дому другого часовщика, и, когда вошли, я увидел такого же худого еврея с желтоватой бородкой. Он встал, но остался стоять за своим столом, так что не было видно, хромой он или нет. Лакатос показал ему табакерку, и этот второй часовщик точно так же произнес лишь: «Кропоткин».
– Сколько? – спросил Лакатос.
– Двести пятьдесят.
– Годится! – сказал Лакатос, и еврей выплатил нам деньги. Это были десяти– и пятирублевые золотые монеты.
Мы покинули этот квартал.
– Так, мой юный друг, – начал Лакатос, – сейчас мы возьмем машину и поедем на вокзал. Будь умницей, не ввязывайся в дурные дела и береги деньги. При случае пиши мне в Будапешт, вот мой адрес. И он дал мне свою визитку, на которой латиницей и кириллицей было написано:
Йено Лакатос
Торговый агент по продаже хмеля
Фирма «Хайдеггер и Констамм»
Будапешт, улица Ракоци, 31.
Меня сильно покоробило, что он вдруг обратился ко мне на «ты», и поэтому я сказал:
– Я должен вас поблагодарить и дать денег.
– Не стоит благодарности!
– И все-таки, сколько?
– Десять рублей, – сказал он, и я дал ему одну золотую десятирублевую монету.
После этого он жестом подозвал машину, и мы поехали на вокзал.
В нашем распоряжении было совсем мало времени, так как поезд отходил через несколько минут, и уже был дан первый звонок.
Только я хотел подняться на подножку вагона, как вдруг появились двое необычайно крупных мужчин, по одному слева и справа от моего друга Лакатоса. Они подозвали меня, и я подошел. Они вывели нас из здания вокзала, действовали при этом сурово. Никто из нас четверых не проронил ни слова. Мы обошли вокзал, повернули и пошли там, где были особенно отчетливо слышны гудки локомотивов, затем мы оказались у какой-то маленькой двери. Это был полицейский участок. Двое полицейских стояли у дверей, а сидящий за столом чиновник был занят тем, что ловил мух, в большом количестве летающих по комнате. Мухи, не переставая, жужжали и садились на разложенные на столе белые листы бумаги. Поймав одну из них, чиновник брал ее большим и указательным пальцами левой руки и отрывал ей одно крылышко. Затем погружал несчастную в большую чернильницу из перепачканного чернилами белого фарфора. Так мы с Лакатосом и двое сопроводивших нас мужчин простояли примерно четверть часа. Было жарко и тихо. Слышны были только гудки локомотивов, пение мух и тяжелое, как бы похрапывающее дыхание полицейских.
Наконец чиновник подозвал меня. Он опустил в чернильницу, где уже плавало много мух, перо и спросил мою фамилию, потом поинтересовался моим происхождением, а также целью моего пребывания в Одессе. И после того как я на все ответил, он откинулся назад, погладил свои ухоженные пшеничные усы и вдруг, снова наклонившись к столу, спросил:
– Сколько же, собственно говоря, табакерок вы украли?
Я не понял его вопроса и продолжал молчать. Чиновник открыл ящик стола и подозвал меня к себе. Обойдя стол, я подошел к открытому ящику и увидел, что он сплошь заполнен табакерками того типа, что я получил от князя. Ничего не понимая, ошарашенный, стоял я возле ящика. Мне казалось, что меня заколдовали. Я вытащил из сумки мой уже негодный билет и показал чиновнику. Я сразу почувствовал комичность того, что сделал, но я был так беспомощен, так сильно сбит с толку, что, как любой в моем положении, непременно должен был совершить что-то бестолковое.
– Сколько таких табакерок вы взяли? – еще раз спросил чиновник.
– Одну. Мне дал ее князь! Этот господин знает об этом, – показав на Лакатоса, сказал я.
Лакатос кивнул. Но в этот момент чиновник закричал: «Вон!», и Лакатоса вывели.
Я остался вместе с чиновником и одним полицейским, который не был похож на живого человека, а скорее – на дверной косяк или что-то подобное.
Чиновник опустил в чернильницу перо, выудил оттуда мертвую муху, истекающую чернилами, как истекают кровью, и, разглядывая ее, тихо спросил:
– Вы сын князя?
– Да!
– Вы хотели его убить?
– Убить?!
– Вот именно, – посмеиваясь, сказал чиновник.
– Нет! Нет! Я люблю его! – закричал я.
– Вы можете идти.
Я направился к двери. Полицейский схватил меня за руку и вывел наружу. Там ждала полицейская машина с зарешеченными окнами. Дверь машины открылась, сидящий внутри полицейский усадил меня в машину, и мы поехали в тюрьму.
В этом месте Голубчик сделал долгую паузу. Его усы, края которых были влажными от шнапса, поглощаемого рассказчиком большими глотками, немного дрожали. Лица всех слушателей были бледны, неподвижны и, как мне тогда почудилось, за время рассказа обогатились новыми морщинами. Словно каждый из присутствующих пережил не только свою молодость, но и все те события из жизни Семена Голубчика, о которых он успел рассказать нам за какой-нибудь час времени. Не только собственный опыт, но и часть жизни Голубчика, с которой мы только что познакомились, легли на нас тяжким бременем. Не без ужаса ждал я продолжения этой истории, которое по всем признакам должно было быть страшным, его нужно было не просто выслушать, но и пережить. Сквозь закрытые двери до нас доносился приглушенный шум первых фургонов, которые везли овощи на рынок, машин и берущих за душу протяжных гудков далеких поездов.
– Это был обычный арест, – снова начал Голубчик, – ничего ужасного. Как-никак я попал в достаточно удобную камеру, на высоких окнах которой были широкие решетки. Они выглядели не более угрожающе, чем решетки жилых домов. В камере были стол, стул и две раскладные кровати. Ужасным было только одно: с кровати, чтобы радостно поприветствовать меня, поднялся мой друг Лакатос. Да. Он подал мне свою руку так непринужденно, как будто мы встретились где-нибудь в ресторане. Но я проигнорировал его руку. Огорченно вздохнув, он снова лег. Я сел на стул. Мне хотелось плакать. Хотелось положить голову на стол и плакать. Только я стыдился Лакатоса. Еще пуще этого стыда был мой страх, как бы он не начал меня утешать. Вот так вот молча, с окаменевшим плачем в груди, я сидел и считал решетки на окнах.
– Не отчаивайтесь, молодой человек, – через некоторое время сказал Лакатос.
Он встал и подошел к столу:
– Я все разузнал!
Помимо своей воли я поднял голову и тут же пожалел об этом.
– У меня и здесь есть связи, – продолжил Лакатос, – не более чем через два часа вы будете свободны. А знаете, кого мы должны благодарить за эту неудачу? Отгадайте!
– Ну, говорите же, – выкрикнул я, – не мучайте меня!
– Как же, вашего братца! Или скорее – сына графа П., вам понятно?
Ох, мне было понятно и вместе с тем ничего не понятно. Но, друзья мои, ненависть к этому ублюдку, к этому фальшивому сыну моего любимого, знатного отца, как это часто происходит, заглушила голос рассудка. Разве можно, ненавидя, все осмыслить? В один миг, как мне показалось, я раскрыл замышляемый против меня страшный заговор, и во мне впервые проснулся двойник ненависти – жажда мести. Еще быстрее, чем гром следует за вспышкой молнии, я принял решение однажды непременно отомстить этому мальчишке. Каким образом? Этого я не знал, но почувствовал, что Лакатос – тот человек, который укажет мне дорогу, и поэтому в одночасье он стал мне даже приятен.
Само собой разумеется, он понимал, что со мной творится. Он усмехался, и по этой усмешке я все понял. Перегнувшись через стол, он вплотную приблизился ко мне, и, кроме его блестящих зубов, красноватого мерцания неба и розового кончика языка, напомнившего мне язычок нашей домашней кошки, я ничего больше не видел. Он на самом деле знал все. Дело обстояло так: старый князь частенько дарил разным людям весьма дорогостоящие табакерки, это было одним из его чудачеств. Некогда приобретя на аукционе одну табакерку, он специально по ее образцу заказал для себя такие же у некого ювелира в Венеции. Эти золотые, инкрустированные слоновой костью и увенчанные россыпью изумрудов табакерки князь всегда держал наготове для подарка гостям. Все очень просто. Молодому человеку, которого князь считал своим сыном, нужны были деньги. Периодически воруя у князя табакерки, он их продавал. С течением лет полицейские, производившие проверки у торговцев, собрали приличное количество таких изделий. Все вокруг знали, откуда брались эти сокровища, и управляющий князя, и его лакеи тоже это знали. Но кто бы отважился ему об этом сказать? И, напротив, как легко было такого ничтожного человека, как я, посчитать способным на воровство и даже на кражу со взломом. Ибо кем были мы в старой России, друзья мои? Насекомыми, теми мухами, которых чиновник топил в своей чернильнице, мелочью, пылью под подошвой какого-нибудь важного господина. И все-таки, друзья мои, позвольте мне немного отклониться и простите за то, что задерживаю вас. Итак, мы были пылью! Мы зависели не от закона, а от прихоти, от каприза. Но эти капризы были более предсказуемы, чем те законы, которые, в свою очередь, зависели именно от прихоти. Ведь их можно было по-разному толковать. Да, друзья мои, законы не защищали нас от произвола, поскольку они сами были частью произвола. С прихотью рядовых судей мне сталкиваться не приходилось, хотя известно, что она еще хуже обычной и представляет собой мерзкое злопыхательство. А вот с прихотью знатных господ я знаком. Она внушает даже больше доверия, чем законы. Какой-нибудь важный господин одним-единственным словом может наказать и помиловать, может причинить зло, но и облагодетельствовать он тоже может. И сколько было господ, которые вообще никогда не злились, и их прихоти никому не делали зла. Но закон, друзья мои, – почти всегда зло. Едва ли существует закон, о котором можно было бы сказать, что он творит добро. На земле истинной справедливости нет, она, друзья мои, есть только в аду!..
Итак, чтобы снова вернуться к моей истории, скажу, что в те далекие времена я хотел на земле ада, то есть я жаждал справедливости. А кто жаждет истинной справедливости, тот становится жертвой собственной мстительности. Вот таким в ту пору был я. Я был благодарен Лакатосу за то, что он открыл мне глаза. Теперь я вынужден был ему доверять, поэтому спросил:
– Что я должен делать?
– Мы здесь свои, мы товарищи по несчастью, никто нас не слышит, – начал Лакатос, – поэтому скажите мне, действительно ли вы князю ничего не сказали, кроме того, что вы его сын? Доверьтесь мне. Скажите, кто вас послал к князю? Может, в вашем классе есть какой-нибудь агент, ну, вы знаете – так называемый революционер?
– Я вас не понимаю, я никакой не революционер, я просто хочу добиться своих прав, своих прав! – закричал я.
Только позднее до меня дошло, какую роль исполнял сей Лакатос. Это случилось, когда я сам чуть не превратился в Лакатоса. Но тогда я всего этого не знал. А он, хорошо понимая, что я говорю правду, сказал лишь:
– Ну, тогда все в порядке.
И при этом, вероятно, подумал про себя, что снова допустил ошибку, и от него ускользнула кругленькая сумма.
Через некоторое время открылась дверь, вошел тот же чиновник, что топил мух, и с ним – какой-то господин в штатском. Я встал.
– Оставляю вас наедине, – сказал чиновник и вышел.
За ним, не взглянув на меня, вышел Лакатос. Господин в штатском сказал, чтобы я сел и что он хочет сделать мне одно предложение. Вначале он сообщил, что находится в курсе всех моих дел. Потом сказал, что князь занимает очень высокое положение, что от него зависит благополучие России, царя и, можно сказать, всего мира. Поэтому его никогда нельзя беспокоить. А я полез со своими смешными притязаниями. Лишь благодаря доброте и снисходительности князя я избежал тяжкого наказания. Меня можно простить, потому что я молод. Сам же князь, который до сей поры по собственной прихоти содержал и обучал сына своего лесничего, не желает больше попусту тратить свою милость на недостойного, легкомысленного, безрассудного или, как мне самому будет угодно себя назвать, человека. Вследствие этого решено, что я должен занять какое-нибудь соответствующее моему скромному происхождению место. Я могу либо, как мой отец, стать лесником, и впоследствии, возможно, даже стану управляющим в одном из имений самого князя, либо поступить на государственную службу. Например, работать на почте или на железной дороге. Могу стать переписчиком или даже гувернером. Сплошь хорошо оплачиваемые, подходящие мне должности.
Я молчал.
– Подпишитесь вот здесь, – сказал господин, развернув передо мной бумагу, на которой было написано, что я не имею к князю никаких претензий и обязуюсь никогда больше не искать с ним встречи.
Ну, друзья мои, не могу даже описать свое тогдашнее состояние. Читая эту бумагу, я одновременно испытывал стыд и унижение, высокомерие и робость, мстительность и жажду свободы, готовность мучиться и нести свой крест. Меня переполняло желание власти и в то же время – сладостное, соблазнительное, неслыханное блаженство от своей беспомощности. Но власть мне была нужна, чтоб однажды расквитаться за все нанесенные мне сейчас оскорбления. И нужны были силы, чтобы суметь вынести эти оскорбления. Короче говоря, я хотел быть не только мстителем, но еще и мучеником. Но я хорошо чувствовал, что пока я ни тот ни другой и что этому господину это тоже хорошо известно.
– Ну, решайте быстрее! – на сей раз грубо сказал он.
И я подписал.
– Так, – пряча бумагу, сказал он, – чего вы теперь хотите?
По воле божьей я сказал тогда простые слова, сорвавшиеся с кончика языка:
– Домой! К маме!
Но в этот момент открылась дверь, и вошел офицер полиции – элегантный франт в белых перчатках, с блестящей саблей, полированной, кожаной кобурой и сияющим взглядом голубых глаз, холодных и высокомерных. И только из-за него, не обращая внимания на собеседника, я неожиданно сказал:
– Я хочу в полицию!
Эти опрометчивые слова, дорогие мои друзья, и решили мою судьбу. Лишь годы спустя я понял, что слова имеют бо́льшую силу, чем поступки. И меня смешит эта часто произносимая, избитая фраза: «Не надо слов, действуйте!». Как слабы наши поступки! Они проходят, а слова остаются. Собака тоже способна что-то совершить, но говорит только человек. Дела, поступки – это лишь фантом в сравнении с действительностью и особенно со сверхчувственной реальностью слов. Между словом и делом такая же разница, как между человеком и его тенью. Или, если угодно, как фотография к оригиналу. Поэтому я и стал убийцей. Но об этом позже.
А пока произошло следующее: в кабинете чиновника, которого я никогда больше не видел, я подписал документ. Что в нем было, я уже точно не помню. Чиновник, пожилой человек с такой большой, окладистой, серебряной бородой, что его лицо казалось крошечным и незначительным, точно оно выросло из бороды, подал мне мягкую, как бы пропитанную жирком коварства руку и сказал:
– Я надеюсь, вы у нас освоитесь и будете чувствовать себя как дома! Поезжайте в Нижний Новгород. Вот вам адрес одного господина, к которому вам нужно будет зайти. Удачи!
Когда я уже был возле двери, он окликнул меня:
– Молодой человек, задержитесь!
Я вернулся к столу.
– Запомните! – сказал он, почти злобно. – Молчать и слушать, слушать и молчать!
Говоря это, он поднес палец к своим заросшим бородой губам.
Таким образом, друзья мои, я попал в полицию, в охранку! Я начал вынашивать план мести. Теперь у меня была власть. И ненависть. Я был хорошим агентом. Спросить о Лакатосе я тогда не решился, но он еще не раз появится в этой истории. Избавьте меня сейчас от подробностей, о которых я мог бы вам поведать. В моей последующей жизни было еще достаточно много отвратительного.
Друзья мои, позвольте мне не давать детальный отчет о тех низких – да-да, можно и нужно так сказать – низких делах, совершенных мною в течение последующих лет. Вы все знаете, что такое охранка. Может быть, кто-то из вас даже ощутил это на собственной шкуре, и нет необходимости это описывать. Теперь вы знаете, кем я был. И если вам это претит – скажите, пожалуйста, сразу, и я вас покину. Кто-нибудь имеет что-то против меня? Господа, я прошу сказать об этом напрямик! И я уйду!
Мы все молчали. Только хозяин сказал:
– Семен Семенович, наверняка у всех здесь сидящих есть что-то на совести, и раз ты уж начал рассказывать свою историю, я прошу тебя от имени всех – рассказывай дальше.
Голубчик сделал еще один глоток и продолжил.
– Несмотря на молодость, я был неглуп, и вскоре уже оказался на хорошем счету у начальства. Да, я забыл вам сказать, что сразу же написал письмо маме. Я ей сообщил, что князь очень хорошо меня принял и просил передать ей сердечный привет. Что он добился для меня замечательного места на государственной службе, и с этих пор я ежемесячно буду посылать ей десять рублей, но за эти деньги она не должна благодарить князя.
Отправляя это письмо, друзья мои, я уже знал, что никогда больше маму не увижу, и, как ни странно, меня это очень опечалило. Но было кое-что еще, что не давало мне покоя. Тогда мне казалось, что это чувство было сильнее, чем любовь к маме. Это была ненависть к моему фальшивому брату. Ненависть была громкой, как труба, а любовь к маме – тихой и нежной, как арфа. Вы меня поймете, друзья!..
Невзирая на мою юность, я был отличным агентом. Не могу поведать вам обо всех подлостях, совершенных мною в те годы. Возможно, кто-то из вас помнит историю об одном социал-революционере, еврее Соломоне Комровере, прозванном Комаровым. Это и было одним из самых грязных дел в моей жизни.
Этот Соломон Абрамович Комровер был мягким, деликатным юношей из Харькова. Его совсем не интересовала политика, он, как это принято у евреев, прилежно читал Талмуд и Тору и хотел стать раввином. А вот его сестра была студенткой, изучала в Петербурге философию и имела контакты с социал-революционерами. Следуя тогдашней моде, она ратовала за освобождение простого народа, и однажды ее арестовали. У ее брата, Соломона Комровера, не нашлось никаких более срочных дел, кроме как явиться в полицию и сообщить, что во всех выходках сестры виноват только он. Прекрасно! Его тоже арестовали. Ночью меня подсадили в его камеру. Все это происходило в одной из киевских тюрем. Я до сих пор помню, что попал туда около полуночи. Когда меня «втолкнули», Соломон Комровер ходил туда-сюда, туда-сюда и, кажется, вообще не заметил моего появления.
– Добрый вечер, – сказал я.
Он мне не ответил. Поскольку мне было предписано изображать из себя уголовника, я со вздохом лег на нары. Через какое-то время Комровер прекратил ходить и тоже сел на свои нары. Я на это и рассчитывал.
– По политическим? – как обычно, спросил я.
– Да, – ответил он.
– За что? – продолжил я.
Ну, он – молодой да глупый – взял и рассказал мне всю свою историю. А я, одержимый желанием отомстить моему фальшивому брату, молодому князю Кропоткину, рассудил, что наконец-то мне представилась возможность остудить мою горячую ненависть. И я начал убеждать молодого, ничего не подозревающего Комровера, что знаю, как ему лучше всего поступить: нужно лишь в качестве друга его сестры упомянуть молодого Кропоткина. Я сказал этому наивному еврею, что как только в деле начнет фигурировать это имя, ему больше нечего опасаться.
Тогда я не знал, что молодой князь на самом деле вхож в революционные круги и что мои коллеги уже давно за ним наблюдают. Можно сказать, что моей враждебности, моей мстительности в некотором роде повезло, ибо на следующий день, после того как Комровер был допрошен, назад в камеру он вернулся вместе с очень благородного вида молодым человеком в инженерной форме. Это был мой так называемый брат, молодой князь Кропоткин.
Я поздоровался с ним. Он, естественно, меня не узнал. Со злостным усердием я начал его обхаживать. К лежавшему в углу на своих нарах Комроверу я потерял всякий интерес. И как когда-то поступил со мной Лакатос, я начал склонять молодого князя к одному предательству за другим, получилось это у меня даже лучше, чем у Лакатоса. Кстати, я позволил себе спросить, помнит ли князь о табакерках, которые его отец имел обыкновение раздаривать. Тут он впервые покраснел так, что это было видно и в полумраке камеры. Как покраснел бы пытавшийся свергнуть царя человек, напомни я ему об одной его мальчишеской выходке. Отныне он охотно давал мне всю информацию. Я узнал, что как раз из-за той дурацкой истории с табакерками он почувствовал потребность выступить против существующего жизненного уклада. Стало быть, тот факт, что его низкое преступление было раскрыто, он, как многие молодые люди его времени, использовал как повод, чтобы стать так называемым революционером и предъявить обществу обвинение. Он все еще был красив. И когда он говорил, и когда улыбался, обнажая зубы, в камере словно становилось светлее. Как безупречно сидела на нем форма, как безупречны были его лицо, его рот, зубы, глаза!.. Я ненавидел его.
Друзья мои, он выдал мне все-все! Это больше не имеет никакого значения, и я не стану утомлять вас подробностями. Но то, что я обо всем сообщил начальству, мне нисколько не помогло. Был наказан не молодой князь Кропоткин, а совершенно невинный еврей Комровер.
Я видел, как на его левую ногу надели цепь, к которой был прикован чугунный шар. Затем этого несчастного отправили в Сибирь. А молодой князь исчез быстрее, чем появился. Все, в чем он мне признался, приписали Комроверу.
Такова, друзья мои, была тогда практика!
Последнюю ночь я провел в камере вместе с Комровером. Он немного поплакал, потом дал мне несколько записок – к родителям, друзьям, родственникам, и сказал:
– Мне не страшно! Бог есть везде. И во мне ни к кому нет ненависти. Вы были моим другом. Другом в беде! Я благодарю вас!
Он обнял и поцеловал меня. И по сей день этот поцелуй жжет мне лицо.
Говоря эти слова, Голубчик коснулся пальцем своей правой щеки.
– Немногим позже я был переведен в Петербург. Вы и не подозреваете, какое значение имел такой перевод. Я непосредственно стал подчиняться самому могущественному человеку в России – главнокомандующему охранки. В его власти была жизнь самого царя. Мой начальник был никем иным, как графом В., поляком по происхождению. Я и сегодня не рискну назвать его имя. Это был необычный человек. Все, кто поступал к нему на службу, должны были в его кабинете заново давать присягу. На его черном письменном столе, между двумя желтыми восковыми свечами, возвышалось громоздкое серебряное распятие. Дверь и окна были завешены черными шторами. За столом в несоразмерно высоком черном кресле сидел граф – маленький человечек с лысым, усеянным веснушками черепом, выцветшими глазами, напоминавшими увядшие незабудки, с сухими, как из пожелтевшего картона, ушами, сильными скулами и приоткрытым, позволяющим увидеть большие желтые зубы ртом. Этому человеку было досконально известно все о каждом из нас, служивших в охранке. Он контролировал каждый наш шаг, хотя, казалось, никогда не покидал своего кабинета. На всех нас он нагонял ужас, мы боялись его больше, чем нас самих боялась вся страна. Стоя перед ним в его необычном кабинете, мы произносили длинную клятву, и, прежде чем мы уходили, он говорил: