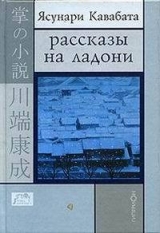
Текст книги "Рассказы на ладони"
Автор книги: Ясунари Кавабата
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Лоскутки
Мияко никак не думала, что станет перешивать кимоно, которое она носила, когда ей было четырнадцать лет. На днях она стала перебирать зимние вещи и достала его со дна старого сундука. Ей помнилось, что ворот был узковат, но Мияко всё же постирала кимоно. Вчера она погладила его, примерила – оказалось, что кимоно ей почти впору. Только рукава коротковаты. Но с этим можно справиться.
Рукава были чуть длиннее подкладки. Разложив кимоно, Мияко пробормотала: «Всё правильно, так оно и должно быть». Кимоно сшили, когда они уже переехали в Токио. Много позже мать объяснила, что есть два способа сажать рукава на подкладку. В Киото подкладку делают чуть длиннее рукава – они не так ветшают. А в Токио их делают вровень или же рукав делают длиннее. Конечно, вещи нужно беречь, но молоденькой девушке следует думать о другом. Так сказала мать.
С тех пор Мияко стала замечать, что сама мать во всём придерживается обыкновений Киото. В ней жила женщина прежних времён, от неё веяло теплом и домом.
Красная подкладка из шерстяной фланели потеряла первоначальный цвет, но этот цвет был ей всё равно так дорог. «Лицо» рукавов было точно из такого же материала, но с ярким цветочным рисунком. Рисунок самого кимоно представлял собой сочетание лиловых и жёлтых полос. Кимоно было порядком поношенным, от стирок шерсть местами скаталась, но ткань оставалась всё ещё крепкой. В этом кимоно зима не страшна, а рукава можно и подправить. Мияко достала ящик, в котором хранились лоскутки тканей. Вообще-то, ящик предназначался для хранения мужской одежды, но ещё в школе Мияко обклеила его цветными бумажками и стала считать своей собственностью.
И вот из этого ящика Мияко выложила на колени обрезки материи. Лоскутов европейских тканей там было больше, чем японских. Мияко не нашла ничего подходящего, чем можно было бы надставить рукава. Потом решила, что следует посмотреть повнимательнее. Уселась поудобнее, чтобы можно было рассматривать эти лоскутки без спешки.
С каждым из них было связано какое-то воспоминание. Ей было покойно думать о прошлом, хотя она прожила не так долго, чтобы этих воспоминаний было много. Мияко воскрешала прошлое, и оттого на душе становилось светлее.
Мияко вспомнила свою подружку из Киото. У неё был альбом, в который были вклеены лоскутки от каждого кимоно, которые она когда-либо носила. Начиная с самого детства. И под каждым лоскутом было написано, сколько ей было в то время лет. Когда подруга показала альбом Мияко, та ей позавидовала. Эта красивая девочка показалась Мияко ещё симпатичнее. Её мать придумала такой альбом потому, что сама она увлекалась историей одежды и коллекционировала старые кимоно. Когда Мияко рассказала об альбоме матери, та удивилась и сказала, что, пожалуй, такой альбом хранит воспоминания лучше, чем любые фотографии, и когда девочка вырастет, ей будет так умилительно рассматривать его.
– Мне такая мысль никогда не приходила в голову. А теперь уже поздно. Нужно было мне и для тебя такой альбом завести.
– Так давай всё-таки сделаем его. Пусть там хоть новые платья будут. Да и старые лоскуты у нас, наверное, тоже сохранились.
Отец слышал их разговор. «Да ну вас! Никто так не делает!» – выпалил он. Мать молча взглянула на отца. «Что вы там придумали! Эта девчонка и так никак не повзрослеет».
Мияко тогда не понимала, за что отец рассердился на них. Но теперь ей казалось, что она догадывается. Нельзя, чтобы воспоминания поглощали тебя целиком. Нельзя, чтобы прошлое хватало тебя за руку. А ещё важнее то, что в беспорядочных лоскутах Мияко не было и намёка на что-нибудь тёмное, каждый из них напоминал только о счастье и свете. И неважно, что это были радости самого обычного человека. А красивый альбом подруги Мияко свидетельствовал о каком-то глубоко затаившемся несчастье и обделённости. То есть в каком-то смысле он являлся сокровищницей печали.
В комнату заглянула мать. Мияко чуть покраснела.
«Перешиваешь? Ты у меня мастерицей стала! Рукава надставить нечем? Что-нибудь придумаем. Поройся-ка в моих тряпках».
Мияко принесла корзинку и поставила её перед матерью. Та подняла крышку и стала ловко перебирать лоскуты – будто ассигнации считала. «Вот тебе на рукава, вот тебе на подкладку», – сказала она, доставая фланельку в мелких хризантемах и кусок красной хлопковой ткани. Мияко взяла их и рассмеялась.
– Тебе не нравится?
– Нет-нет. Просто я смотрела на тебя и думала, что в твоих тряпках что хочешь найти можно.
– Это потому, что я уже такая старая.
Мать смотрела на Мияко – она замеряла рукава. Потом спросила с самым невинным видом: «А ты Таяма до сих пор пишешь?»
«Пишу. Раз в месяц», – ответила дочь, уменьшив количество посылаемых ею писем ровно в три раза.
– Давно это у вас.
– Да, уже четыре года.
Мияко глубоко вздохнула, будто хотела что-то спросить, но потом уставилась в пол.
– Вот ведь как: едва ты перестала носить это кимоно, началась война.
– Да.
– Ты стала взрослой в эту войну.
– Я чувствую себя беззащитной.
– Да, сейчас столько всего происходит, о чём мы в нашей молодости и помыслить не могли.
Сказав так, мать вышла.
«Ты стала взрослой в эту войну». Сейчас до Мияко дошёл смысл этих слов, и всё внутри у неё напряглось. Она подняла глаза к небу. Она думала о тех девочках, на юность которых пришлась война.
Мияко опять взялась за шитьё и почувствовала какую-то новую любовь к этим лоскутам. У неё возникло странное ощущение, что все эти военные годы они дожидались её. Когда она разделалась с одним рукавом, пришла тётка Мияко. Поскольку в передней послышался также звук тяжёлых мужских ботинок, Мияко встала. Мать вышла встретить гостей.
Мать провела гостей в дом. Они молча прошли мимо комнаты Мияко. Мияко удивилась. Тут мать чуть приоткрыла дверь. «Не знаю, что и делать. Тётушка Симамура пришла не одна, – озадаченно сказала она. – Завари чай, а я подам», – нервно закончила она и вернулась в гостиную.
«Уж не свататься ли пришли?» – с беспокойством подумала Мияко. Заварив чай, она заглянула в прихожую. Там стояли высокие офицерские ботинки. Увидела она и брошенную на пол офицерскую фуражку. Мияко протянула руку и, несколько поколебавшись, решительно повесила фуражку. Она вернулась к шитью, но пальцы у неё дрожали.
«Мияко, пойди поздоровайся с тётушкой», – позвала из коридора мать.
Тётушка представила Мияко лейтенанта Одзава. Она вела разговор, пристально поглядывая на Мияко. Потом сказала строго: «Господину Одзава уже пора. А ты, Мияко, уж будь так добра, проводи лейтенанта до станции».
– Хорошо.
Мияко было привстала, но тут же села снова. Поманив её одними глазами, мать вышла в коридор. «Я им рассказала про Таяма. Так что будь вежлива с лейтенантом», – прошептала она.
У Мияко стало жарко в глазах – произошло что-то важное.
Когда они прошли всего несколько шагов, лейтенант сказал: «Теперь я сам дойду. Спасибо».
«Не за что», – ответила Мияко и впервые взглянула в лицо лейтенанту. Вид у него был задумчивый. «Нет, всё-таки проводите меня».
По дороге он рассказал, что прибыл в Японию по служебным делам, но через две недели возвращается на фронт. Одзава непременно хотел за это время жениться и попросил тётушку с кем-нибудь познакомить его. «Поэтому мы к вам и пришли. Извините, я допустил бестактность. Ваша тётушка так и говорила, что вы очень достойный человек. Она оказалась права».
Мияко молчала. Она чувствовала лёгкую грусть и светлый покой. Она вспоминала Таяма.
«Спасибо, что проводили меня». У станции лейтенант решительно откозырял ей. «Будьте здоровы». Она поймала его взгляд. И растерялась. Навернулись слёзы. У него были такие же глаза, как у Таяма. Наверное, у всех уходящих мужчин одинаковые глаза.
Таяма ничего не обещал ей. Но его прощальный взгляд жил в ней все эти четыре года. Под этим взглядом она стала взрослой, и потому в ней уже не оставалось места для других глаз. И потому она хотела стереть из своей памяти взгляд этого лейтенанта. Каждую минуту она будет молиться о том, чтобы забыть.
[1944]
Гранат
Зимней ветреной ночью листья гранатового дерева облетели, образовав вокруг ствола правильный круг. Кимико распахнула ставни. Было так странно видеть внезапно оголившиеся ветви. Удивительно, что опавшие листья улеглись кругом, ибо ветер должен был разогнать их по земле. На ветках краснели гранаты. «Мама, посмотри!» – закричала Кимико.
«Смотри-ка, я совсем про них забыла», – ответила мать. Едва взглянув на дерево, она вернулась в кухню.
Её рассеянность напомнила Кимико, как скучно они живут. Они влачили свои дни, не обращая внимания даже на зреющие гранаты под самыми окнами. Вот когда пару недель назад к ним приходил семилетний сын её двоюродной сестры, он сразу же обрадовался дереву. Наблюдая, как он бесстрашно карабкается по стволу, Кимико ощущала биение жизни. «Смотри выше, вон там какой большой висит!» – сказала она ему с веранды. «Вижу. Только с ним мне уже обратно не слезть».
Всё правильно. С полными руками с дерева не слезешь. Кимико засмеялась. Чудесный мальчишка.
До его прихода они с матерью не вспоминали о гранатах. Когда он ушёл, забыли снова. Когда мальчишка был здесь, листья скрывали плоды. Сегодняшним утром только небо нависало над ними. От ночного холода гранаты и листья стали на вид какими-то жёсткими. Кимико вышла в сад и сбила самый высокий гранат. Он перезрел. Кожура покрылась трещинами от рвущейся наружу жизненной силы. Кимико положила гранат на пол веранды. Зёрнышки светились, солнце пронзало их насквозь. Кимико чувствовала вину перед этим фанатом.
Кимико поднялась на второй этаж, села за шитьё. Около десяти часов она услышала голос Кэйкити. Калитка, наверное, была открыта, и он тут же прошёл в сад, откуда теперь доносилась его скороговорка.
«Кимико! Спускайся, к нам Кэйкити пришёл!» – позвала мать. Кимико поспешно вытащила нитку из иголки и воткнула иглу в подушечку.
«Вот и Кимико всё говорила: надо повидаться, надо повидаться перед тем, как ты на фронт уедешь, но ей самой неудобно к тебе пойти было, а ты всё не приходил и не приходил. Ну, наконец-то», – тараторила мать. Она хотела предложить Кэйкити остаться пообедать, но он спешил. «Жалко, ну тогда хоть гранат попробуй», – сказала мать и снова позвала Кимико.
Пока Кимико спускалась по лестнице, Кэйкити так жадно смотрел на неё, и столько было в его глазах нетерпения, что у неё подкашивались ноги. Потом глаза его стали такими добрыми, что гранат выпал у него из рук. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Тут щёки Кимико залились жаром. И тогда Кэйкити вдруг засобирался: «Береги себя». – «И ты тоже береги себя…».
Когда Кимико произносила эти слова, Кэйкити уже отвернулся от неё и прощался с матерью. Когда он скрылся из виду, Кимико какое-то время смотрела на закрытую калитку. Мать сказала: «Он тоже разволновался. Надо же, и гранат не попробовал…». Она легла грудью на край веранды и подобрала с земли гранат. Когда глаза Кэйкити стали такими добрыми, пальцы его сами собой попытались разломить гранат надвое. Гранат упал на землю.
Мать помыла гранат. «На, съешь», – протянула она его Кимико.
«Не буду, он грязный», – скривилась и отпрянула Кимико, но тут же ощутила жар и нерешительно взяла гранат. Слегка надкусила верхние зёрнышки. Мать стояла рядом – не попробовать было нельзя. С безразличным видом Кимико вонзила зубы в гранат. Едкий сок полился в рот. Тут она ощутила какую-то всепроникающую радость, которая разлилась по телу. Мать ничего не заметила и оставила её. Проходя мимо зеркала, она вдруг сказала: «Ну и вид у меня! И вот с такой головой я встречала Кэйкити! Нехорошо». Кимико слышала, как она уселась перед зеркалом – гребень забегал по волосам. С расстановкой мать сказала: «Когда твой отец умер, я боялась причёсываться. Только возьму гребешок, так сразу думать стану – будто отец ждёт, когда я причёсываться закончу. Мне прямо нехорошо делалось».
Кимико вспомнила, что мать всегда доедала за отцом. Это было такое щемящее воспоминание – горестное счастье.
Мать была бережливой, поэтому, наверное, и подступилась с этим гранатом к дочери. Не привыкла еду выкидывать, вот и сунула его Кимико.
Кимико стало неудобно перед матерью за своё тайное счастье. И Кэйкити она тоже ничего не сказала. Но всё равно прощание с ним наполнило Кимико счастьем – она знала, что будет ждать его.
Кимико посмотрела в сторону матери – солнце просвечивало сквозь бумажную перегородку, за которой стояло зеркало. Гранат лежал у неё на коленях. Теперь она боялась взять его в рот.
[1943]
Цвели камелии…
На вторую осень после окончания войны сразу в четырёх семьях нашей десятидворки родились дети. Самая старшая из матерей родила двойню. Одна из её девочек прожила только две недели. Молока у матери было много, она подкармливала им соседских детишек. В этой семье уже было двое сыновей, а теперь у них родилась и девочка. По моей просьбе её назвали Кадзуко – «Дитя мира».
А вообще-то, среди пяти новорождённых оказалось четыре девочки. Люди смеялись: война закончилась – вот и солдаты больше не нужны. Нет, столько девочек родилось, конечно, случайно, но целых пять младенцев на десять семей… Этой осенью, куда ни посмотри, очень много детей народилось. Так что мы шли в ногу со страной. Мирное время настало. В войну рожали мало. А теперь совсем другое дело – солдаты к своим жёнам вернулись. Дело понятное. Но только дети рождались во всех семьях, не только там, куда мужья с фронта вернулись. Не все же мужчины воевали. У людей в годах тоже вдруг дети стали рождаться. Мир, да и только.
Вот и получается, что дети – это и вправду мир. И люди не обращали внимания на то, что Япония проиграла войну, что жить трудно, что лишние рты еды требуют. Здесь инстинкт размножения заработал. Самый сильный инстинкт. Будто вдруг источник забил. Или будто высохшая трава зазеленела и в рост пошла. Словом, общее оживление жизни произошло. И освобождение. Счастье, да и только. Человек ведь – не просто скотина, он ещё и человек тоже.
Ну и ещё, конечно, дети – они родителей от мыслей о войне отвлекают.
Мне – пятьдесят лет. И хоть война закончилась, а детей у меня не народилось. Пожилые семьи во время войны вкус к жизни совсем потеряли. И тут уж ничего не исправишь. Вот война кончилась, а нам всем конец пришёл. Вроде и не должно так быть, а то, что войну проиграли – очень на нас сказалось. И страна, и время, в котором мы жили – всё прахом пошло. Я чувствовал себя таким одиноким, что соседские дети казались мне светлячками из какого-то другого мира.
Из всех младенцев мальчик народился последним. Мать его была толстушкой, но таз у неё оказался узковат. Трудные были роды. Потом у неё случился какой-то спазм, даже помочиться не могла. Потом на второй день помочилась – мы тут все и обрадовались. Первые роды у неё были. Раньше, правда, выкидыш у неё случился.
Моей дочке шестнадцать лет. Очень она малышом заинтересовалась, запросто к соседям заходила. Все об этом знали. Сидит себе сидит, да вдруг с места сорвётся, к соседям бежит на младенца посмотреть. Как накатывало на неё.
И вот как-то пришла с улицы, села передо мной и говорит: «Папа, а правда, что к Симамура их прежний ребёночек вернулся?»
– Не может быть! – выпалил я.
– Ты так думаешь?
Её глаза как-то потускнели. Но она ещё не отчаялась. Запыхалась, бежала во весь дух. Я не знал, что ей и сказать. Может, и не нужно было так её охолаживать?
«Что, снова к Симамура ходила на ребёночка поглядеть?» – ласково спросил я. Дочь кивнула. «И что, он правда такой красивенький?»
– Пока непонятно. Родился ведь только.
– Ну и что ты там интересного услышала?
– Да вот смотрю, смотрю я на мальчика, а тут тётенька Симамура и говорит – а ты знаешь, Ёсико, что к нам наш прежний ребёночек вернулся? Тётенька Симамура ведь и раньше рожала, правда? Вот я и подумала, что это она о нём говорит.
– Вот оно что… – сказал я, затрудняясь с ответом. Так странно мне это показалось. – Наверное, ты не расслышала. Она хотела сказать, что как было бы хорошо, если бы он вернулся. Да и как про него узнаешь? Мы ведь даже не знаем, был ли это мальчик или девочка. Ведь тётенька Симамура не по-настоящему тогда родила. – Да, ты прав.
Мне показалось, что я убедил её. У меня самого осталось чувство какой-то недоговорённости, но Ёсико успокоилась. Поэтому я и не стал продолжать разговор. На самом-то деле выкидыш у Симамура случился на шестом месяце, так что вряд ли осталось секретом, кто это был. Но я не стал этого говорить.
Слух о том, что супруги Симамура твердят о том, что к ним вернулся их прежний ребёнок, распространился среди всех наших. Дошёл он и до моих ушей.
В разговоре с дочерью я воскликнул «Не может быть!», полагая, что разговор о возвратившемся ребёнке – глупость. Однако по размышлении я решил, что это, может быть, не совсем так. В давние времена подобные разговоры никто не счёл бы бреднями. Да и сейчас такие люди тоже ещё остались. Сами Симамура были, наверное, твёрдо уверены в том, что их неудавшийся ребёнок переродился в нынешнего сына. Даже если считать их соображения за чрезмерную чувствительность, эта уверенность служила им утешением и подпорой.
Прошлый ребёнок был зачат в те три дня, на которые вернулся отец во время передислокации его части. Выкидыш случился, когда он был на фронте. Сын родился через год с небольшим после демобилизации. Вполне можно представить, что они испытали после потери первого ребёнка.
Ёсико всегда говорила о нём, как о живом. Она называла его «этот малыш». Однако никто из деревни не держал его за живого. И только сами Симамура говорили о нём, как о народившемся. Я не хочу сказать, что этот малыш был человеком в полном смысле этого слова. Ведь он прожил свою жизнь в утробе. Он не видел солнечного света. Может, и души у него ещё не было. Но люди всё равно окружали его. И, быть может, его жизнь была безоблачной и счастливой. В любом случае он хотел жить.
Конечно, я не могу утверждать, что сын Симамура был точно таким же созданием, что и их первый ребёнок. Но мы не знаем, какая биологическая и душевная связь между ними. Не знаем мы, как, когда и откуда берутся те силы, благодаря которым зарождается жизнь. Жизнь первого ребёнка и второго – это разные жизни? Или же обе они составляют часть чего-то более общего? Поэтому голословное утверждение о невозможности перерождения, перерождения покойника в живого, является не более, чем предположением. Твёрдо заявлять о возможности перерождения или же его невозможности мы не имеем никаких оснований.
По размышлении я могу теперь в точности сказать, что раньше вся эта история с выкидышем была мне в общем-то безразлична. Однако теперь всё изменилось. Я ощущал настоящее сочувствие. И стал думать об этом малыше, как о живом.
Когда стало известно, что жена Симамура избавилась от своих спазмов, дочка отправилась к ней посоветоваться насчёт домашнего задания по труду. Помимо прочего, ею двигало ещё и любопытство. Поскольку тётушка Симамура прожила какое-то время вместе с матерью в Токио у родственников, особой стеснительностью она не отличалась. Вернулись они потому, что дом во время бомбардировки сгорел. Я же был ответственным в нашей десятидворке за противопожарную безопасность и потому временами посещал эту семью, состоявшую из беременной дочери и старенькой матери.
Меня назначили на эту должность, поскольку я был единственным мужчиной, кто не ходил на работу. К тому же от природы я робок и потому чрезмерными придирками людям не надоедал. Ночному дежурному я рекомендовал приносить с собой книжку подлиннее – чтобы до рассвета хватило, старался поменьше тревожить сон людей. Обходы на своей одной ноге делал, за затемнением следил. Но это всё. Хорошо, что в Камакура за всю войну ничего такого не случилось.
В начале весны, когда уже зацвела слива, во время ночного обхода я заметил, что с кухни Симамура пробивается свет. Я зацепил палкой за калитку, но как-то неловко – она выпала у меня из руки и свалилась за забор. На следующий день я хотел было пойти забрать её, но постеснялся. Что я скажу? Вот, ходил тут ночью и палку обронил. А днём пришла беременная Симамура, стоя у ворот, позвала Ёсико.
– Это, наверное, твой отец во время обхода палочку обронил.
– А где вы её нашли?
– Да вон, у калитки.
– И как это его угораздило?
– Так ведь темно же было.
Мы все жили в узком, даже по Камакурским меркам, ущелье. Во время воздушной тревоги я первым бросался к пещере на горе. Оттуда были видны все дома моей десятидворки.
В тот день был налёт. Слышались взрывы. Уже добравшись до входа в бомбоубежище, я увидел, что Симамура стоит на тропинке. Сделав несколько шагов вниз, я закричал: «Скорее, скорее!»
– Вы только посмотрите на этих птичек!
И действительно – на старой сливе я увидел нескольких птах. Они отчаянно взмахивали крылышками, но взлететь не могли. Это были какие-то конвульсии в закрытом пространстве, где стенами служили зелёные ветки. Когда какой-то из птичек удавалось подлететь к ветке, она всё равно не могла усесться на неё. То лапки разъедутся, то назад опрокинет…
Симамура добралась до пещеры, но и оттуда она продолжала наблюдать за сливой. Она сидела на корточках, плотно обхватив руками колени, и смотрела на сливу.
В бамбуковую рощицу со страшным скрежетом врезался осколок.
Когда я размышляю обо всех этих разговорах про перерождения, я всегда вспоминаю тех птичек. Симамура была тогда беременна в первый раз. Это уже потом она родила без происшествий.
Вообще-то, выкидыши во время войны случались часто. Зато беременели мало. У женщин как-то всё в организме разладилось. А вот этой осенью – сразу в четырёх семьях дети народились.
Вместе с дочерью мы проходили мимо живой изгороди у дома Симамура. Цвели камелии. Я их очень люблю. Мне осень вообще нравится.
Я шёл и горевал о тех детях, которым из-за войны не удалось увидеть этот свет, о себе самом – война лишила меня жизни, думал о том, кем мне суждено переродиться.
[1947]








