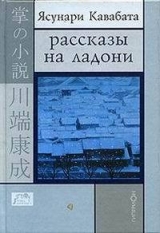
Текст книги "Рассказы на ладони"
Автор книги: Ясунари Кавабата
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
Фотография
Некий безобразный, извините уж за это слово, лицом мужчина (между прочим, именно уродливость сделала его поэтом) рассказывал мне:
«Фотографий я не люблю и сам стараюсь в кадр не попадать. Вот только лет пять назад пришлось согласиться – на собственной помолвке. Эта девушка дорога мне по-настоящему. Потому что второй такой у меня уже не будет до смерти. А сейчас – только фотографии от неё и остались. Приятно, конечно, вспомнить…
В прошлом году в одном журнале захотели поместить мой портрет. Я взял ту фотографию, где мы втроём – с невестой и её сестрой, себя отрезал, вложил в конверт, отослал. А на днях газетчик пришёл – дай, мол, твою фотографию. Я немного поколебался, но отрезал ему половинку той, где мы вдвоём с невестой стоим. Сказал ему, чтобы непременно вернул, но, похоже, не дождусь. Ну да ладно.
Ладно-то ладно, только смотреть на ту половинку, где она одна осталась, было мне странно. Она это или не она? Должен сказать, что красива она была очень. Как-никак семнадцать лет, влюблена. Но вот беру я ту половинку, где она одна осталась, смотрю и не могу поверить – что за чудище? А ведь именно на этой фотографии, где мы с ней вдвоём, она мне такой красавицей казалась. Фу… Будто из счастливого сна в кошмар провалился. Будто было сокровище – и вот нет его».
Голос поэта дрогнул.
«И вот теперь думаю: увидит она меня в газете, то же самое скажет. Вот, мол, несчастная, какого урода я тогда полюбила. А Раз скажет – это уже конец.
А вот если бы она увидала в газете ту самую фотографию, где мы с ней вдвоём, может, тогда она ко мне прилетела бы на крыльях любви. Ведь тогда она поняла бы…».
[1924]
Луна
Что за обуза эта девственность! Вроде бы и не жалко этой поклажи, выкинуть эту дрянь на просёлочной тёмной дороге или прямо с моста – в урну или в реку – очень просто, да только на ярко освещённой улице найти подходящее место не так-то легко. И если твоя первая женщина пожелает взглянуть, что же там у тебя в твоём багаже, тебе не останется ничего другого, как покраснеть. Ты ответишь, что там, в чемоданах, упакованы твои горькие чувства, и тут уж тебе, бездомному псу, больше ничего не захочется. Но если ты преодолеешь вот такого вот себя и узнаешь многих женщин, то ещё острее почувствуешь, как снег налипает на подошвы, мешает идти. Уж лучше разуться и бежать по снегу босиком…
Вот такие мысли бередили его душу.
Одна женщина стояла над его подушкой. Вдруг она бесстыдно упала на колени, прижалась, стала вдыхать запах его волос.
Другая женщина – он стоял опершись о перила на веранде второго этажа – сделала вид, что поскользнулась, прижалась как бы ненароком, вдруг обняла, а когда он отвёл её руку, ещё раз изобразила падение, оперлась спиной о перила и ждала, ждала его, указывая взглядом на свою грудь.
А ещё была другая женщина. Когда он мылся в бане, она тёрла ему спину. И вдруг рука на его спине задрожала.
Ещё одна женщина сидела с ним в гостиной, потом неожиданно выбежала в зимний сад, упала навзничь на кресло в беседке и закрыла руками голову.
Ещё одна женщина игриво обняла его сзади, но он не стал играть с ней.
Ещё одна женщина, когда он лежал на матрасе и притворялся спящим, взяла его за руку, но он только сжал губы и уткнулся лицом вниз.
Ещё одна женщина ночью зашла с шитьём в его комнату, когда его самого не было дома, сидела там камнем, а когда он вернулся, покраснела до ушей и хриплым от лжи голосом спросила, можно ли позаимствовать лампу.
Ещё одна женщина, видя его, всегда плакала.
Женщины помоложе в разговоре с ним скатывались на скользкие темы, потом теряли дар речи и не могли подняться со своего места.
Дождавшись этой минуты, он почти всегда замолкал. Или же твёрдо говорил: «От той женщины, с которой я не желаю связать свою судьбу, я никаких таких чувств не принимаю».
После того, как ему исполнилось двадцать пять лет, таких женщин становилось всё больше. И стена вокруг его целомудрия становилась всё выше и прочнее.
Но одна женщина призналась, что ей не нравится выражение его глаз, когда он на кого-нибудь смотрит.
Шли дни, он был погружён в себя. «Если женщину не накормить, она умрёт». – думал он. И ему казалось, что женщин, с которыми он не живёт, женщин, с которыми он не делит постель, женщин, которых он должен накормить, становится всё больше. Он смеялся: «Похоже, что я, бедняк, вскорости обречён стать полным банкротом». Ничего не менялось, единственным его сокровищем была девственность. Отправиться, что ли, попрошайничать? Пусть одежда бедна, зато его внутренний мир чувственности обогатится – ведь получаешь, не отдаёшь. Вот бы усесться на этого ослика чувственности да и отправиться на нём в какую-нибудь дальнюю страну…
Так он грезил, и его грудь распирало от её чувственного содержимого. Однако он уже не мечтал найти в этом мире женщину, с которой он хотел бы жить вместе.
Он поднял голову. Полнолуние. Оттого, что луна была такой яркой, во всём небе она была одна. Он воздел к ней руки: «Эй, луна! Все свои чувства я отдаю тебе!»
[1924]
Белый цветок
Морганатические браки были в их роду делом обычным. Все её родные умирали от чахотки.
У неё тоже была впалая грудь. Если бы мужчина обнял её, он бы наверняка испугался.
Одна славная женщина говорила ей так: «Захочешь замуж – выбирай со смыслом. Остерегайся высоких мужчин. Только хилый жених и вправду крепок здоровьем, а если кожа у него белая – чахотки точно не будет. Пусть сидит прямо, вина не подливает и улыбается по-доброму…».
Но сама девушка мечтала о большом и сильном. Чтобы обнял, и косточки хрустнули.
Хоть взглядом была и чиста, а жила она с какой-то обречённостью. Словно с закрытыми глазами бросилась она в волны. Словно решила: пусть несёт меня ветер, куда несёт. Это-то и придавало ей очарование.
Пришло письмо от двоюродного брата. Он жаловался, что кашляет. «Впрочем, это говорит только о том, что настало время для предначертанного судьбой. Я спокоен. Есть только одно, о чём я сожалею. Почему это я, когда был здоров, хоть один раз не поцеловал тебя? Но пусть хоть твои губы не знают этой убийственной заразы!»
Прочтя письмо, она тут же отправилась к брату. В скором времени её направили в туберкулёзный санаторий на берегу моря. Молодой доктор ухаживал за ней так, словно она была единственным пациентом во всей лечебнице. Каждый день он доставлял на самую оконечность мыса её каталку, похожую на детскую коляску. На заросли бамбука там всегда падал солнечный свет.
Рассвет. «Вы полностью выздоровели. Полностью. Я очень ждал этого дня», – говорит доктор и помогает ей встать с каталки, которая стоит на самой вершине скалы. «Ваша жизнь начинается снова – точь-в-точь как нынешний день. Почему же корабли не подняли свои паруса, окрашенные в счастливый персиковый цвет? Простите меня! Я ждал сегодняшнего дня, как если бы у меня было два сердца. Одно – вашего лечащего врача, второе – моё собственное. О, как я ждал этого дня! И как страдал от того, что не мог относиться к тебе просто как любящий человек. Ты выздоровела! Настолько, что уже можешь отдаться своим чувствам. Почему же всё море не окрасилось в персиковый цвет?»
Она с благодарностью взглянула на врача. Потом обратила свой взор в сторону моря и стала ждать. К её удивлению, мысль о потере девственности ничуть не беспокоила её. С самого детства девушка ждала смерти. Поэтому она не верила в существование времени. Она не верила в продолжение времени. И поэтому никакой девственности для неё просто не было.
– Ты, наверное, заметила, с какими чувствами я смотрел на твоё тело. И в то же время я должен был смотреть на него, как врач. Для врача твоё тело – это лаборатория.
– Что-что?
– Прекрасная лаборатория! Если бы я не был врачом, моё томление убило бы тебя!
Услышав это, она почувствовала отвращение. Она отвернулась, чтобы он не видел её глаз.
Потом с ней заговорил писатель, который лечился в том же санатории. «Поздравим друг друга! Давай выпишемся отсюда в один и тот же день!» Выйдя за больничные ворота, они сели в автомобиль и помчались по дороге через сосновый лес.
Писатель едва прикоснулся к её маленькому плечу, как бы намереваясь обнять её. Она – лёгкая и бессильная – тут же прислонилась к нему. Они отправились путешествовать.
«Это персиковый рассвет нашей жизни. Есть моё утро, но есть и твоё утро. И это так странно. И вот эти два утра встречаются. Да, именно так. Неплохо сказано. Я напишу роман и назову его "Два утра"».
Она взглянула на него. Её глаза были счастливыми.
– Вот, посмотри, я уже написал о тебе. И пусть даже мы оба умрём, мы всё равно останемся жить на этих страницах. А теперь настало второе утро. Чистая, ничем не замутнённая красота. Невидимая красота в твоей жизни, похожая на аромат, источаемый весенними цветами. В моём романе будет заключено именно такое понимание прекрасного. Но так трудно выразить это словами! Положи мне на ладонь свою душу! Пусть искрится – словно кристалл хрусталя. И тогда я сумею написать этот роман!
– Что-что?
– Превосходный материал! Если бы я не был писателем, я бы не сумел воскресить тебя для далёкого-далёкого будущего.
Услышав это, она почувствовала отвращение. И, чтобы он не мог видеть её лица, отвернулась.
Она сидела одна в своей комнате. Брат уже умер.
«Персиковый цвет, персиковый цвет», – она вспомнила эти слова, разглядывая свою белую прозрачную кожу. Вспомнила и рассмеялась. «Стоит кому-то сказать, что я нужна ему, как я уже на всё готова», – смеясь, подумала она.
[1924]
Закат
Близорукая женщина возбуждённо сочиняла открытку во дворе почты. «Окно поезда, окно поезда, окно поезда», – трижды написала она и перечеркнула. «Нынешнее время, нынешнее время, нынешнее время».
Сотрудник отдела экстренной доставки почёсывал карандашом в затылке.
На кухне ресторана повар завязывал тесёмки передника официантки. «Сзади завязывать, что ли? Так теперь не делают. Давай спереди под грудью завяжу». – «Давай!»
А поэт покупал сахар. Приказчик воткнул огромный совок в гору сахарного песка. «Приду домой, а лепёшек печь не стану. А если насыпать песку в карман, белые, светлые мысли придут в голову». Вслед встречным прохожим поэт забормотал: «Эй вы, вы идёте в прошлое! А я направляюсь в будущее. Кто со мной? В будущее-то всякому хочется. Ерунда какая-то».
Мальчишка-рассыльный объехал близорукую женщину на велосипеде. «Послушай-ка. Я ведь близорукая. В лавке сахар белый-белый, а я его не вижу. Я даже подумала, что тот мужчина вместе с той женщиной вошли в поезд через окно! И он, вот меня такую… Эй, мальчик!»
Поэт и официантка весело беседовали в ресторане.
– А у тебя новенький передник. Покажись-ка сзади. Смотри-ка, а у тебя там новый бантик. И беленький какой.
– Мне так не нравится! Не заглядывайте на меня сзади.
– Договорились. Я прямо вперёд в будущее направлялся, так что и ты ко мне передом встань.
И в эту минуту солнце, освещавшее крышу ломбарда, расположенного в самом западном конце улицы, берущей начало на востоке этого города, беззвучно скрылось.
Вот. И тогда пешеходы как-то разом вздохнули и перешли на прогулочный шаг. Сами они, правда, не заметили этого.
Дети, игравшие на восточном конце улицы, уставились на запад, напружинили ноги, напрягли мускулы и подпрыгнули. Они хотели увидеть зашедшее солнце.
– Вот оно!
– Вот оно!
– Вот оно!
Но только это было враньё. Никакого солнца видно не было.
[1924]
Летние туфельки
Пятеро бабок в экипаже дремали; одновременно они вели разговор о том, какой богатый урожай мандаринов выдался этой зимой. Кобыла весело бежала, подёргивая хвостом – будто хотела догнать чайку в небе.
Возница Кандзо очень любил лошадей. Кроме того, во всём городке только он один владел восьмиместным экипажем. Кроме того, строй его души был таков, что экипаж его был всегда украшен лучше других. Когда дорога шла в гору, он проворно соскакивал на землю, чтобы лошади было полегче. Ему очень нравилось вот так проворно соскакивать и снова садиться на облучок. Кроме того, по тому, как тянула лошадь, он, даже сидя на своём облучке, мог мгновенно определить, что к экипажу прицепились детишки, и тогда он проворно спрыгивал на землю, и на их головы обрушивались его кулаки. А потому для детей экипаж Кандзо был самым желанным и самым страшным.
Но сегодня Кандзо отчего-то не удавалось никого поймать. Ему не удалось схватить ни одной из этих маленьких обезьянок на месте преступления. А ведь как хорошо у него всегда получалось: словно кошка соскакивает он с облучка, обегает экипаж, и на головы ничего не подозревающих ребятишек обрушиваются его кулаки. Кандзо гордился своим проворством.
«Вот я тебе!»
Кандзо пришлось уже в третий раз спрыгнуть с облучка. Девочка лет двенадцати-тринадцати шла по дороге позади экипажа. Щёки её горели от возбуждения. Плечи ходуном ходят, дышит тяжело, глаза горят. Одета не по-нашему, а в платье персикового цвета. Но носки спадают. И при этом – без туфель. Кандзо глядел на неё с подозрением. Она же шла, повернув голову в сторону моря, пока не поравнялась с экипажем.
«Ну и дела!» – Кандзо прищёлкнул языком и взобрался на облучок. Кандзо сдерживал себя, поскольку прикинул, что эта шикарная и красивая девочка приехала отдыхать на приморскую виллу. Но он был вне себя, поскольку уже в третий раз ему не удалось поймать её. Ведь девчонка проехала на задке его экипажа уже пару километров! И Кандзо от досады подхлестнул свою любимую кобылу, чтобы она бежала побыстрее.
Экипаж въехал в небольшую деревеньку. Кандзо громко затрубил в рожок и продолжал путь ещё быстрее. Он оглянулся. Девочка бежала – выпятила грудь, волосы разметались по плечам. Один носок она теперь держала в руке. Через секунду она прицепилась к экипажу. Кандзо посмотрел через заднее стекло салона и прямо-таки ощутил, как съёжилось там тело девчонки. Но когда он спустился на землю уже в четвёртый раз, девочка преспокойненько шла вслед.
– Эй ты, куда тебе?
– Девочка потупилась и промолчала.
– Ты что, прям до порта у меня ехать хочешь?
Девочка молчала.
– До порта, спрашиваю?
Девочка кивнула.
– Ты только на ноги свои погляди! На ноги! До крови уже сбила. Ну ты и отчаянная!
Кандзо нахмурился.
– Давай-ка садись. В салон садись. А не то лошади тяжело. Прошу тебя, залазь внутрь. Не то все меня за дурака держать станут.
Кандзо открыл дверцу. Залез на облучок и через какое-то время оглянулся – девочка понуро сидела в салоне, уставившись в пол, весь её задор куда-то пропал, она даже не пыталась выдернуть подол платья, зажатого дверцей.
Однако уже после того, как они доехали до порта, на обратном пути Кандзо снова увидел, как она тащится за экипажем. Он снова открыл дверцу.
– Дяденька, мне в салоне не нравится. Я не хочу там ехать.
– Ты только на ноги свои погляди. На ноги. У тебя весь носок в крови. Ну ты и отчаянная!
Преодолев длинный подъём, экипаж приблизился к пункту отправки.
– Дяденька, можно я здесь сойду?
Кандзо посмотрел на обочину и на пожухлой траве увидел пару белых туфелек.
– Ты что, и зимой в белых ботинках ходишь?
– Да нет, просто я сюда летом попала.
Обула туфельки и ушла-улетела, словно белая цапля, в свой исправительный дом на горе.
[1926]
Случай с мёртвым лицом
«Проходите. Видите, что с ней сталось? А как она хотела ещё раз увидеть вас!»
Тёща торопливо провела его в комнату. Люди, находившиеся у постели его покойной жены, разом обернулись к нему.
«Посмотрите на неё», – тёща стала стаскивать белое покрывало с лица покойной.
Неожиданно для самого себя он произнёс: «Подождите. Можно я попрощаюсь с ней один? Можно я останусь с ней наедине?»
Её родители и братья с сёстрами восприняли его просьбу с пониманием. Они тихонько покинули комнату и закрыли дверь.
Он снял покрывало.
Лицо покойной выражало предсмертную муку. Щёки запали, из полуоткрытого рта торчали зубы. Они были какого-то мертвенного цвета. Жизнь ушла из её век, зрачки как бы прилипли к ним. На лбу застыло смертельное страдание.
Какое-то время он сидел неподвижно, глядя на это ужасное лицо сверху вниз. Потом вытянул дрожащие руки и попытался сомкнуть её губы. Но как только он отнял руки, насильно закрытые челюсти снова развалились. Он снова попытался сомкнуть их. Никакого толку. Он проделывал эту операцию множество раз. Единственным результатом было то, что жёсткие складки вокруг рта несколько разгладились. Он ощутил, как на кончиках пальцев собирается страсть. Он гладил её лоб – пытался стереть с лица смертельное напряжение. Ладони стали тёплыми.
Теперь он снова сидел без движения и смотрел на изменившееся лицо.
Вошли мать жены и её младшая сестра. «Вы, должно быть, устали в поезде, поешьте чего-нибудь, а потом отдохните… Что это?» Мать вдруг заплакала. «Человеческая душа – это такая страшная загадка. Моя дочь не могла умереть полностью – до тех пор, пока вы не вернётесь. Как странно! Вы только разок посмотрели на неё – и теперь её лицо стало таким спокойным. Всё стало хорошо. Теперь ей стало хорошо».
Сестра жены посмотрела в его полубезумные зрачки своими чистыми глазами неземной красоты. И зарыдала.
[1925]
Звуки шагов
Он выписался из больницы, когда цвели павлонии.
Дверь на веранду второго этажа кофейни была открыта. Возле неё стоял бой в новёхонькой белой униформе.
Левую руку, лежавшую на столике веранды, приятно холодил мрамор. Правой он подпёр щёку. Локтем опёрся о балюстраду. Его глаза жадно впитывали в себя прохожих. Те бодро шествовали по мостовой в энергичном свете уличных фонарей. Веранда была расположена низко. Казалось, возьми трость – и сможешь стукнуть прохожего по голове.
– В городе и в деревне всё разное, даже лето по-другому чувствуется. Ты так не думаешь? Крестьянин вряд ли ощутит наступление лета только по тому, как изменилось уличное освещение. В деревне трава и деревья всё время меняются. А вот здесь, в городе, только человек меняет цвет своей одежды. Посмотри, вон сколько людей идёт – и все в летнем. Так вот они создают лето.
– Антропогенное лето. Неплохо.
Так он беседовал с женой и вспоминал запах павлонии, проникавший в палату. Он закрыл глаза и тут же погрузился в мир, где были одни ноги. Клетки его мозга превратились в каких-то странных насекомых в форме ног, насекомых, которые ползали по его миру.
Конфузливо смеющиеся женские ноги, переступающие через какой-то предмет. Предсмертные ноги, испуганные и как будто одеревеневшие. Ноги лошади, растущие из худой промежности. Напружиненные ноги, в которых затаилась страшная сила – тупые и толстые, сработанные словно из жира освежёванного кита. Вытянутые ночные ноги нищего калеки. Скрюченные ноги младенца, только что вступившие на путь, начинающийся между ног матери. Усталые, как сама жизнь, ноги служащего, бредущие домой после получки. Ноги, переходящие вброд реку и омытые от ступней до бёдер чистой водой. Решительные, как отутюженная складка на тонких брюках, ноги, ищущие любви. Недоуменные ноги девочки: ещё вчера они косолапили своими повёрнутыми друг к другу ступнями, а теперь они хотят, чтобы твоё лицо улыбалось им с нежностью. Ноги, по ляжкам которых бьёт тяжёлый кошелёк в кармане. Злобно смеются ноги бывалой женщины, а на лице – приветливая улыбка. Ноги дома – босые и покрытые застывшим потом. Соблазнительные ножки актриски – вчера они принадлежали преступнице, а сегодня – праведнице. Ноги певца на высоких каблуках поют о брошенной ими женщине. Ноги, полагающие, что грусть – тяжела, а радость – легка. Ноги спортсмена, ноги поэта, ноги ростовщика, ноги аристократки, ноги пловчихи, ноги студента. Ноги, ноги, ноги…
И вот, наконец, ноги его жены.
На переломе от зимы к весне его мучили боли в коленях. Правую ногу пришлось ампутировать. Вот почему и преследовали его на больничной койке эти видения. Вот почему и полюбил он эту кофейню, откуда он мог обозревать оживлённую улицу. Веранда служила для него подобием подзорной трубы. С жадностью наблюдал он мостовую, по которой, сменяя друг друга, шествовали здоровые пары ног. Их мерная поступь завораживала его.
«Я впервые понял, что это значит – жить без ноги. Как хорошо в начале лета… Я так хочу выписаться из больницы и попасть в наше кафе именно в это время», – говорил он жене, глядя на белые цветы магнолии. «Сама подумай: лучшее время для ног – это начало лета. Именно тогда поступь городского человека – самая уверенная и мягкая. Нужно бы мне выписаться до того, как отцветёт магнолия».
Сидя на веранде, он оглядывал всякого прохожего с любовной нежностью.
– И ветерок такой чудесный – будто первый раз в жизни его ощущаю.
– Сейчас как раз лето и начинается. Никто больше не надевает тёплого белья, всё вчерашнее – уже в кладовке.
– Это не так важно. Главное – это ноги, походка.
– Ну что ж, хочешь, я спущусь вниз и пройдусь перед тобой?
– Нет, это не то. Ты же сама сказала, когда мне отрезали ногу, что теперь из двух человек у нас получился один, но с тремя ногами.
– Ты говоришь, что начало лета – самое лучшее время. Теперь ты доволен?
– Помолчи лучше. А то не слышно шагов на улице.
Он напряг слух – пытался втянуть в себя драгоценные звуки шагов ночного города. Закрыл глаза. И тут же звуки шагов проникли, пролились в него – словно капли дождя упали в озеро. Его уставшее лицо разгладилось, просветлело, обрадовалось.
Но вскоре радость исчезла. Потом его лицо как-то позеленело, и он открыл глаза больным человеком.
– Ты не понимаешь. Все люди – калеки. По шагам слышно, что у каждого чего-то не хватает.
– Да, может быть. Может, и так. Наверное, оттого, что сердце у нас только с одной стороны.
– Звуки шагов такие болезненные не только из-за ног. Если прислушаться, поймёшь – это тяжесть на душе. Тело клонится к земле и горюет, потому что обещает похороны души.
– Да, наверное, ты прав. Не только в ногах дело, здесь есть что-то ещё. Как на это дело взглянуть… В общем, ты, как всегда, говоришь о нервах.
– Да послушай же! Все эти уличные шаги – медицинский диагноз. Все инвалиды – вроде меня. У меня отрезали ногу, я вернулся, чтобы насладиться звуками шагов здоровых ног, я ничуть не желал обнаружить у людей какие-то там болезни. Я совсем не хотел впасть в депрессию. Нужно во что бы то ни стало избавиться от неё. В деревню, что ли, поехать? Может, хоть там души и тела здоровы. Может, хоть там мне удастся услышать шаги пары здоровых ног.
– Ерунду какую-то говоришь. Иди лучше в зоопарк – там у каждого по две пары.
– Что ж, ты права. Лапы у зверей и крылья у птиц – это действительно здорово, звуки природы – прекрасны.
– Да я же пошутила!
– Как только человек встал на ноги, болезни души стали одолевать его. Вот поэтому-то и звук людских шагов так нехорош.
У него было лицо человека, душа которого лишилась ноги и подпоры. Жена помогла ему сесть в машину. Шуршание шин подхватило калеку, больная душа жены отозвалась в нём. Придорожные фонари раскачивались, словно яркие цветы наступающего лета.
[1925]








